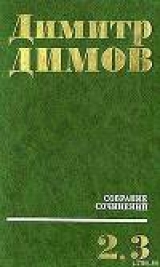
Текст книги "Табак"
Автор книги: Димитр Димов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 59 (всего у книги 61 страниц)
– Костов! – крикнула она, но не услышала своего голоса.
Ответа не было. Эксперт сидел так же неподвижно. В глухой тишине слышались лишь хриплые звуки, что-то вроде сдавленных рыданий, и вырывались они из груди Виктора Ефимовича. Ирина поняла, что он плачет. Она подбежала к Костову, наклонилась и посмотрела ему в лицо. Изо рта у него, запекаясь, сочилась струйка крови, а на ковре у полы шелкового халата валялся револьвер. На столе лежало несколько писем.
Вероятно, все произошло лишь полчаса назад, может быть, спустя несколько минут после того, как Ирина позвонила сюда по телефону. Вернувшись в холл, она увидела, что Виктор Ефимович повалился в кресло и пьет коньяк. «Скотина! – подумала она. – Если бы он так но напивался, он, наверное, заметил бы что-нибудь и предотвратил бы несчастье». По ей тут же пришло в голову, что Костову не хотелось, да и не для чего было жить. Невольно она подумала и о себе, и все в ней застыло. Быть может, и ей не для чего жить.
Ирина вернулась домой к вечеру после длительного допроса в милиции, где самоубийство главного эксперта «Никотианы» вызвало большие подозрения. Чтобы не ночевать в участке, Ирине пришлось напомнить о своей родственной связи с Павлом и попросить начальника позвонить в штаб гвардейской части. Наконец ее освободили под поручительство Данкина, который сухо удостоверил, что Ирина действительно приходится невесткой товарищу Мореву и не замешана в открытой фашистской деятельности.
Снова пошел мелкий дождь и окутал туманной пеленой редкие уличные фонари. Впервые за последние десять лет Ирине пришлось добираться домой пешком и под дождем, рискуя испортить прическу. «Теперь и к парикмахеру придется ходить пешком, – с досадой подумала она, вспомнив, что ее автомобиль уже реквизирован. – Совсем как в студенческие годы, когда я отказывала себе во многом, чтобы купить красивые туфли и чулки». И тут на нее повеяло свежестью юных лет, когда первые осенние дожди поднимали в душе бодрое волнение перед началом нового учебного года в университете. Подобное волнение она почувствовала и сейчас, увидев освещенные окна в комнате Павла.
Она поднялась на второй этаж, переоделась, поправила испорченную дождем прическу и нерешительно постучалась к Павлу. Он ответил, и ей показалось, что его знакомый ровный баритон прозвучал приветливее, чем в прошлый раз.
Но при первом же взгляде на Ирину лицо его застыло, и она поняла, что он ждал не ее, а Данкина или кого-нибудь другого из своих подчиненных. Павел был, как всегда, чисто выбрит, гладко зачесанные назад волосы обнажали его высокий лоб. Взгляд его казался непреклонным, а плотно сжатый рот особенно энергичным. Он был в кителе с золотыми дубовыми листочками па стоячем воротнике и длинных брюках с красными лампасами; из-под отворотов брюк выглядывали черные, тщательно вычищенные ботинки. Очевидно, он собирался на вечерний прием в какое-нибудь посольство. Ирина привыкла отличать с первого взгляда подтянутых и энергичных мужчин от ленивых и распущенных и теперь сразу же оценила безукоризненную внешность Павла. Но ей показалось странным, что новому миру тоже не чужды элегантность и красота. Скрывая свое удивление, она спросила:
– Вы, вероятно, собираетесь на прием?
Павел поморщился и ответил сухо:
– Я буду занят с девяти часов. – Потом взглянул на ручные часы и добавил равнодушно: – Времени хватит.
Огорченная и рассерженная его безразличием, она села в кресло и вынула сигарету из своего маленького серебряного портсигара, ожидая, что Павел поднесет ей спичку. Но он не смотрел в ее сторону, и она быстро и нервно зажгла спичку сама.
– Что за неприятности были у вас с милицией? – спросил он, укладывая в ящик стола какие-то бумаги.
Она ответила:
– Застрелился эксперт пашей фирмы.
– Вероятно, он чувствовал за собой какую-то вину?
– Нет. Просто ему не для чего было жить.
Ирина в нескольких словах описала ему Костова и рассказала об Аликс. Павел спокойно выслушал ее и сказал:
– Мы не сделали бы ему ничего плохого.
Наступило молчание. Осенний дождь пошел сильнее и уныло забарабанил по крыше. Неподвижное лицо Павла не выражало ничего, кроме неумолимой, обезнадеживающей холодности. И тогда Ирина, теряя остатки самообладания, быстро спросила:
– Это вы вскрыли сейф в моей спальне?
Павел неожиданно усмехнулся, и усмешка у него вышла какая-то горькая. Он закурил сигарету и сказал:
– Да.
– По какому нраву? – простонала она.
– По нраву, которое мне дал народ.
Ирина нашла в себе силы проговорить:
– Избитое оправдание, которое повторяют все… – И немного погодя добавила: – Что вас интересовало?
– Прошлое моего брата.
«Лицо Павла омрачилось. Глаза его смотрели зорко, холодно, неумолимо. Сейчас они были чем-то снова похожи па глаза Бориса.
Ирина спросила:
– А договоры и секретную переписку с Германским папиросным концерном вы уничтожили?
– Нет, – ответил он. – Я передал ее в Центральный Комитет партии.
Сейчас он казался Ирине таким же дьяволом, как Борис. Но в глазах Павла не было того тоскливого и злобного огня, который часто вспыхивал во взгляде среднего брата.
– Остается только радоваться, что ваш брат умер…
– Нет! – возразил Павел, и голос выдал его угрюмое волнение. – Радоваться нечему! Он должен был ответить перед судом народа!
– Неужели вы бы не спасли его?
– Я обвинял бы его так беспощадно, как никто другой. – Лицо у Павла передернулось от ненависти, которую он был не в силах скрыть. – За Стефана, за рабочих, убитых во время забастовки табачников. Я и не подозревал, на какие подлости был способен мой брат.
– Но ведь он помогал вам… укрывал вас, когда вы были на нелегальном положении.
– Расчетливость мошенника… Вы же сами предупреждали меня, что, если немцы победят, он выдаст меня.
Снова наступило молчание, нарушаемое лишь погребальной барабанной дробью дождевых капель. Ночь была тосклива и непроглядна. Ирина зябко повела плечами.
– Все это так страшно… страшно, – прошептала она.
А он проговорил сурово:
– Да, страшно, но жизнь идет вперед.
Она вспомнила, что то же самое говорил Динко перед смертью. То же самое часто говорили неимущие студенты медицинского факультета, когда отправлялись на митинг, заранее зная, что конная полиция разгонит их плетьми и резиновыми дубинками. То же самое она сейчас подумала сама, но смутно и неуверенно – смысл этих слов хоть и проник в ее сознание, но как-то стороной, не принеся ей облегчения. Ирина вздрогнула от сухого металлического треска, когда Павел щелкнул зажигалкой, и глухо спросила:
– Вы читали и другие бумаги?
В глазах его промелькнуло мгновенное колебание. Потом он ответил сухо:
– Личная переписка брата меня не интересует.
– Некоторые письма… касаются меня, – сказала она.
– Я их не читал, – отозвался он.
Она поняла, что он лжет из великодушия, по доброте, не желая унижать ее, может быть, во имя той ночи, когда они разговаривали наедине и ей показалось, что их обоих коснулось что-то неуловимое и сладостное.
– Не может этого быть!.. – В ее голосе прозвучала горькая насмешка над его ложью. – Конечно, это не так… Вы просто лжете, потому что хотите пощадить меня. Вы знаете, что я развратница… падший человек. Ради меня фон Гайер давал «Никотиане» огромные заказы. Я безумно прожигала свою жизнь, а потом стала делать глупости.
– Я этого не знал, – холодно произнес Павел.
– Теперь знаете.
– Не вижу необходимости знать.
Тон его был по-прежнему сух и равнодушен, и это терзало ее сильнее, чем любые упреки. И тут она горько заплакала, как в дни своей юности, как в тот день, когда узнала, что «Никотиана» отняла у нее Бориса. А теперь что-то другое отнимало у нее Павла, и это опять была все та же «Никотиана», зловещий призрак – символ погибающего мира, который обманул и погубил столько людей. Все яснее осознавала она свое невыносимое, тяжкое горе. Она слабо вскрикнула и, чтобы подавить нервный припадок, стиснула зубами руку. Потом виновато и пристыжено взглянула на Павла. Он молчал, неторопливо затягиваясь сигаретой. Ничто не могло поколебать его равнодушия.
Она подумала, что он, наверное, видел в партизанских отрядах десятки честных мужчин и женщин, которые сражались и погибали от стужи, голода и ран, и что пафос их жизни был куда более волнующим, чем драма какой-то опустошенной светской кающейся грешницы. К его равнодушию, возможно, примешивалось и отвращение, которое внушают женщины, подобные ей, уравновешенным и сильным мужчинам. И тогда она поняла, что никогда его не завоюет, а в ту памятную ночь любовь промчалась мимо, так и не коснувшись ее. Нечего было больше ждать – ни от этого человека, пи от жизни, ни от будущего… Надежда, теплившаяся спасительным огоньком в ее душе, снова погасла в мрачной тени. «Никотиана», даже погибнув, продолжала разделять людей.
Окончательно уничтоженная, Ирина поняла, что ей остается только уйти, но Павел остановил ее:
– Что вы собираетесь делать?
Она глухо ответила:
– Не знаю.
– Деньги у вас есть?
– Деньги?
Она непонимающе смотрела на него.
– Ну да, деньги… Ведь без денег вам не прожить.
– Есть, – машинально ответила она.
У нее были в заграничных банках огромные суммы – грязные деньги, которые она выжимала из Бориса и фон. Гайера. Но на что ей были сейчас эти деньги? Чтобы продолжать свое паразитическое существование в каком-нибудь швейцарском городке, потерять человеческий облик, а под старость, когда тело увянет и сладострастие превратится в болезненную извращенность, нанимать любовников по примеру госпожи Спиридоновой? Сейчас она с радостью отдала бы все, что имела, за одно лишь теплое слово этого человека, только за то, чтобы он ничего не знал про анонимные письма. Ои стал ей что-то говорить. Теплые слова?… Нет, его голос звучал холодно, с резкими металлическими интонациями, полными враждебности и скрытого презрения, сухо и наставительно. Павел говорил ей об общественном долге, о труде, о возможности получить место врача на заводе.
Ирина перебила его вопросом:
– Вы можете выхлопотать мне заграничный паспорт?
Павел удивленно взглянул на нее и ответил:
– Нет, об этом не может быть и речи.
– У меня большие вклады за границей, – хвастливо заметила она. – Я могу хорошо отблагодарить вас.
Он опять взглянул на нее, пораженный и возмущенный ее словами. А она в исступлении следила за выражением его лица. Хорошо!.. Пусть испытает отвращение к ее продажности, пусть убедится, что все правда, пусть видит, что она гнусный и жалкий червяк, извивающийся в развалинах погибающего мира!.. Очень хорошо!.. Она стала поносить партию и коммунистов, как простая баба, жена какого-нибудь полуграмотного, разжившегося за войну лавочника, у которого конфискуют припрятанные товары. Затем она снова начала уговаривать Павла достать ей паспорт, спрашивала, каким образом можно переправить за границу драгоценности, обращалась к нему с наивными, по обидными предложениями пуститься на хитрости, оскорбляя его достоинство и партийную честь. Возможно, что он или кто-нибудь из его товарищей поедет за границу… Как, неужели нельзя это устроить? Ведь когда имеешь дипломатический или служебный паспорт, багаж по проверяют.
Сначала он только смотрел на нее, пораженный, потом рассмеялся, и, наконец, в глазах его сверкнул гнев.
– Перестаньте! – сказал он. – Вы не в своем уме.
– Я вполне нормальна.
– Вы говорите вздор!..
– Нет, я вам предлагаю разумную сделку.
Он пришел в негодование.
– Сию минуту выйдите из моей комнаты! – приказал он.
– Ишь ты! С каких пор эта комната стала вашей?
Павел испытующе оглядел ее, словно усомнился на миг, в здравом ли она уме. А она исподтишка следила за ним лихорадочными, расширившимися от нервного срыва глазами… Прекрасно!.. Еще немного, и он возненавидит ее до омерзения, еще немного, и он будет презирать ее, как последнюю, бесстыжую шлюху. Ей будет легче, когда станет ясно, что любовь ее безнадежна, что путь к этому человеку закрыт, что ей нечего больше ждать от жизни!.. Л затем – небытие, забвение, бесконечность вне времени, материи и пространства, вечный покой смерти, во мраке которой замирает трепет каждой жизни… И сейчас она сознательно, активно стремилась к этому покою, к этому мраку, в который Костов, бесполезный обломок прошлого, сегодня проложил себе дорогу револьверным выстрелом.
Вдруг Ирина заметила, что гнев исчез с лица Павла, уступив место сосредоточенной озабоченности. Произошло невероятное – он взял ее за руку, а в его острых, пронзительных глазах, умевших проникать в душу человека, светилось любопытство, упорное желанно что-то выяснить. Что это, подумала она, холодное сочувствие к вдове ненавистного брата или неожиданный, мучительный шаг назад?… Нет, этого она не допустит!.. И в тумане душевных мук и нервного потрясения Ирина расслышала вопрос:
– Вы знакомы с фрейлейн Дитрих?
– Да! – солгала она в порыве исступления. – Я часто приглашала ее на чашку чая.
В глазах Павла сверкнул хитрый, торжествующий огонь.
– Вы снабжали ее какой-нибудь информацией? – продолжал он.
– Да! – яростно выкрикнула Ирина. – Я сообщала ей обо всем!.. О слухах при дворе, о собраниях англофилов, о заигрывании Бориса с Отечественным фронтом… Обо всем, обо всем!..
– Вы знали, кто она такая?
– Знала… Агент гестапо.
– А вы предвидели, к чему это поведет, если мы придем к власти и узнаем все это?
– Да… Арестуйте меня, предайте Народному суду.
Он неожиданно рассмеялся, но не жестоко, а с оттенком теплоты.
– Весь архив фрейлейн Дитрих в наших руках, – сказал он.
– Вот видите! – Ирина дико, болезненно наслаждалась уверенностью, что наконец-то ей удалось обмануть его. – Значит, у вас есть доказательства… Арестуйте меня, чего вы ждете?
И в этот миг она без чувств упала ему на руки.
Павел вызвал по телефону Лилу. Минут через десять она приехала на служебной машине с личной охраной из двух человек, которые остались па первом этаже. Лила была в простом платье из черной шерстяной ткани. Ее русые волосы были уложены па затылке красивым, по чуть небрежным узлом. На лице, не знающем косметики, еще сохранился бронзовый загар, которым его покрыло солнце в горах юга. Светлые глаза смотрели проницательно и спокойно. Лилу можно было назвать очень красивой, но несколько холодной женщиной. Такое впечатление складывалось у мужчин, когда они узнавали про ее партизанское прошлое и высокий пост, который она занимала теперь. Ни один человек не осмелился бы взглянуть па нее так, как он смотрел на любую другую красивую женщину.
Павел встретил ее в коридоре.
– Что стало с захваченным архивом гестапо? Милиция разобралась в нем? – спросила Лила.
– Да. Фрейлейн Дитрих в одном из своих докладов упоминает, что Ирина очень мешала ей… гнала ее с порога, как чумную… Дитрих подозревала о заигрываниях «Никотианы» с Отечественным фронтом и даже обвиняла Ирину в посредничестве…
– Вот видишь? – с торжеством перебила Лила.
– Что вижу?
– Что Ирина не замешана в антинародных делах.
– Давай тогда причислим ее к деятельницам Сопротивления!
Лила рассмеялась, но в ее смехе сквозило сочувствие к Ирине. Шутки Павла помогали ей отдыхать после часов напряженной работы, бесконечных заседаний с говорливыми и не внушающими доверия союзниками Отечественного фронта.
Когда Ирина открыла глаза, она увидела, что лежит в постели, а возле нее стоят Павел, ее служанка и подполковник Данкин, белокурые вихры которого цветом напоминали кукурузный початок. Немного погодя откуда-то появился еще один человек в офицерской форме и пилотке, на которой поблескивала красная звездочка. В руках у него был шприц, и он сделал Ирине укол в руку. Потом положил шприц на стол и дал знак остальным отойти. По красной звездочке и погонам медицинской службы Ирина догадалась, что перед нею, вероятно, военный врач партизанской группы, штаб которой расположился на первом этаже. Лицо у него было темно-шоколадного цвета, с выдающимися скулами и чуть раскосыми миндалевидными глазами. Это было необычное лицо, и оно показалось Ирине знакомым. Где она видела этого человека? Она тщетно напрягала память и, ничего не вспомнив, решила, что ей показалось.
– Что со мной было? – прошептала она.
Партизанский врач ответил:
– Обморок, как результат сильного волнения, и нервная лихорадка. Не беспокойтесь, все пройдет.
– Сейчас мне лучше, – сказала она.
– Я сделал вам укол, чтобы поддержать сердце, а теперь примите успокоительное. Постарайтесь заснуть.
– Да, это хорошо… Дайте мне саридон.
Но в казарменных аптеках не было саридона, и он дал ей другое лекарство – порошок, который развел в стакане воды. Потом врач обратился к находившимся в комнате:
– Больной необходим полный покой.
Служанка и Данкин вышли. Врач посмотрел на Ирину, потом на Павла и Лилу и, видимо, о чем-то догадавшись, добавил шепотом:
– Никаких разговоров!
– Понятно, доктор… Видимо, события на нее повлияли.
– Да, есть от чего расстроиться. Как только она поднимется, отвезите ее к матери.
– Так и сделаем.
Врач направился к двери. Павел подошел к Лиле и тихо сказал:
– Я буду ждать тебя в своей комнате.
Он вышел вместе с врачом.
Лила осталась у постели Ирины.
Ирина дышала ровно, глядя куда-то в пространство полуоткрытыми невидящими глазами. Лила в раздумье рассматривала ее профиль с легким орлиным изгибом линии носа и горькими складками в уголках губ. Густые иссиня-черные волосы ее были мягки как шелк. Грудь и плечи излучали какую-то магнетическую силу. Наверное, от этой силы дрогнул и Павел в ту ночь в Чамкории. Но сейчас Лила понимала, что то был лишь бессознательный рефлекс. Ирина не могла нравиться такому мужчине, как Павел. Она его лишь слегка взволновала тогда, год назад, когда нервы его были взвинчены напряженной жизнью подпольщика, бессонными ночами, постоянно грозящей опасностью попасть в руки гестапо или болгарской полиции. Ирина с ее исковерканной душой, распавшейся волей, извращенным умом была всего лишь никчемным обломком прошлого. Она была безнадежно подточена своими пороками и обречена на гибель. И все это накладывало отпечаток на ее лицо – от ее призрачной красоты веяло вырождением.
Спустя несколько минут Ирина заснула. Выходя из комнаты, Лила еще раз взглянула на нее. В мягком кремовом свете ночника лицо Ирины казалось все таким же красивым, но красивым неприятной, безжизненной красотой. Теперь она вызывала у Лилы только жалость, смешанную с признательностью за отзывчивость, которую Ирина проявила к ней десять лет назад.
Ирина осталась одна. За окном была осенняя ночь, и дождевые капли отбивали погребальную дробь на черных оконных стеклах.
– Насмотрелась на нее! – задумчиво сказала Лила, входя к Павлу.
– Ты убедилась, что я был прав?… Я вхожу в ее положение, и в то же время она меня раздражает. Ее присутствие в доме неудобно. Здесь штаб. Товарищи вправе сделать мне замечание.
– Глупости. – Лила что-то обдумывала, пристально глядя прямо перед собой. – Я должна ей помочь! – сказала она, помолчав. – Никогда не забуду, как она помогла мне. Если бы не она, я бы осталась калекой.
– И я бы не любил тебя, не так ли? – спросил Павел.
– Нет! – Лила улыбнулась. – Я уверена, ты все равно любил бы меня.
Павел обнял ее. Лила ответила на его поцелуй, но потом легонько оттолкнула и потянулась за брошенным па спинку кресла пальто.
– Ты не останешься? – огорченно спросил Павел.
Она ответила:
– У нас ночное заседание.
На следующий день Ирина проснулась около полудня, вялая и с тяжелой головой от сильного снотворного, которое дал ей военный врач и которое предназначалось но для слабонервных женщин, а для тяжелораненных бойцов, мечущихся в предсмертной агонии. Снизу доносился знакомый шум: телефонные звонки, топот подкованных сапог, гудки автомобилей и треск мотоциклов. Сквозь кружевные занавески в окна просачивался печальный белесый свет ненастного дня. Служанка подала ей завтрак в постель, по Ирина не прикоснулась к еде: ее поташнивало от лекарства, в состав которого, вероятно, входил опиум. Вскоре пришел партизанский врач – смуглолицый, с монгольскими чертами лица, в пилотке с красной звездой. Глядя па пего, Ирина опять подумала, что была когда-то знакома с этим человеком.
– Меня тошнит, – сказала она.
– Это от лекарства… Вы ведь врач?
– Была когда-то, – ответила она.
Он не сразу отозвался. Может быть, он ее не понял потому, что ничего не знал о ней. Наверное, ему никогда но пришло бы в голову, что женщина с дипломом врача может торговать своим телом, стать любовницей фон Гайера ради заказов Германского папиросного концерна. Вряд ли ему известно, что за двенадцать лет праздной жизни у нее выветрились из головы знания, необходимые для врачебной практики.
– Наверное, вы бросили медицину, когда вышли замуж, – сказал он.
– Да, – ответила она.
– Теперь вам придется восстановить свои знания. Нам нужны кадры.
– Это невозможно.
– Что именно?
– Восстановить знания.
– Почему? – Он вдруг оживился. – Достаточно годик почитать как следует и поработать в клиниках.
– Мне это будет трудно.
– Я говорю по собственному опыту. Я пять лет был оторван от медицины.
– Почему? – спросила она.
– Сидел в тюрьме как политический заключенный.
«Вот он какой», – подумала Ирина. Потом улыбнулась. Она уже не сердилась на него за снотворное, от которого ее тошнило.
– Где ваш генерал?
– Только что уехал и приказал сообщить ему по телефону, как вы себя чувствуете.
– Скажите ему, что я чувствую себя прекрасно.
– Нет, не скажу.
– Почему?
– Потому что вы далеко не прекрасно себя чувствуете… Вы просто комок нервов. И никаких драм на сегодня.
– Драм?… О каких драмах вы говорите?
Она покраснела при мысли о том, что этот человек знает ее прошлое. Он заметил ее смущение и сказал:
– Смотрите на жизнь веселее.
– У меня нет вашего чувства юмора.
– Однако вы должны как-то отвлечься от своих мыслей, иначе припадок повторится.
– Не могу, – мрачно сказала она.
И, удивленная этим вырвавшимся у нее признанием, снова почувствовала, что у нее дрожат руки.
– Как то есть не можете? Вы просто капризничаете.
– Капризничаю?
– Конечно. Во времена Шарко таких пациентов лечили пощечинами.
– Уж не собираетесь ли испробовать подобное лечение?… Это будет похоже на ваши снотворные порошки, от которых меня до сих пор тошнит.
Она рассмеялась и в тот же миг почувствовала, что руки у нее перестали дрожать. «Этот тип прав, – подумала она. – Надо почаще смеяться».
– Каким это снадобьем вы меня напоили? – спросила она.
– Опиумом. У меня не было ничего другого. Я раздобыл его в одной деревенской аптеке, пока наш отряд вел бой с фашистами. Но завтра каждый батальонный врач нашей группы будет располагать самыми современными лечебными средствами. И если бы вы не поторопились с припадком, я бы предложил вам какую-нибудь новинку.
Ирина рассмеялась и подумала: «Значит, не такой уж ты профан. А я было решила, что ты дал мне опиум по невежеству». Она поняла, что в этих продолговатых миндалевидных глазах, которые она, должно быть, видела не раз (недаром они будили в ней обрывки воспоминаний о студенческих годах), была ясность и бодрость человека со спокойной и здоровой натурой. И ей снова показалось, что этот грубоватый человек сердечен и мил и что она когда-то прошла мимо, не оценила его. Наконец она решилась спросить:
– Никак не могу отделаться от одной глупой мысли… Не были мы знакомы раньше?
Врач ответил шутливо, но несколько нерешительно:
– Да, конечно… Учились на одном курсе.
– Вот как? – Ирина смутилась, сама не зная почему. Постепенно разрозненные временем обрывки воспоминаний слились в один образ.
– Теперь вспомнила! – Она даже перешла на «ты». – Тебя звали Чингисом… Ты был выдающимся оратором, и твои выступления обычно заканчивались дракой… Как ни странно, но и я иногда оставалась послушать тебя, хоть и не любила политики.
– Да, ты была политически нейтральной.
– Я и сейчас не собираюсь подлизываться к тебе.
– Знаю. Ты никогда ни к кому не подлизывалась.
– Это не совсем так… – Она замолчала и нахмурилась. Немного погодя спросила: – Почему ты мне сразу не сказал, кто ты?
– Тебе нельзя волноваться.
– Ты, наверное, знаешь мою историю?
– Нет.
Она поняла, что Чингис, человек сдержанный и уравновешенный, никогда не позволит себе бередить чужие душевные раны. Его присутствие словно вернуло Ирину в то ясное, радостное время, когда она училась в университете. Она вновь увидела себя во всей чистоте своей юности, страдающей от измены Бориса, но гордой тем, что она лучше, морально сильнее его. Она вспомнила, что было время, когда она отреклась от Бориса, выбрала свою дорогу и шла по ней, довольствуясь скромными, чистыми радостями человека с незапятнанной совестью. Это был путь труда и науки, ведущий в бескрайние просторы человеческого знания, и она шла этим путем со спокойной душой и ясным умом. Жизнь ее текла неторопливо, как полноводная река, и незатейливые удовольствия после трудового дня возбуждали в ней радость. От этих лет остались такие же щемящие, незабываемые воспоминания, как и о маленькой выбеленной комнатке в отцовском доме, как о старом раскидистом ореховом дереве и журчании реки за окном. В памяти Ирины возникло сладостное ощущение, которое охватывало ее ранней весной, когда в воздухе струились неведомые ароматы, и в разгаре лета, когда от мостовой пахло размягченным асфальтом и бензином, и в начале осени, когда прохладным солнечным утром, окутанным прозрачной синеватой дымкой, она, бывало, спешила на трамвай, чтобы ехать в клинику. Тогда каждая вещь, каждый звук, каждый оттенок цвета пробуждали в пей какое-то особенное жизнеутверждающее волнение. Волнение это было рождено ее целомудрием и трудом, ее душевным равновесием и чувством собственного достоинства, которые потом были уничтожены миром «Никотианы». Все это она могла бы сохранить, если бы не встретилась с Борисом. Теперь, дожив до этих лет и познав жизненную борьбу, какой бы женщиной она ни стала – удовлетворенной или разочарованной, еще цветущей пли преждевременно состарившейся, – она была бы человеком, а не лощеной светской куклой, внушающей отвращение. Что дали ей деньги, роскошь, за которые она продала свою честь? Ничего. В новом мире презирают и деньги и роскошь. К чему ей теперь это красивое выхоленное тело, сводившее с ума развратников, к чему это гладкое, как слоновая кость, лицо без единой морщинки, без единого отпечатка прожитых лет? Мужчина, которого она, сама того не сознавая, искала всегда и наконец встретила, не может ее полюбить. Как человек она потеряла всякую ценность. Ей остался один конец – тот, к какому прибегнул Костов. Это единственно возможный для нее непозорный конец.
У нее снова задрожали руки, и Чингис заметил это.
– Зря я тебе проговорился, кто я… Этот разговор тебя утомил.
Но она возразила:
– Как раз наоборот… Я поняла, как мне быть дальше.
Он пытливо всматривался в ее лицо – все еще прекрасное, но вялое лицо человека без цели, без надежды, без, волн к жизни, лицо женщины, для которой красота стала проклятьем, лицо, которое жизнь уже отметила печатью нервного расстройства, ведущего к тихому помешательству и неминуемой гибели.
– Что же ты собираешься делать дальше? – спросил Чингис с беспокойством.
– Вернуться к медицине, – солгала она, зная, что он ей поверит.
– Чудесная мысль, – сказал Чингис – Но пока не думай об этом.
Он собрался уходить, хоть сомнения его и не рассеялись, и натянул пилотку с красной звездочкой.
– Куда ты идешь? – грустно спросила Ирина.
Желая развеселить ее, он ответил шутливо, совсем как в студенческие годы:
– К санитарному далай-ламе… Хочу достать передвижную рентгеновскую установку.
И хоть говорил он веселым тоном, в голосе его прозвучало волнение.
– Да, это, конечно, необходимое приобретение, – сказала Ирина, удивленная тем, что можно так волноваться из-за какой-то рентгеновской установки.
Он снова взглянул на нес, озабоченно и задумчиво. В ее голосе он услышал равнодушие и усталость, дрожь мучительной неврастении, отчаяние и отчужденность, которые предвещали близкую и неизбежную гибель. Перед ним была обреченная душа из умирающего старого мира.
Чингис вспомнил Ирину, какой она была в юности, и ему стало больно за нее. На пороге он обернулся и сказал:
– Ты должна взять себя в руки и вернуться к труду, к своей профессии. Только тогда ты встанешь на ноги.
Она отозвалась с фальшивой бодростью в голосе: – Конечно, так я и сделаю.
Но она понимала, что этого не будет, и у нее опять задрожали руки.
После обеда пришла Лила. Ирина узнала ее сразу: эти русые волосы, голубые глаза и чистые, холодноватые черты лица запечатлелись в ее памяти со школьной скамьи. Еще в гимназии это лицо всегда поражало Ирину правдивостью и силой воли. Таким оно было и сейчас, только казалось более мягким – может, это жизненный опыт и радость победы смягчили его выражение. Стальные глаза стали совсем голубыми, а тонкие девичьи губы – более яркими, и в их очертаниях появилась сочная мягкость. Ирина наблюдала за Лидой с болезненным любопытством красавицы, сознающей превосходство другой красивой женщины.
Лила не красилась, и это придавало ей очарование свежести. Волосы ее, гладко зачесанные за уши, были уложены небрежно – и, должно быть, умышленно небрежно, чтобы прическа казалась как можно более естественной. Именно такая прическа шла к ее правильным чертам. Скромное черное платье оттеняло светлые волосы и золотистость кожи. От всего облика Лилы веяло здоровьем, спокойной силой жизни и красотой.
Ирина вдруг разозлилась. Зачем пришла к ней эта женщина? Может, захотела покичиться своей властью и успехами, посоветовать ей, Ирине, как ей жить впредь? И уж конечно, советовать она будет не с пылким, доверчивым добродушием Чингиса, а с ехидной любезностью умной, но озлобленной женщины, которую в прошлом травили и унижали. Ну что ж, пусть попробует! Ирина холодно взглянула на Лилу и приготовилась к защите.
Но вместо того, чтобы поучать с высоты своего положения, Лила начала совсем по-мальчишески, как она, бывало, говорила в гимназии.
– Смотри-ка! – сказала она, помахав рукой. – Полный порядок!.. Ты оказалась чудесным хирургом!
Ирина холодно и удивленно взглянула на нее.
– Как? Ты разве меня не узнаешь? – разочарованно спросила Лила.
– Узнаю, конечно, – ответила Ирина.
– А помнишь историю с моей рукой?
– Какую историю? – спросила Ирина.
– Ну, уж ото безобразие! – Лила недовольно поморщилась и улыбнулась чуть насмешливой, добродушной улыбкой. – Неужели не помнишь, у меня была сломана рука, а ты мне накладывала гипс?
– Не помню, – равнодушно ответила Ирина. – Где это было?
– В деревне, у Динко.
– Ну, когда я приезжала туда, ко мне всегда таскались больные… Чего только не приходилось лечить – в сломанные руки, и сломанные ноги.








