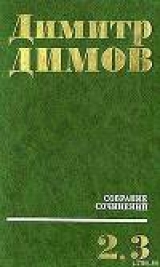
Текст книги "Табак"
Автор книги: Димитр Димов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 61 страниц)
В глазах Барутчиева вспыхнула скрытая угроза.
– Если он опасен, то прежде всего для вас. – «Волчонок» вдруг рассмеялся, и его резкий смех прозвенел, как металл. – Вы, пожалуй, потеряете всякую возможность выиграть дело.
– Завтра я буду сильным, – глухо прорычал Барутчиев.
– Не больше, чем сегодня, потому что вам не хватает некоторых качеств. – Голос Бориса зазвучал громче и стал неимоверно дерзким. – Вы будете указывать фон Гайеру ту или другую фирму, протаскивать мелкие, плохо обработанные партии, но львиная доля всегда будет от вас ускользать, ибо торговец вы неспособный. Немцы знают, что вы ничего не понимаете в табаке, в его качестве и обработке. Они видят, что вы обыкновенный хвастун, одержимый манией величия, и угощаете их одной болтовней, не обладая ни настоящей финансовой мощью, ни влиянием на политических деятелей.
Барутчиев вскочил с кресла.
– Это наглость!.. – крикнул он. – Вы меня оскорбляете!
– Я говорю правду для вашей же пользы.
– А я скажу ее там, где потребуется, вам во вред!.. Все знают, что у вас братья – коммунисты.
– Ну так что?
Голос Бориса чуть дрогнул, но только на миг.
– Подумайте о моих когтях!
– Суд обкорнает их. Если вы не выиграете процесса, вы погибли. Неужели вы думаете, что ваши немецкие друзья за ним не следят?… Или допускаете, что Германский папиросный концерн предоставит вам кредит на закупку десяти миллионов килограммов табака, если выяснится, что деньги, отпущенные банком вашего брата, вы употребили на постройку самого роскошного особняка в Софии и на приобретение квартиры для своей любовницы?
Барутчиев внезапно побледнел.
– Это подлость!.. – осипшим от гнева голосом выкрикнул он. – Ничего подобного не было.
– А такие разговоры идут среди судей и в обществе.
– Я подам в суд и на вас!
– Отлично. А я тогда скажу, от кого слышал обо всем этом.
– Говорите немедленно!
– Не сейчас. На суде.
– Вы нечестный… подлый человек!.. – Барутчиев брызгал слюной. – Вы интриган!.. Вы разрушитель… антиобщественный тип!..
– Тут уж вам никто не поверит.
– Я вас скомпрометирую… я скажу, что братья у вас коммунисты! Я разоблачу вас перед немцами… при дворе… Всюду!
– Но свое дело против банка вы проиграете. Будьте в этом уверены. Я знаю, какие факты мне в качестве эксперта нужно подчеркнуть на суде. И не забывайте, что министр юстиции – акционер «Никотианы» и что… Впрочем, вы знаете, что именно!.. Даже самые честные судьи развязывают глаза Фемиде, когда рассматривается дело о тридцати миллионах.
– Жалкое правосудие!.. Презренные судьи!..
– Они члены демократической партии, лидер которой – ваш брат.
Барутчиев стиснул голову руками и как безумный принялся шагать взад и вперед по комнате.
– Успокойтесь и сядьте, господин Барутчиев!.. – вежливо проговорил Борис – Давайте закончим разговор спокойно.
Барутчиев грузно опустился в кожаное кресло. Он тяжело дышал. Лицо его посинело, по щекам текли капли пота. Он вынул платок и отер лицо. Борис наблюдал за ним с холодностью существа, неспособного испытывать гнев, ненависть или сочувствие. Только по черному блеску его зрачков можно было угадать, как он торжествует, стоя над поверженным противником.
– Что вы предлагаете? – глухо спросил Барутчиев.
– Объяснимся до конца, и вы увидите, что и вам это будет на пользу. Я говорю не только об исходе дела… Ведь если вы даже займете место Коэна, вам не удастся справиться с огромными поставками Германскому папиросному концерну. Вам недостает хватки, организационных способностей, технического персонала… На будущий год немцы отдадут поставки другому. Да, так и будет!.. Вы сами это прекрасно чувствуете. Это лишь техническая сторона вопроса. Но немцы хотят оказывать и политическое давление, а вы не располагаете для этого никакими средствами, кроме ваших людей во дворце, однако эти люди еще не желают выступать открыто. «Никотиана», напротив, имеет связи с правительством, депутатами, оппозицией… с прессой и генералами запаса… везде!.. Глупо думать, что вы можете завоевать этих людей сами. Работа трудная и во многих отношениях опасная. Я имею дело с людьми, которых получил вместе с «Никотианой», так сказать, по наследству от папаши Пьера. А с новыми связываться опасаюсь… Иные пройдохи двух маток сосут!.. Иные политиканы втайне придерживаются левых убеждений и могут подвести вас своими запросами в палате… Удивляюсь, как это вы до сих пор не поняли столь простых вещей?
Барутчиев молчал, мрачно глядя прямо перед собой.
– Итак, положение таково, – продолжал Борис. – У вас хорошие связи с немцами, но в данный момент вы для немцев бесполезны. Я пока не имею таких связей, но держу в руках важные рычаги, которыми можно изменить политический курс. Чудесно, правда? А раз это так – мы союзники, и нам нет никакого смысла наносить друг другу удары из засады. Теперь несколько слов о вас. Я дам такие показания, какие вам нужны. О, не беспокойтесь!.. Судей я могу засыпать аргументами, вычислениями и техническими доводами. А можно и просто припугнуть банк и принудить его к выгодному соглашению. С моей точки зрения, это наилучший выход, иначе вы столкнетесь с разными политическими негодяями, которых банк на вас натравит… Разве я не прав? Таким путем вы спасаете свой дом, имущество, доброе имя и восстанавливаете свою репутацию благоразумного торговца… А я получаю поставки для Германского папиросного концерна и в конце года выделяю вам десять процентов из прибылей, хотя вам не придется и пальцем шевельнуть и вы ничем не будете рисковать.
– Десять процентов – это мало!.. – простонал Барутчиев.
– Как мало?… – сурово проговорил Борис – Совсем не мало.
– Справедливо было бы разделить прибыли хотя бы поровну.
– Это исключено!
– Тогда – сорок процентов!.. Иначе не хочу… не могу согласиться…
– И я не могу.
«Волчонок» был неумолим. Наступило молчание. Барутчиев опять вытер потное лицо.
– Я подумаю, – сказал он наконец.
– Долго думать нельзя. Фон Гайер и Прайбиш, возможно, уже здесь, смотрите не упустите их. Вчера вечером я видел Лихтенфельда.
– Не может быть!.. – удивился Барутчиев. – Где вы его видели?
– Он пьянствовал в баре… Можете считать, что Лихтенфельд для вас уже потерян. Шайка Кршиванека поймала его в свои сети.
– Но Кршиванек – преступный тип… Он ничего не добьется.
– Не будьте в этом слишком уверены. Его шурин – министр в новом правительстве рейха.
Лицо у Барутчиева исказилось и даже как-то поглупело.
– Принимаете мое предложение? – спросил Борис.
– Принимаю… – глухо простонал Барутчиев.
После его ухода Борис позвал главного эксперта и беседовал с ним полтора часа. Синеватые клубы табачного дыма заволокли комнату. Борис говорил спокойно, ясно, почти без передышки. Костов кивал и делал заметки. Время от времени он позволял себе возражать, но Борис тут же отводил его возражения, однако без той суровой надменности, с какой он относился к другим служащим. Под влиянием Марии они вполне доверяли друг другу, и сплетни, распускавшиеся другими фирмами, не могли поколебать это доверие. Костов был легкомысленный волокита, мот, немного ленивый, но умный и очень честный человек. Борис остерегался задевать его самолюбие и после смерти папаши Пьера удвоил ему жалованье и ежегодную премию. Костов же ценил в Борисе его широкий размах и трезвую жизнь. Но, уважая друг друга, оба втайне и презирали один другого, и это объяснялось различием в их характерах. Борис относился к людям холодно и жестоко, а Костов – отзывчиво и человечно. Первый, поднявшись из низов, знал, как опасен бунт голодных, и понимал, что привилегии сытых ненадежны и находятся под угрозой. Второй, выросший в довольстве, считал эти привилегии естественными и не находил нужным нарушать свое спокойствие жесткими и беспардонными мерами против рабочих.
Когда деловая часть разговора была окончена, Борис шутливым тоном спросил эксперта:
– Ну, Костов, что вы думаете обо всем этом?
– Если мы введем тонгу, рабочие ответят на это стачкой.
– Мы ее задушим.
– Не люблю крови.
– Опять сентиментальности! – Борис засмеялся. – Вы живете, как сверхчеловек, а рассуждаете, как муравей.
– А вы наоборот, – отозвался эксперт.
– Какой же образ жизни лучше?
– Естественно, мой. У меня настроение всегда лучше, чем у вас.
– А я разве выгляжу мрачным?
– Да, ужасно мрачным, – подтвердил Костов. – Вы похожи на игрока, который тянет карту за картой, но все время боится, как бы противник не показал ему козырного туза.
Борис задумался.
– Жизнь – это деятельность, Костов! – сказал он немного погодя, – Борьба… напряжение… Именно в этом я нахожу удовольствие.
– Теперь – да, но потом это вам надоест.
– Почему?
– Потому что этой деятельностью вы ничего не добиваетесь.
– Как так? А «Никотиана»?
– «Никотиана» всего лишь куча золота. Но золото бессмысленно, если оно не превращается в человеческое счастье.
– А каким образом вы превращаете его в счастье? – В голосе Бориса вдруг прозвучала злость. – Уж не тем ли, что раздаете рождественские подарки десятку рабочих?… Это мог бы делать и я, но, по-моему, это бесполезно.
Борис посмотрел на часы и сухо проговорил:
– Еду к Торосяну.
Он сел в автомобиль и закурил сигарету, но тут же погасил ее.
Он много курил, не ходил пешком и вел очень неподвижную и нездоровую жизнь. И легкие его, казалось, ничто не могло очистить от табачной смолы и пыли, которые скопились в них за первый год работы в «Никотиане». Вспомнив обо всем этом, он приказал шоферу остановиться, вылез из машины и пошел пешком.
Снег, выпавший несколько дней назад, уже растаял, и в этот тихий декабрьский день по склонам Витоши ползли туманы. Железно-серое небо отражалось в мостовой мутным белесоватым светом. Из Докторского сада тянуло запахом гниющих листьев. Какой-то гвардейский поручик с отчаянным усердием скакал галопом по кругу в аллее Царского манежа и время от времени покрикивал на своего коня.
Борис с тревогой и досадой думал о Кршиванеке.
Жилище у Торосяна было всегда под стать его успехам в торговле. Когда армянин разорялся, он снимал дешевую квартиру, а когда наживался – снова жил как князь. Он обладал удивительной способностью терять свое богатство в течение нескольких месяцев, а потом приобретать его еще быстрее. Щедрость Торосяна создавала ему политические связи, а богатое восточное воображение постоянно побуждало его лгать и хвастаться, так что обычно никто не мог догадаться, готовит ли он какой-то удар или бездействует.
Сейчас в руках у Торосяна опять сосредоточилось завидное богатство, которое он приобрел благодаря связям с американскими фирмами и французским торговым представительством. Дом у него был роскошный, и только маленький дворец мота Барутчиева превосходил его своим блеском.
По-прежнему озабоченный мыслью о Кршиванеке, Борис вошел в старомодный, но очень изысканный салон. Торосян купил дом у наследников умершего банкира. В креслах около маленького передвижного бара сидело человек десять; Борис их отлично знал.
Торосян выбежал ему навстречу и, словно нетерпеливо ожидавшая его одалиска, протянул обе руки. Это был хилый, низенький, подвижной человечек с русыми усиками и хитрым лицом. Он напоминал кокетливую лисичку.
– Ну же, мы ждем тебя… – сказал Торосян, с такой горячностью сжимая руки гостю, словно готов был его расцеловать.
Борис посмотрел на часы. Разговор с Костовым задержал его.
– Надо было начинать без меня, – небрежно бросил он.
– Что ты!.. – Торосян немедленно преподнес ему одну из своих льстивых фраз. – Неужели мы можем что-нибудь решить без тебя!
«Будет тебе болтать», – с досадой подумал Борис. Он подозревал, что армянин созвал совещание, чтобы прощупать почву для общего фронта против Германского папиросного концерна. Правда, Торосян продавал концерну через Коэна свои низкокачественные партии табака, но это никак не могло бы восполнить потерю американского и французского рынков, если бы немцы монополизировали торговлю с Болгарией.
Борис обменялся рукопожатием с остальными гостями и сел в кресло. Почти все пожимали ему руку с лицемерной любезностью. Они напоминали волков, готовых пожрать друг друга, но порой случалось, что их объединяли общие интересы, и тогда они действовали заодно. Обычно это происходило тогда, когда им нужно было нанести удар по кооперативам, узаконить какой-нибудь обман государства, посильнее нажать на производителей или общими усилиями подавить большую стачку. Тогда каждый начинал дергать ниточки в своем кукольном театре. Но сейчас не было подобного повода для единых действий, поэтому Борис с уверенностью заключил, что Торосяна волнует нечто, задевающее только его собственную шкуру.
Кокетливая лисичка подбежала к бару и любезно осведомилась:
– Ты что предпочитаешь, Морев?… Коньяк, анисовку или сливовую на сорока травках?
– Сливовую на травках, – ответил Борис – И разговоры без прибауток, чтобы кончить поскорее.
Сидящий возле него Коэн громко засмеялся. Несмотря на угрожающие евреям беды, он не терял хорошего настроения. Главное – быть предусмотрительным. Коэн уже начал окольными путями перебрасывать свои капиталы за границу, и дело шло успешно.
Торосян наполнил рюмку. Борис подошел к бару, чтобы ее взять, – слуги не должны были слышать того, что говорилось на подобных совещаниях, и миллионеры обслуживали себя сами. Когда Борис вернулся на свое место, Коэн все еще смеялся. Это был приятный на вид человек, белокурый, с красным лицом и голубыми глазами. На его плешивом темени еще оставалось несколько тщательно зачесанных прядей.
– Приготовься слушать армянские анекдоты насчет Германского папиросного концерна, – сказал Коэн.
– Я не собираюсь слушать их без конца.
– И я тоже. Я должен уйти в час.
– Но тебе эти анекдоты могут показаться интересными, – заметил Борис.
– Только забавными! – рассмеялся Коэн. – Торосян просто скажет, что Германский папиросный концерн приготовил для всех виселицы, и предложит вам покончить самоубийством… Но это неинтересно. Смешно то, что он заранее уверен в провале своего маневра.
– Тогда зачем отнимать у нас время?
– Чтобы попрыскаться одеколоном, прежде чем принять французское подданство!.. Его попытка защитить интересы Франции перед десятком собравшихся здесь дураков будет известна на Кэ д'Орсэ,[29]29
Кэ д'Орсэ – набережная в Париже, на которой находится здание французского министерства иностранных дел.
[Закрыть] а Кэ д'Орсэ нажмет на директоров Compagnie Générale des tabacs,[30]30
Генеральная табачная компания (франц.).
[Закрыть] требуя, чтобы они закупали восточные табаки в Греции и Турции через Торосяна… Ясно тебе, а?… Он уже открыл филиалы своей фирмы в Кавалле и Стамбуле.
– Чтоб его черт побрал! – сердито проговорил Борис.
– Я же тебе говорил, что он смешон.
– Я сейчас же ухожу.
– Подожди. Мы с тобой еще посмеемся.
– Над кем?
– Над нашими чурбанами. Еще немного – и они будут с пеной у рта защищать немцев… Теперь все стали патриотами… Гитлер, видите ли, обещает Болгарии Эгейское побережье, Македонию, проливы, Стамбул и даже колонии!
Коэн вдруг рассмеялся.
– Почему?… Разве это невозможно? – сухо спросил Борис.
Еврей удивленно посмотрел на него.
– Ты умный человек, Морев, – сказал он. – Я тебе благодарен за услуги, оказанные мне твоими людьми, и от всего сердца желаю тебе занять мое место по поставкам Германскому папиросному концерну… Но разреши мне сказать тебе, что Болгария идет к гибели.
Они умолкли, молчали и все остальные, звучал только голос Торосяна. Армянин рассказывал гостям, как ему удалось раздобыть сливовую на сорока травках.
– Может быть, ты рассуждаешь субъективно, – проговорил Борис.
– Да, может быть, – согласился Коэн. – А что, Барутчиев приходил к тебе? – неожиданно спросил он.
– Да, сегодня утром.
– Ну?… И как?
– Договорились, но я не знаю, насколько он искренен.
– Нажимай на него беспощадно, – сказал Коэн. – Он в твоих руках.
Борис отпил сливовой на сорока травках. Она показалась ему противной.
– Я боюсь Кршиванека, – сказал он.
– Кршиванек – обыкновенный мошенник из австрийского торгового представительства, – небрежно уронил Коэн. – И немцы рано или поздно это узнают. Но он может стать очень опасным, если вы упустите Лихтенфельда и Прайбиша.
– Лихтенфельд уже упущен, – хмуро сказал Борис.
– Вот как? – В голосе торговца прозвучало сочувствие. – Как же это случилось?
– Я думаю, что Зара заполучила его для Кршиванека.
– Но Зара, насколько мне известно, крутится в немецком посольстве и собирает сведения для вас?
– Она любовница Кршиванека, – сухо объяснил Борис. – Я узнал это вчера.
Борис и Коэн, сидевшие поодаль, перешептывались так долго, что это привлекло внимание всех, а особенно Торосяна.
– Против кого заговор? – с любопытством спросил он.
– Против твоего коньяка, – громко ответил Коэн. – Сливовую в рот нельзя взять.
– Тогда я подкачу к вам бар.
Мучаясь от любопытства, но безобидно посмеиваясь, Торосян подкатил к ним бар.
– Ну, начнем? – спросил он.
– Хватит тебе болтать, начинай наконец!.. – сказал кто-то.
Коэн поудобней уселся в кресле с видом человека, который приготовился смотреть спектакль, а Борис обвел взглядом лица присутствующих. Почти все они были грубы и бесчувственны. Два или три из них выражали такую тупость и ограниченность, что Борис ощутил вдруг необъяснимую ненависть к этим людям и спросил себя, что же все-таки помогло им выдвинуться. Но он вскоре утешился мыслью, что все это обыкновенные неучи, которые нажились случайно и быстро пойдут ко дну во время грядущего кризиса. Только лица Коэна и Барутчиева-старшего говорили о культуре и незаурядном уме. Торосян походил на ярмарочного плута, а лица всех других предательски выдавали свойственные их обладателям неспособность к комбинативному мышлению и склонность к грубым мошенничествам.
Удрученный чем-то, Барутчиев-старший, человек с восковым лицом и запавшими глазами, сидел поодаль. Он устал от шума. Его бросало то в жар, то в холод, он обливался потом, а табачный дым раздражал его, затрудняя дыхание. Но он не хотел просить своих коллег прекратить курение, чтобы они не узнали, как плохо он себя чувствует, и не стали злорадствовать. А ведь он, бесспорно, заслуживал и здоровья, и главенства над всеми. В его руках были и акции «Восточных Табаков», и банк, и газета, и вся демократическая партия. Он чувствовал приближение кризиса, но его уже одолели равнодушие и пассивность. На складах у него лежали огромные запасы непроданного табака, а он боялся путешествий за границу, напряжения деловых переговоров, простуды, бронхита, быстрого ухудшения своего здоровья. Какая-то странная усталость притупляла остроту его мысли, заставляя его притворяться перед самим собой, будто падение цен вызвано вовсе не начинающимся кризисом, а лишь нервозностью после событий в Германии.
Лицо у него было красивое, нос острый, губы тонкие и бескровные. Он чем-то напоминал древнеримского сенатора. Мертвенная белизна его рук зловеще выделялась на черном костюме, а взгляд был неподвижен и мрачен. Да и все в этом человеке казалось мрачным. Даже начало eго богатства терялось во мраке зловещей легенды. Поговаривали, будто он подделал завещание своего дяди. Но легенда эта была вымышлена. Наследство он получил законно и во сто крат увеличил его, занимаясь торговлей. Вначале ему было не чуждо стремление к безвозмездной общественной деятельности. В молодости он участвовал как четник в левом крыле македонского революционного движения,[31]31
Национально-освободительное движение против османского господства. Возникло оно в конце XIX века и велось в форме партизанской борьбы. Четник – боец четы (отряда).
[Закрыть] после этого занял пост кмета,[32]32
Кмет – городской голова, сельский староста.
[Закрыть] не состоящего на жалованье, в своем родном городе и избавил жителей от зловония и тифа, проведя водопровод. Богатство его начало расти быстро, когда он вместе с покойным Спиридоновым первым стал вывозить табак за границу. Но чем больше он богател, тем больше изменяли ему силы и тем более мрачным и замкнутым становился его характер. Его склонность к общественной деятельности вылилась в грубый захват демократической партии, которую он использовал в интересах своей торговли, а юношеское великодушие превратилось в алчность. Легкие у него были уже разрушены болезнью, однако он продолжал объезжать филиалы своей фирмы, спускаясь в холодные подвалы складов, прижав платок к губам, обходил пыльные цехи, в которых обрабатывали табак, и дышал насыщенным ядовитыми испарениями воздухом ферментационных помещений.
Теперь он, судя по всему, добрался до вершины своего могущества и был одним из самых богатых людей в Болгарии, а его газета направляла общественное мнение. Заправилы демократической партии слепо подчинялись ему, а царь приглашал его на коронные советы. Но на самом деле закат его могущества уже приближался. Нити, посредством которых он управлял людьми, стоящими у власти, стали рваться, а «Никотиана» и другие крупные фирмы душили его. Теперь он был всего лишь старый, больной, изможденный человек, смерти которого ждали все, даже его близкие. Борис равнодушно отвел взгляд от его одряхлевшей сенаторской фигуры.
Удивительна была история Коэна. У этого человека были умные голубые глаза. Такие же холодные глаза грабителя и хищника, как у всех сидевших сейчас возле него, но только без их глупого высокомерия. Где-то в глубине их синевы светилось спокойное самодовольство человека, посвященного в тайну денег. Его возвышение шло по золотой лестнице социал-демократии. Подробности этого возвышения были не очень ясны, но история его сводилась к следующему: в 1918 году социал-демократ Кнорр был изгнан большевиками и нашел убежище в Германии. Туда Кнорр вместо денег вывез другое, гораздо более значительное богатство – свой ум. Через два года он стал собственником маленькой папиросной фабрики, которую купил у каких-то братьев Нильзен. Тогда социал-демократ Штреземан дал социал-демократу Кнорру право платить налог по акцизным бандеролям от сигарет лишь после Продажи товара. Это был удачно придуманный беспроцентный заем из государственной казны. Маленькая фабричка раздулась, стала расти, как буйная плесень, и душить или поглощать все папиросные фабрики, которые пытались с ней конкурировать. Еще через несколько лет бывшая фабрика братьев Нильзен превратилась в могучий папиросный концерн, которым управлял доктор Кнорр. Тогда-то и произошло еще одно событие. Социал-демократ Кнорр познакомился на одном собрании в Гамбурге с социал-демократом Коэном и поручил ему организацию поставок табака из Болгарии. Чем добился Коэн такого доверия? Глядя в умные, насмешливые глаза Коэна, Борис подумал, что социал-демократия – это новая форма давно известного искусства управлять миром при помощи денег. На другом конце гостиной сидел Чукурский, который старался держаться подальше от Барутчиева, так как был с ним в ссоре. Трудно было найти более неблагодарного человека. Двадцать лет назад он поступил в фирму Барутчиева на должность писаря; спустя некоторое время стал бухгалтером, потом экспертом и наконец генеральным директором. Теперь он торговал самостоятельно. Его эгоизм граничил с неблагоразумием. Все знали, что он отказался принять на работу даже человека, который перенес его на своей спине через границу в те времена, когда Стамболийский[33]33
Стамболийский Александр (1879–1923) – видный деятель крестьянского революционного движения в Болгарин, лидер Земледельческого союза. В 1920–1923 гг. возглавлял самостоятельное правительство земледельцев. Был зверски убит реакционной кликой А. Цанкова.
[Закрыть] преследовал разжившихся на войне. Знали также, что он ушел из фирмы «Восточные табаки» в тяжелый для нее момент, когда Барутчиев лечился в санатории, и не выполнил просьбы хозяина управлять фирмой до его возвращения. Все это вело к тому, что, случись беда, вряд ли кто-нибудь пришел бы на помощь Чукурскому. Приземистый толстяк, он всегда пыжился как индюк и большей частью молчал. Он обладал кое-какими коммерческими талантами, но деятельность его была скована преувеличенной осторожностью и скупостью, так что он считался неопасным конкурентом. Борис небрежно отвел от него взгляд.
Позади Чукурского сидел Груев. Это был простоватый, но умный и сметливый человек с круглым красным лицом. Его стихией были закупки в селах. Острые его глаза издалека следили за Борисом и Коэном, пытаясь угадать содержание их беседы по выражению лиц. Но это ему не удавалось, и он все время беспокойно ерзал в кресле, сгорая от любопытства. Он начал с работы в отцовской корчме, где, поднося ракию посетителям, прошел школу мелкой торговлишки, и наконец занялся табаком. Его первая крупная сделка закончилась банкротством, повлекшим крах банка, в котором хранили свои сбережения мелкие вкладчики. Теперь он был главным экспертом и компаньоном Торосяна. Его практичный и трезвый ум служил неоценимым тормозом для горячего воображения армянина. Борис обычно сталкивался с ним во время кампаний закупок в деревне. Честолюбие Груева дальше не шло. Недостаток образования мешал ему делать точные расчеты и лишал возможности самому выйти на международный рынок. Ему суждено было всегда оставаться лишь привеском к Торосяну.
Взгляд Бориса продолжал рассеянно скользить по лицам. Все это были неинтересные, случайно разбогатевшие люди, которые не заслуживали его внимания. Их скудный ум и мелочность мешали им спекулировать в крупном масштабе. Алчность, с какой они привыкли каждый год ждать больших прибылей, предвещала, что они, несомненно, станут жертвами кризиса. Все они видели, как падают цены, но не желали продавать свой товар, и красноречию Торосяна, который сейчас уверял их, будто Франция вскоре попытается вызволить страну из лап немцев, только усугубляло их упрямство. Этим близоруким глупцам, наводнявшим рынок, предстояло опуститься на дно, к вящему удовольствию Бориса.
Когда совещание закончилось, табачные князья раздраженно вытерли свои потные, раскрасневшиеся лица.
Красноречие Торосяна лилось потоком, но слушатели утопили оратора в своих возражениях. Пустословие но смогло победить глупость. Предложение Торосяна образовать общий фронт против Германского папиросного концерна провалилось. Если французы хотят спасти страну от немецкой монополии, пусть они сами покупают табак. Но раздражать, да еще в такое время, единственного серьезного покупателя – чистое безумие. Нет, эти господа не пожелали бы брать на себя никаких обязательств, идти на риск, отрываться от своих куч золота, даже если бы мир рухнул на их головы!.. Все были уверены, что политическое соперничество между великими державами приведет только к повышению цен.
Но по некоторым мелким вопросам дельцы согласились с Торосяном. Все изъявили готовность будущей весной ввести тонгу.








