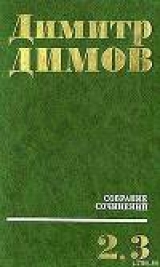
Текст книги "Табак"
Автор книги: Димитр Димов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 55 (всего у книги 61 страниц)
– Уходи, Мичкин… И Ляте пусть уйдет, и другой… Дожидаться сигнала не нужно… Все ушли.
– А ты?… – в волнении спросил Мичкин.
– Я останусь тут… Стар я, бегать трудно.
Расстояние между наступающими немцами и холмом быстро сокращалось. Мгновения летели.
– Тогда прощай!.. Оставляем мы тебя… Прощайте все.
Мичкин говорил торопливо и виновато, словно ему было стыдно, что он так спешит воспользоваться предложением Шишко.
– Прощайте, товарищи! – еще раз промолвил он.
Сердце его буйно билось.
Он пополз на животе к спуску с холма, волоча оружие, быстро скатился вниз и бросился к разрушенному мосту. Следом за ним побежали Ляте и еще один боец.
На холме остались только Шишко, человек, которого привела Варвара, и еще двое раненых, каким-то образом добравшихся сюда с перевязочного пункта. Но этих двоих никто не успел перевязать, и они лежали, совсем обессилев от потери крови, так что Шишко не мог на них рассчитывать.
Наступали последние мгновения жизни. И тогда Шишко показалось, что партия творит ему: «Молодец, старина, ты выстоял!.. Ты выстоял, как в те тесняцкие дни, когда многое было тебе непонятно, но ты ходил на митинги и лишился глаза… Ты выстоял, как и в дни большой стачки, когда владельцы табака водили за нос стачечный комитет и пытались тебя подкупить, а когда им это не удалось, полиция избила тебя до полусмерти… Ты выстоял в годы своей нелегальной и партизанской жизни, когда ты подвергался смертельной опасности, терпел голод и холод, но не падал духом… И сегодня, в своем последнем бою, ты опять выстоял, но теперь ты умрешь, потому что ты стар и немощен, потому что ум твой стал работать медленнее. Да, ум твой медлит и не может, как ум Динко, охватить все сразу… Динко предвидел, что случится, если бой не закончится до полуночи. И кто знает, если бы ты пошел во вторую стремительную атаку, забросал противника гранатами и вовремя оттянул отряд, может, потери были бы меньше, чем сейчас. А ты слишком медлил с этой атакой. Ведь люди разные. Того, чем обладает один, у другого нет. Но ты отдал все, что мог, отдал от всего сердца, и партия благодарит тебя за это. А сейчас смотри в оба, старина!.. Немцы приближаются».
Лежа за пулеметом, который оставил Мичкин, сжав зубы. Шишко ждал. Немцы торопливо шагали к холму, уверенные, что на нем никого нет. Шишко ясно различал их лица, сытые, гладкие, молодые, и знал, что солдаты эти через четверть часа добьют прикладами раненых партизан, оставшихся на перевязочном пункте. Шишко почувствовал к ним ненависть – не потому, что они были немцы и хотели его убить, а за то, что они глумились над ранеными и расстреливали заложников из мирных граждан. Он не начал стрелять даже тогда, когда они были в пятидесяти метрах от холма. Еще немного, паршивые собаки, еще немного!.. Наконец Шишко старательно прицелился, и пулемет толкнул его в плечо. Человек десять немцев со стопами и руганью повалились на землю в первые же секунды. Остальные разбежались и залегли в кюветах у шоссе. Сразу же после этого Шишко ударил во фланг группе, которая двигалась со стороны шоссе к станции. Он стрелял непрерывно почти полминуты, пока не заело пулемет. В наступившей тишине был слышен яростный хриплый крик немца:
– Feuer!.. Feuer!..[68]68
Огонь!.. Огонь!.. (нем.)
[Закрыть]
Можно было использовать еще несколько оставшихся мгновений. Резким движением Шишко бросил свой автомат назад, потом, не поднимаясь, оттолкнулся, и его тучное тело покатилось по крутому склону холма. Когда Шишко скатился вниз, запыхавшийся и исцарапанный, он самодовольно усмехнулся, как сорок лет назад, в дни молодости, когда он участвовал в гимнастическом кружке тесняцкого клуба и в воскресные дни предлагал товарищам разбивать молотом у себя на груди каменные плиты. Этот номер вызывал кислую гримасу на лицах образованных товарищей, но приводил в восторг простых людей. И теперь мускулы у Шишко были ненамного слабее. Только его пораженные астмой, отравленные табачной пылью легкие не работали как следует.
Преодолев одышку, Шишко пополз к канавке у шоссе, волоча за собой автомат, а в это время на холм градом посыпались мины… Шишко дополз до кювета, залег в нем и вскоре увидел, как на вершине холма взлетают гейзеры земли, а по равнине между шоссе и станцией перебегают немецкие солдаты. Он мог стрелять но ним со своей новой позиции, но пока не стрелял. Вырыв ножом на склоне кювета небольшую площадку, он оперся на нее локтями и стал ждать. В промежутках между взрывами мин было тихо – в горах не стреляли. Шишко понял, что товарищи ушли далеко и защищать холм уже не имеет смысла. Это позволило ему открыть огонь по немцам, которые считали, что минометчики прикрыли их от партизан, зарывшихся на холме, и теперь направлялись к станции. Но он успел израсходовать лишь один магазин. Что-то твердое и тяжелое камнем упало к его ногам. Обернувшись, он увидел позади себя немецких солдат, которые сразу же залегли. Через две секунды граната взорвалась.
Шишко ничего не почувствовал. Он умер легко, без страданий и горечи.
Когда немцы поднялись на холм, они нашли там лишь куски человеческого мяса. Даже труп фон Гайера, лежавший у шоссе, стал неузнаваем, так изуродовал его минометный огонь, и немцы приняли его за убитого партизана. Две санитарные машины отделились от колонны и поползли вверх по извилинам шоссе туда, откуда прибыли. От цистерн, подожженных у станции, все еще поднимались черные густые клубы дыма и расстилались над равниной, образуя громадное траурное облако. Холм походил на кучу свеженабросанной земли. Кое-где среди вырытых минами ям качались уцелевшие цветы мака и тысячелистника. На холм не спеша поднялся немецкий офицер с гладко выбритым лицом и красными от бессонницы глазами. Он равнодушно переступил через обезображенные останки человеческих тел, закурил и стал смотреть на горящие у станции цистерны. Взгляд его был холоден, печален и зол.
А на востоке в розовом сиянии и кристально чистой синеве занимался день.
XV
Приближаясь к Кавалле, Ирина и Костов тоже видели эту синеву, но день не мог рассеять ужасы истекшей ночи. На холмистой равнине угрюмо торчали оливы и остатки древних развалин, мелькали поросшие тростником болота, встречались греческие крестьяне, собиравшие табак.
Мир «Никотианы» и Германского папиросного концерна распался на части, и два обломка – третьего дня Борис, а прошлой ночью фон Гайер – слетели в пропасть, оставив после себя чувство вины и печали. «Никотиана» погибала. Настал конец надувательствам при закупках табака, неприятностям с его обработкой, интригам вокруг продажи. Наименование «Никотиана» превращалось в пустой звук, а главный эксперт фирмы, при всей его элегантности, – в заурядного щеголя, в лишнего, никому не нужного человека. Только теперь Костов понял, почему он так бессознательно, так преданно служил Борису до последнего мгновения, почему стремился к подписанию договора с Кондоянисом, почему его потрясла казнь фон Гайера. Без «Никотианы» почва ускользала из-под его ног – больше некого было подкупать, уговаривать или запугивать, опираясь на ее мощь. Эксперт чувствовал себя униженным и раздавленным, но злился па всех, кто должен был уйти вместе со старым миром. Новая жизнь ничего ему не обещала, у него не осталось никакой моральной опоры. И вдруг в этой пустоте блеснула надежда.
Костов подумал об Аликс. Да, оставалась Аликс!.. Девочка с бронзово-рыжими волосами по-прежнему чудодейственно преображала его душу. Он вдруг обрадовался, как в тот день, когда привел Аликс к Кристалло и переговоры о ней с Геракли окончились благополучно. Оставалась Аликс, дикий, засохший цветок, оторванный от скал Тасоса и заполняющий пустоту, образовавшуюся в душе Костова, когда все стало рушиться. И вот сноб и раб моды опять увидел эту девочку в оправе своего гибнущего мира, снова представил себе, как Аликс в бледно-желтом вечернем платье входит в «Унион». Он не сознавал, что, выхаживая этот дикий цветок, хотел создать человека по своему образу и подобию.
Резкий скрежет железа прервал его мысли. На повороте машина задела крылом скалу или дерево. Эксперт почувствовал, что с его правой рукой что-то неладно. Она казалась ему протезом, прикрепленным к плечу, каким-то чужеродным телом, которое не сразу подчиняется его воле. Он вспомнил о своем прогрессирующем атеросклерозе. «Удар, – подумал он. – Должно быть, со мной случился небольшой удар после всех треволнений прошлой ночи». Какая-то маленькая артерия лопнула в его мозгу, и пролившаяся кровь давила на моторный центр, управляющий движением руки. Он подумал, что вести машину в таком состоянии опасно, и остановил ее.
– Замените меня, пожалуйста! – сказал он Ирине. – С моей правой рукой что-то произошло.
– Да, я заметила, – отозвалась она.
Они поменялись местами, даже не взглянув в сторону заднего сиденья, и ни слова не вымолвили, потому что все, о чем сейчас можно было думать или говорить, одинаково угнетало обоих.
Ирина села за руль и повела машину медленно и осторожно, так как мотор был очень мощный и она боялась, что не сумеет с ним справиться. Взошло солнце, и она с досадой подумала, что они приедут в Каваллу как раз в то время, когда приморская улица особенно оживленна и все бездельники отправляются на пляж. Но еще неприятнее было думать о том, что придется делать скорбное лицо и скрывать раздражение, когда табачные шакалы соберутся у трупа умершего льва. Она ожидала соболезнований, не подозревая, что уже два дня в Кавалле царит паника и табачные шакалы сбежали первыми, а за ними бежали их слуги, увозя на казенных грузовиках свои семьи, домашний скарб и все, что они успели прикарманить в дни своего хозяйничанья.
Сейчас Ирине хотелось, чтобы ее оставили в покое, хотелось ни о чем не думать и ничего не делать, потому что ужасы прошлой ночи превратили ее в почти такой же окоченевший труп, как тот, что она везла в машине. Сейчас ей хотелось уединиться в тиши сосновых рощ Чамкории, под небом с холодными звездами и равнодушно ждать, что будет дальше. Что бы ни случилось, ее это не коснется. Распад старого мира ее не трогал, а новый мир не пугал. Она владела вкладами за границей, которых никто не мог у нее отнять, а в прошлую ночь убедилась, что женщинам коммунисты не мстят. Но она чувствовала, что ей не спастись от чего-то другого, более страшного, чем потеря богатства или месть голодных, – не спастись от собственного внутреннего разрушения. Все в ней обратилось в пепел – и то, что ей пришлось пережить до сих пор, и ужасы прошлой ночи; осталось только мрачное равнодушие ко всему на свете. Она больше не думала ни о сердце, переставшем биться под ее рукой, ни о возмездии, которое обрушилось на фон Гайера, ни о бесполезной миске с риванолом, ни о раненых партизанах, которых она перевязывала тряпками и которых, вероятно, уже добили немцы. Сейчас она была конченым, холодным, безжизненным человеком.
И потому она вела машину механически и постепенно увеличивала скорость, так как перестала бояться, что не справится с рулем. А тюк на заднем сиденье беспомощно покачивался и медленно клонился в сторону. Наконец он опрокинулся, глухо стукнулся о дверцу машины и остался лежать. Теперь он походил на узел с тряпьем. Но Ирина и Костов этого не заметили.
Они приехали в Каваллу около десяти часов утра и вдруг увидели что-то жестокое в этом городе с белыми домами, что-то мертвенное в этих улицах без зелени, что-то леденящее душу в синеве этого неба и свете солнца, под которым люди сгорали в гибельной страсти к обогащению и в голодном отчаянии.
На главной улице толпились греки, которые, несмотря на жару, суетились и возбужденно разговаривали, словно обсуждая какое-то событие, нарушившее обычное течение их безнадежно будничной жизни.
Германский папиросный концерн, «Никотиана» и прочие табачные фирмы, так или иначе работавшие на концерн, неожиданно заперли свои склады, выбросив на улицу тысячи полуголодных, истощенных трудом людей. Но хоть и лишенные своего жалкого заработка, эти люди сейчас казались радостными и оживленными. Из уст в уста передавались слухи, вселявшие в них смутную надежду. И то, что волновало их, был не вульгарный шовинизм завсегдатаев кофеен, спекулянтов и служащих греческих табачных фирм, которые ждали десанта и после каждой победы англо-американцев наряжались в праздничную одежду, а нечто другое, несравненно более значительное и касавшееся лишь людей, раздавленных нищетой. Это были надежда, радость и упование, рожденные успешным продвижением огромной, могучей армии, которая шла с севера.
И потому эти люди сейчас пренебрежительно смотрели не только на машину главного эксперта «Никотианы», но и на главного эксперта фирмы Кондояниса, который, войдя в парикмахерскую, с неслыханной дерзостью обозвал болгар скотами. Сказал он это в присутствии двух болгарских моряков, которые сидели перед зеркалами с пистолетами на поясе и намыленными лицами. Но, не понимая по-гречески, моряки лишь окинули грека презрительным взглядом, раздраженные его громким голосом.
Ирина нервно сигналила, злясь на толпу, которая слишком медленно расступалась перед машиной. А рабочие-табачники считали, что теперь хозяевам не мешало бы стать терпеливее. Люди громко смеялись. Ну и вонь от этой машины!..
Костов услышал, как один из толпы сказал:
– Как видно, везут дохлую собаку.
– Собаку?… На что им везти ее в машине?
– Да ведь они держат своих собак, как людей, а мы Для них хуже собак, – сказал другой. – Лихтенфельд вызывает к своей собаке врача и кормит ее белым хлебом и мясом.
Когда эксперт и Виктор Ефимович вносили труп Бориса в дом, Ирина проговорила раздраженно и хмуро:
– Костов, вы уж позаботьтесь о похоронах, хорошо? Я не хочу никого видеть.
Эксперт, которому было очень не по себе от жары, ответил недовольным тоном:
– Позабочусь, когда закончу более важные дела. Я прежде всего должен повидать Аликс… Затем нужно сообщить в немецкую комендатуру насчет фон Гайера. Это очень неприятная история. Вероятно, нас будут допрашивать, а может быть, и задержат.
– Вот как?
Ирина равнодушно подумала, что труп не может лежать в доме.
– Тогда уладьте дело с Фришмутом! Попросите его, чтобы нас не беспокоили, и обратитесь в какое-нибудь похоронное бюро.
Костова злил ее властный тон – она по-прежнему приказывала и не сомневалась, что все еще может распоряжаться людьми, в том числе Фришмутом, как найдет нужным. Но и раздраженный ее эгоизмом, эксперт не огрызнулся, так как сгорал от нетерпения увидеть Аликс.
На лестнице второго этажа его встретила Кристалло – она увидела в окно подъехавшую машину. Гречанка крестилась и охала, расстроенная тем, что привезли покойника, которого Виктор Ефимович укладывал на диван в передней. Но в то же время она с кокетством былых времен поправляла локоны своей сложной прически.
– Как девочка?… – спросил Костов, тяжело дыша.
– Плоха! – ответила Кристалло. – Доктор говорит, нет никакой надежды. Господи, как мне вас жаль! У вас такое доброе сердце.
Гречанка всхлипнула, но без слез, хотя искренне сочувствовала Костову. Вертепы Пирея, где она прошла через все ступени унижения, отучили ее плакать. Она лила слезы, лишь когда у нее бывала истерика.
Сопровождаемый Кристалло, Костов направился в комнату Аликс. Девочка лежала в широком деревянном кресле с красивой резьбой. На ночной столик Кристалло поставила букетик гвоздик. Укрытая белыми, ослепительно чистыми покрывалами, Аликс казалась маленьким скелетом, завернутым в саван. За пять дней ее изнуренное тропической лихорадкой тельце совсем растаяло и осталась лишь желтоватая кожа, натянутая на кости. Ручонки ее были похожи на сухие ветки, а прозрачная синева глубоко запавших глаз потемнела. Костов коснулся рукой ее лба – горячего и сухого, как накаленный солнцем камень. Пристально глядя перед собой, Аликс дышала часто и тяжело. Взгляд у нее был бессмысленный, он выражал лишь страдание – безграничный ужас перед жестокой головной болью, перед огненными шипами, которые лихорадка вгоняла ей в мозг. Может быть, ее изводили кошмары. Может быть, морские звезды, которыми она играла на пляже, сейчас вырастали до гигантских размеров и сжимали ее своими конечностями, покрытыми острыми колючками. Может быть, ей чудились спруты и каракатицы, которые оплетали ее своими щупальцами. Но она не могла даже закричать от ужаса, потому что силы ее иссякли.
И Костов понял, что Аликс умрет. Понял, что напрасно он привез ее из лачуги Геракли в этот дом, напрасно ходил по магазинам в Салониках, искал для нее куклу, платьице и туфельки и что никогда ему не увидеть ее взрослой, в вечернем платье из бледно-желтого шелка, с красиво причесанными бронзово-рыжими волосами.
У кресла стоял доктор-грек, в старомодном пиджаке, длиннолицый, седой, в пенсне, прикрепленном черным шнурком к лацкану пиджака. Костов невольно бросил на него укоризненный и недовольный взгляд, как будто хотел сказать: «Ведь я щедро плачу тебе… Так почему же ты не можешь ее спасти?» А доктор, всю ночь просидевший у постели Аликс, словно почувствовал этот несправедливый упрек и ответил с достоинством:
– Я сделал все возможное, сударь! Переливание крови… Мои немецкие коллеги, которых я приглашал, одобрили это…
Эксперт молчал. Наступила тишина, которую нарушал только шум катера, совершавшего рейс между Тасосом и Каваллой. В открытое окно были видны улица и сад, под самым окном – олеандры, усыпанные розовыми цветами. Виктор Ефимович подогнал лимузин к гаражу и, потрясенный, осматривал его помятое крыло. А над всем этим сияло лучезарное голубое небо.
Врач сказал:
– Вот так умирают тысячи греческих детей.
Он произнес эти слова глухо, вполголоса, как протест, который тяготил его совесть и рвался наружу, но, высказанный, мог ему повредить. Глаза его беспокойно замигали. К его удивлению, Костов хрипло подтвердил:
– Да, немецкая оккупация принесла вам большие беды.
Этого было достаточно. Учтивый грек, вполне удовлетворенный этим замечанием, тихо добавил:
– Ведь правда, сударь?… Война – это страшное бедствие.
– Сколько ей осталось жить? – спросил эксперт.
– Доживет до вечера, а может, до следующего утра. Пока не начнет падать температура и не участится пульс.
– Останьтесь при ней, доктор… Прошу вас. – Костову показалось, что голос его звучит откуда-то издалека. – Эта женщина будет вам помогать… Можете питаться у нас. Сам я очень занят, мне о многом нужно позаботиться. Внизу покойник.
– Да, я видел, – отозвался грек. – Не беспокойтесь, сударь, я останусь.
– Благодарю вас.
Костов ушел, а доктор догадался, что мягкость этого болгарина объясняется не тем, что война приняла другой оборот, и не страхом перед местью греков, а чем-то другим, глубоким и безнадежным, что разрывает его изнутри. И старомодно одетый врач, тонкий и впечатлительный, понял, что это такое. Он спросил гречанку:
– У него есть семья?
– Пет, он одинокий, как кукушка, – ответила Кристалле – Он хотел удочерить и воспитать эту девочку.
Прежде всего надо было покончить с неприятным делом в немецкой комендатуре: эксперт знал, что там его ожидает долгий, подробный допрос об обстоятельствах, при которых погиб фон Гайер. Он позвонил по телефону в штаб дивизии, чтобы поговорить с Фришмутом, но там не ответили. Тогда он решил пойти в комендатуру, но туг же вспомнил, что Ирина считает организацию погребения мужским делом. Сейчас она была в ванной, из которой доносились шум. душа и плеск воды, а вымывшись, она, вероятно, собиралась отоспаться и хорошенько отдохнуть, так как привыкла постоянно заботиться о своей красоте и здоровье. Эксперт был до того возмущен ее поведением, что впервые назвал ее про себя таким именем, какого она, в сущности, не заслуживала. Не заслуживала потому, что, ведя себя подобным образом, она бессознательно мстила тому миру, который ее развратил и опустошил.
Трупный смрад наполнял весь долг, так что оттягивать похороны было невозможно. Виктор Ефимович расхаживал но комнатам с багровым лицом, неспособный делать что бы то ни было. В отсутствие Костова он с утра до вечера пил и теперь, одурманенный, одинаково равнодушно относился и к брани своего хозяина, и к любым опасностям, которые могли возникнуть в ближайшие двадцать четыре часа в результате продвижения Красной Армии, озлобления греков или солдатского бунта в болгарских казармах. До него доходили слухи обо всем этом, но обсуждать их он считал излишним. Если революция вдруг вспыхнет, ничто не сможет ее остановить. Никто не знал этого лучше Виктора Ефимовича, хорунжего врангелевской армии. Поэтому он смотрел на все происходящее, опираясь на опыт первой мировой войны и с невозмутимым равнодушием пьяницы, хоть и не имел понятия, как поступят большевики (или болгарские коммунисты – все едино) с русскими белоэмигрантами.
Костов ругался:
– Трутнем стал! Только и знаешь, что напиваться… Алло! – Эксперт безуспешно пытался связаться по телефону с городской управой. – Другой бы па твоем месте все уладил, а мне самому бегать приходится… Алло!
– Я багаж уложил, – пробормотал Виктор Ефимович в момент просветления.
– Какой багаж? Алло!
– Белье, костюмы, туфли ваши…
– Куда ехать-то собираешься, пьяный хрыч?
– В Софию… Все бегут… В городе ни одного торговца не осталось.
– Что?! Станция, что за безобразие! Дайте мне городскую управу!
– Там вы никого не найдете, – лениво сказал Виктор Ефимович. – Мэр и чиновники бежали вчера вечером.
У эксперта подкосились ноги.
– Не может быть! Кто тебе это сказал?
– Все говорят, – ответил Виктор Ефимович. – Греки погром готовят. А в казармах ждут коммунистического бунта.
Костов положил трубку и бросил испытующий взгляд на своего слугу. Застывшее багровое лицо Виктора Ефимовича выражало лишь тупое равнодушие и печаль.
– Ясно! – проговорил он с идиотским хладнокровием. – Коли армия начинает бунтовать, все кончено. Скоро красные поставят нас к стенке… Конвейерный расстрел…
Костов понял, что Виктор Ефимович пьян вдрызг, и мимолетное замешательство, вызванное у него словами слуги, кончилось смехом. Но это был нервный смех.
– Слушай, олух! – сказал эксперт. – Красным ты нужен, как собаке пятая нога. Ступай найди попа и гроб!
– Что?
Виктору Ефимовичу чудилось, будто голос эксперта доносится из какого-то далекого, но жутко реального мира, с которым все-таки необходимо считаться. В ушах у него свистело и гудело, словно он слушал целый хор пароходных сирен, но этот хор пел приглушенно и действовал на него усыпляюще. Тихая, сладостная печаль охватила Виктора Ефимовича, по телу его разливалось невыразимо приятное чувство расслабленности.
– Попа и гроб! – с раздражением повторил Костов. – Грех… Надо же как-то похоронить покойника.
Виктор Ефимович смутно понял, что придется выйти из дому, а выходить в такую жару ему не хотелось.
– Говорят, греки бросают в болгар камнями, – попытался он отвертеться.
– Вздор! Мы только что проехали по главной улице… Ты просто трус.
Трус!.. Пет, Виктор Ефимович был не труслив. Просто его сковывала лень, хождение по улицам в тропическую жару казалось ему чем-то невыносимым и могло прекратить блаженное опьянение. Значит, попа и гроб!.. А на что они?… Старому франту вздумалось кого-то похоронить… Должно быть, девчонку… но ведь она еще жива… Вот самодур!.. Виктор Ефимович уставился на стенные часы в передней, и от движения маятника у него закружилась голова. Что-то еще вот так же болталось… Ах, да… рука трупа, который давеча переносили в дом. Виктор Ефимович вспомнил, что умер генеральный директор фирмы.
Он направился к двери, твердя в хмельном тумане: «Попа и гроб! Не забыть бы». Потом он вдруг спохватился, что не уложил в чемоданы два галстука и пару туфель, которые его хозяин купил себе в Стокгольме перед войной.
А Костов посмотрел, как он плетется по-стариковски, и подумал с раскаянием: «Зря я его ругал… Он такая же несчастная и одинокая развалина, как я».
Пока Ирина принимала ванну, а Виктор Ефимович отправился на поиски гроба, Костов поехал в немецкую комендатуру (необходимо было наконец осведомить немцев о том, что случилось с фон Гайером), а на обратном пути решил заглянуть к командиру болгарского батальона, расквартированного в городе, и узнать, как обстоят дела. Обдумывая предстоящий разговор с немцами, Костов подкрепился рюмкой коньяка, ничуть не рассердившись на Виктора Ефимовича, который высосал половину бутылок «Метаксы». Коньяк, сардины, черную икру и прочие деликатесы, которыми эксперт «Никотианы» привык поражать своих гостей, было уже невозможно увезти в Болгарию. Так же невозможно было взять с собой все многочисленные костюмы, галстуки, ботинки, пижамы и нижнее белье, заботливо уложенные Виктором Ефимовичем и чемоданы. Все это должно было остаться в подарок грекам, так как лимузин – единственное средство передвижения, которым Костов теперь располагал, – не мог увезти все вещи. Но эксперт и не думал о вещах.
Он сел в машину и не спеша поехал к немецкой комендатуре. Рука его стала более послушной и держала руль уверенно. Было около полудня, и приближались часы полного безветрия, когда небо здесь становилось пепельно-серым, а голые холмы излучали убийственный шов. Лицо эксперта побагровело и обливалось потом. Площадь у пристани кишмя кишела народом, но он не обратил па это внимания и свернул на набережную, по обеим сторонам которой высились дома сбежавших греческих миллионеров. В одном из них жил Кондоянис. Проезжая милю, Костов услышал свое имя. Он остановил машину и обернулся. Нa веранде в рубашке с короткими рукавами стоял служащий Кондояниса и возбужденно махал рукой.
– Что вы делаете, сударь? – кричал он. – Это в высшей степени неразумно!
Эксперт пожал плечами.
– Въезжайте во двор и сейчас же идите к нам, – сказал грек.
Костов оставил машину на улице и вошел в дом. На него повеяло приятной прохладой, атмосферой чистоты и благоуханием лаванды, исходящим от женщины, встретившей его в передней. Служащий, который его позвал, вежливый и благообразный молодой человек, был одним из доверенных лиц Кондояниса и, пленившись на его племяннице, жил в его доме.
– Куда вы ехали? – тревожно спросил грек.
– В немецкую комендатуру, – ответил эксперт.
– Господи!.. Как это вам взбрело в голову? Сейчас вам нельзя выходить из дому.
– Почему?
– Потому что вас могут убить. Немецкой комендатуры уже не существует. Немцы ушли позавчера, а сейчас на площади собираются рабочие. Ожидают, что придет партизанский отряд.
– Какой отряд?
– Не знаю, но боюсь, как бы не красный.
– Все равно! – Костов махнул рукой и отпил сиропу, предложенного ему женой служащего.
Затем он кратко рассказал об аресте Кондояниса, о смерти Бориса и гибели фон Гайера. Грек и его жена были потрясены. Женщина охала, ужасалась, а муж ходил взад и вперед, глухо стонал и время от времени нервно приглаживал свои черные волосы.
– Значит, вы договора так и не подписали? – спросил он, когда Костов кончил свой рассказ.
– Нет, не удалось… Помешал арест.
– Они его убьют! – сокрушалась жена хозяина.
– Нет, ничего они ему не сделают, – самоуверенно произнес грек. – Всему причиной эти мерзавцы – барон и фрейлейн Дитрих. Шефу надо было им что-нибудь подбросить. Лихтенфельд два дня намекал на это.
– Да. Лихтенфельд и Дитрих – паршивые собаки. И ваш Малони тоже оказался подлецом. Это он им донес обо всем.
Наступило молчание; хозяева неспокойно прислушались: по лестнице кто-то поднимался. Вошел пожилой, опрятно одетый человек с осунувшимся лицом малярика. Костов узнал в нем одного из ферментаторов со склада Кондояниса.
– Ну что там, Патрос? – испуганно спросила женщина.
– Митинг откладывается до вечера. Как видно, получено сообщение, что отряд задерживается.
– А что говорят рабочие? – Служащий Кондояниса налил ферментатору анисовки. – Красные флаги были?
– Нет!.. – ответил Патрос, глотнув анисовки и смерив враждебным взглядом Костова. – Красных флагов не было… Но было кое-что похуже: болгарские солдаты с красными лентами. – Он опять посмотрел на эксперта и сердито добавил: – Вы, болгары, приходите в Беломорье только затем, чтобы нам воду мутить… Если власть в городе возьмет ЭАМ, то этим мы будем обязаны только вашему проклятому пехотному батальону!.. Похоже, в нем половина солдат – коммунисты.
– Весьма возможно, – равнодушно ответил Костов.
Хозяева недовольно посмотрели на ферментатора, словно опасаясь, как бы он не оскорбил их гостя. Патрос был горячим поклонником Венизелоса и ненавидел болгар, но в космополитическом кругу табачных магнатов антагонизм национальностей исключался. Гость и хозяева раздраженно курили и время от времени поглядывали на Патроса. Ферментатор допил анисовку и собрался уходить. Он не без горечи понял, что сделался лишним в этом доме, как только рассказал о результатах своей разведки. Пропасть между хозяевами и рабочими нельзя было заполнить ничем.
– Хотите с нами пообедать? – спросил служащий Кондояниса после ухода Патроса.
– Нет, спасибо, – отказался эксперт. – Яне могу оставить госпожу Мореву одну.
– Бедная женщина! – сочувственно сказала хозяйка. – Она такая красивая и умная!
– А что теперь будете делать вы? – спросил грек.
Костов небрежно пожал плечами:
– Думаю возвратиться в Болгарию.
– По это же безумие! – Оливковые глаза грека взглянули на него сочувственно. – В Болгарию вступают советские войска.
Костов молчал.
– Оставайтесь у нас! – продолжал грек. – Вы знаете наш язык, и вы очень способный человек. Мы подыщем вам хорошее место в Афинах. Кондоянис о вас отличного мнения.
– Не имеет смысла, – ответил Костов.
– Подумайте об этом серьезно.
Эксперт повторил:
– Нет, не имеет смысла… Весьма вам признателен.
Он встал, поцеловал руку хозяйке и собрался уходить. Молодая чета проводила его до самой улицы. Когда Костов сел за руль и завел мотор, гречанка спросила:
– Это правда, что вы собираетесь удочерить какую-то сиротку с Тасоса?
– Да, я хотел, но девочка больна и, наверное, умрет.
– Вы очень добрый человек.
А Костов вспомнил маленькое худенькое тельце, обескровленное лихорадкой, и проговорил с горечью:
– Сударыня, я всего лишь бесполезный человек.
Пересекая площадь, примыкавшую к пристани, Виктор Ефимович шел но раскаленной гранитной мостовой и настойчиво твердил про себя: «Нужно найти попа и гроб… Он с ума спятил… Где я ему найду попа а гроб в такую жару?» По вскоре он сообразил, что стоит ему найти попа, как найдется и гроб, потому что священники по роду своих занятий связаны с магазинами похоронных принадлежностей. Это позволило Виктору Ефимовичу сосредоточиться лишь на выполнении первой половины задания. Он начал всматриваться в толпу, но жара, опьянение и что-то неладное с кровеносными сосудами в его голове действовали на него так, что люди двоились в его глазах, а иной раз он вместо одного человека видел четырех, так что был положительно не в состоянии различать, в камилавках они или в обыкновенных шапках. А толпа греческих рабочих и болгарских солдат с красными ленточками в свою очередь стала всматриваться в багровое лицо и дорогое одеяние Виктора Ефимовича, который имел обыкновение донашивать старые костюмы своего хозяина и сейчас был одет экстравагантно, по моде примерно 1928 года: пиджак без талии, брюки с не в меру широкими штанинами и венка. Но это одеяние, хоть и странное, не казалось бы столь вызывающим, если бы Виктор Ефимович догадался снять свастику, которая украшала петлицу его пиджака и которую он носил не из снобизма или желания подчеркнуть свою принадлежность к антикоммунистическому миру, а потому, что свастика побуждала немецких гостей его хозяина давать ему на чай. А сейчас, после того как Виктор Ефимович славно опустошил полдюжины бутылок коньяка «Метакса», он и вовсе не помнил про значок в петлице своего пиджака. Однако расхаживать со свастикой среди голодных греков, которые уже пять дней не получали даже ломтя кукурузного хлеба, было более чем вызывающе. И лишь опасение. что столь дерзкий субъект, уж конечно, носит в кармане пистолет, мешало грекам наброситься на него.








