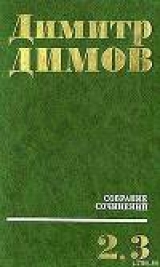
Текст книги "Табак"
Автор книги: Димитр Димов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 61 страниц)
Во главе своих подчиненных Чакыр вышел на тротуар перед околийским управлением и, расстроенный тяжкими думами, остановился на мгновение, устремив куда-то в пространство грустный взгляд. Под голубым небом и жизнерадостным майским солнцем победоносно ликовала толпа. Давно уже рабочим не удавалось собраться вместе, давно их ораторы не имели возможности воодушевить их жаждой свободной и сытой жизни!.. Несколько комсомольцев прикрепили к рейкам красные знамена, притащив их из дому тайком, под рубашками, и теперь размахивали ими над толпой. Рабочие прониклись уверенностью в своих силах и гордостью. Слова ораторов пробуждали в них чувство собственного достоинства, помогали им осознать, что рабочий класс борется не только за хлеб, но и за нечто более важное и великое, что принесет счастье всему человечеству. В лучистом сиянии майского дня витала надежда на новый мир, в котором не будет униженных бедностью, в котором склады и фабрики будут принадлежать всем, а не горстке дармоедов, приказывающих сейчас своим вооруженным прислужникам стрелять в рабочих. Все пламеннее звучали слова ораторов, все больше росло воодушевление рабочих. Оно вызывало жажду справедливости даже у бедных горожан, наблюдавших со стороны, даже у безработных завсегдатаев кафе, которые тоже размышляли о своей судьбе.
– Рабочие – это не шутка, да!.. – задумчиво проговорил пенсионер, бывший учитель математики.
– Правильно действуют! – сказал монтер, который исправлял вентилятор в кафе и теперь слезал со стремянки.
– Смелее, ребята! – негромко подбадривал бастующих участковый ветеринар: он как раз пересекал площадь на своей двуколке, нагруженной лекарствами, которые он получил от своего начальника, околийского ветеринара. Как большинство агрономов и ветеринаров, в душе он считал себя коммунистом и сочувствовал рабочим.
– В добрый час, доктор! – дружески ответил ему какой-то тюковщик. – Поешь печенки за здоровье голодных!
Но тюковщик не знал, что ветеринарный врач сейчас едет в деревню, чтобы помочь своим коллегам провести массовую прививку скоту от сибирской язвы. А это было опасное, тяжелое дело, и ветеринару предстояло попотеть. Поэтому он сочувствовал рабочим и крестьянам, также обливавшимся потом, и ненавидел их хозяев, лимузины которых, проезжая по шоссе, нередко обдавали пылью его лошаденку и двуколку.
Из сада при читальне вылетела вспугнутая стая воробьев. Полицейские, безуспешно пытавшиеся остановить бастующих рабочих «Никотианы», стояли па другом конце площади и, держась подальше от толпы, собравшейся на митинг, злобно ругали инспектора, который сделал глупость, послав эскадрон на окраину. После недавней схватки и лица полицейских, и их мундиры имели довольно помятый вид. У щуплого белобрысого унтера, который ими командовал, был отпорот погон и оторвано несколько пуговиц. Он побежал в околийское управление за новыми распоряжениями и, поравнявшись с Чакыром, даже не поздоровался с ним. Между обоими полицейскими существовала скрытая вражда. Молодой любил покутить со штатскими агентами, а старому это не нравилось. Пока Чакыр, подавленный мрачными мыслями, шел с подчиненными к толпе, из открытого окна доносились истерические крики околийского начальника.
– Вперед!.. Разгоните их!.. Стреляйте!.. – вопил он, обезумев от страха, что кмет, дирекция фирмы и воевода Гурлё оклевещут его, обвинив в бездействии.
Чакыр и его люди медленно шли вперед, не обращая внимания на крики. Они понимали в эту тяжелую минуту, что какая-то зловещая сила приказывает им подвергать опасности свою жизнь ради прибылей фирм. И Чакыр слышал: устами околийского начальника кричит мафия, которая стоит над всеми и управляет всем. И не околийский начальник, а она приказывает разогнать голодных людей.
– Скорее! – снова завопил околийский начальник. – Трусы! Под суд вас отдам! Ах ты, старый осел, за шкуру свою дрожишь! Передай командование другому!
– Принимаю! – раболепно отозвался молодой унтер.
Чакыр вздрогнул, словно его хлестнули плеткой, и пришел в себя. Мысли, только что волновавшие его, сразу же исчезли. В голове образовалась пустота – бессмысленная пустота, тупая, но освободившая его от натиска противоречивых дум. И среди этой пустоты вновь зашевелились разбуженные криками околийского начальника привычка к дисциплине и мелочное чувство служебной чести, которое мафия умело воспитывала в своих слугах. Теперь Чакыр думал только о том, что околийский начальник обвиняет его в трусости и приказывает передать командование другому. Он боится? А чего бояться? Как бы не так!.. Чакыр выпятил атлетическую грудь и стиснул плетку. Честолюбие и привычка, воспитанные многими годами службы, снова превратили его из мыслящего человека в послушный автомат.
– Стой! – крикнул он молодому унтеру. – Командовать своими людьми буду я! А ты наступай с другой группой со стороны гостиницы.
– Но господин начальник… – попытался было возразить унтер.
– Марш отсюда! – заорал Чакыр.
Он поднес ко рту свисток и дал сигнал. Подчиненные, как послушные цыплята, сбежались к нему. Чакыр приказал им развернуться в цепь и повел их на толпу. Так же поступил и молодой унтер, двинувшись с другой стороны площади. Забастовщики, увидев, что полицейские снова направляются к ним, приготовились к встрече. Вперед вышли вооруженные палками, досками и камнями, образовав своего рода фалангу, другие сомкнулись у стола, с которого держал речь Симеон, а третьи, преимущественно женщины и девушки, побежали к соседним улицам. Чакыр дошел до живой человеческой стены и глухо проговорил:
– Ну, ребята! Расходитесь по домам!
– Чакыр! – сказал кто-то. – Зачем ты пришел сюда стараться ради богачей? Лучше иди домой пить ракию под орешиной.
– Так я и сделаю, – отозвался Чакыр. – Но сначала расправлюсь с вами.
Он схватил смельчака за шиворот и резким движением вырвал его из фаланги. Забастовщик, маленький и тщедушный, повалился на землю, но его товарищи не двинулись с места. Крупная, атлетическая фигура Чакыра внушала им страх. Кроме того, все знали, что он чуть ли не единственный честный полицейский в городе и никогда не проявляет излишней жестокости.
– Ребята, будем драться! – зловеще предупредил Чакыр, увидев, что никто не двигается.
– Бей, Чакыр, бей!.. – с горечью произнес упавший. – За то тебе и платят!..
Он поднялся, по двое полицейских сразу же схватили его за плечи.
– Стыдно, дядя Атанас!.. – с укором сказал другой забастовщик. – Ты человек разумный.
– Дай нам мирно и тихо закончить собрание.
– Нельзя, господа! – громко крикнул Чакыр.
В слове «господа» прозвучала служебная строгость, но вместе с тем желание избежать кровопролития. Чакыр терпеть не мог применять оружие. Сейчас он сознательно медлил, затягивая выполнение приказа, в тайной надежде, что скоро подойдет эскадрон и толпу удастся разогнать плетьми.
Но внезапно положение ухудшила работница по прозвищу Черная Мика.
– Эй ты, кровопийца! – в негодовании крикнула она. – Моревский сынок сделал твою дочь шлюхой, а ты пришел нас бить!
Послышался смех. Стрела была направлена метко и поразила Чакыра в самое уязвимое место.
– Что?… – взревел он, как раненый зверь.
– Дочь твоя – шлюха!.. – повторила Черная Мика под злорадный хохот остальных женщин.
Плеть Чакыра описала широкую дугу и обвилась вокруг шеи и груди Черной Мики; женщина пронзительно взвизгнула. В тот же миг на руку полицейского молниеносно обрушилась палка. Чакыр побледнел от боли, но не вскрикнул. Плеть его стала без разбора хлестать бастующих. Увидев это, его подчиненные бросились в атаку с дубинками. В толпе раздались глухие крики. На другом конце площади загремели выстрелы. Люди молодого унтера слова пустили в ход пистолеты.
Чакыр услышал голос кого-то из своих подчиненных:
– Господин начальник, Спасуна!.. Берегись Спасуны!
Чакыр оглянулся и увидел искаженное, залитое кровью лицо Спасуны. Держа в руке большой камень, она замахнулась, готовая изо всей силы швырнуть его в голову Чакыра. Он не успел даже попытаться отскочить назад – слишком поздно его предупредили. Но в то же мгновение, прежде чем удар обрушился ему на голову, он увидел, как один полицейский почти в упор выстрелил в грудь Спасуне из пистолета. Чакыр рухнул на землю, а на него упала сраженная пулей Спасуна. Толпа растерялась и после минутного колебания в панике бросилась бежать па бульвар, который вел к вокзалу. На взмыленных копях к площади мчался эскадрон полицейских.
XVII
Чакыру устроили торжественные похороны, и в городке это вызвало много разговоров, но не столько о заслугах покойного, сколько о его дочери. Все понимали, что полицейский вряд ли удостоился бы таких почестей, если бы господин генеральный директор «Никотиаиы» не известил заранее через Баташского, что будет лично присутствовать на погребении. Узнав об этом, кмет и полицейский инспектор готовились к церемонии с таким рвением, что многие благонадежные горожане, собиравшиеся пойти на похороны из уважения к Чакыру, пришли скорее из любопытства.
Перед домом Чакыра стояла большая толпа его опечаленных друзей и знакомых, праздных ротозеев и городских сплетников. Соседи поглядывали то на раскидистую орешину, под которой Чакыр любил посидеть вечерком за стопкой ракии, то на начищенное толченой черепицей крыльцо, с которого должны были вынести гроб. Соседи эти были простые, бесхитростные люди, искренне жалевшие Чакыра. Сейчас они вспоминали, какой он был вспыльчивый, по честный человек, и скорбно причмокивали языком, выражая этим жалость, сочувствие и покорность судьбе.
Компания молодежи, собравшаяся на тротуаре перед домом и привыкшая смеяться над простонародьем, ожидала выноса тела с шутовской почтительностью. Сын бывшего депутата Народного собрания, соседа Чакыра по винограднику, пришел со своей собакой и, пересчитав собравшихся священников, нашел, что их до смешного много для такого скромного полицейского чина. Этот молодой человек был все еще красив, хотя с годами немного опух от провинциальной привычки злоупотреблять ракией.
– И начальник гарнизона здесь! – заметил инженер из дорожной конторы.
Он вырос в одной из окрестных деревушек, но местное избранное общество великодушно приняло ого в свой круг, потому что он получил инженерное образование на Западе и умел играть в бридж.
– Не хватает только представителя правительства, – подхватила дочь первого адвоката в городе.
Она училась в Стамбуле в одном колледже с Марией и заботилась о том, чтобы этого не забывали.
– А немцы? – спросил толстый владелец вальцовой мельницы. – Где же заправилы из Германского папиросного концерна?
– Вместо них явился сводник! – пошло улыбаясь, ответил хилый желтолицый юноша.
Этот юноша унаследовал от отца целый квартал домов в центре города и теперь продавал их один за другим, чтобы поддерживать в софийских кабаре свою славу донжуана. Желая побольнее уязвить Бориса, он распускал слухи, что тот лишь благодаря Ирине добился благосклонности немцев.
– Ты пересаливаешь! – сердито одернула его адвокатская дочка.
Она не любила непристойностей и всегда стремилась держаться в рамках хорошего тона. Отвращение к крайностям создало ей репутацию девушки добродетельной, хотя и без предрассудков.
– Вовсе не пересаливаю! – возразил хилый юноша, удачно передразнивая ее грассирование. – А почему ее катают на автомобилях по Чамкории? Почему приглашают играть в бридж?
– Вздор! – Бывшая одноклассница Марии рассердилась, словно это оскорбили ее. – Ирина – в бридж!.. Не смеши меня.
Она была твердо убеждена, что бридж – трудная и сложная игра, ничем не уступающая алгебре, которой она училась в колледже, – совершенно недоступен для скороспелых богачей из простонародья.
– Ну что же! Хочешь верь, хочешь пет! – отозвался донжуан, знавший, как легко эта игра дается даже дамам из «Этуаль».[47]47
«Этуаль» – модное кабаре в центре старой Софии.
[Закрыть]
Но вот толпа перед домом возбужденно зашевелилась. В конце улицы показался длинный черный лимузин. Вес поняли, что господин генеральный директор «Никотианы» прибыл, чтобы защитить честь любовницы своим присутствием на похоронах ее отца. Из машины вышли Борис и Костов. Они поздоровались кое с кем из толпы, а па избранное общество не обратили внимания.
– Индюк! – сердито пробормотал сын бывшего депутата. – Еще вчера был паршивым голодранцем, а сегодня пыжится, как министр!
– Нам надо было войти в дом и вместе со всеми выразить соболезнование, – сказала бывшая одноклассница Марии.
Она втайне восхищалась Борисом, и порой ей даже казалось, что ради него она могла бы отречься от своего умеренно добродетельного образа жизни.
– Иди, если тебе так хочется!.. – грубо отрезал сын бывшего депутата, зарекаясь жениться на ней.
Очевидно, ждали только приезда Бориса – сейчас все в доме и во дворе покойного засуетились. Священники надели епитрахили. Мальчишки с хоругвями и венками выстроились на улице и ждали выноса, лениво поедая вишни, которые они успели нарвать в саду Чакыра. Поджарый белобрысый унтер вышел к почетному взводу полицейских и скомандовал: «Смирно!», а четверо других – пожилые, тщательно выбритые младшие офицеры с повязками из черного крепа на рукавах мундиров – вынесли из дома гроб. Тотчас же заголосили деревенские женщины – сестры, невестки и племянницы Чакыра, а за ними и добровольные плакальщицы, собравшиеся со всего квартала. Пронзительные голоса их сливались в дикое и тоскливое завыванье, заставившее досадливо поморщиться некоторых официальных лиц, но знакомых с местными обычаями. Одна плакальщица жалобно перечисляла достоинства покойного, другая горестно вопрошала, кто будет заботиться о его винограднике и табачном поле, третья оплакивала осиротевшее семейство, а четвертая с эпическим пафосом описывала, как Чакыр возвращался с дежурства, садился под орешиной и потягивал ракию. Вскоре плакальщицы раскраснелись, и по щекам у них потекли неподдельные слезы. Когда же гроб поставили на катафалк, женщины заголосили так громко, что заглушили все прочие звуки, а представители избранного общества вынули носовые платки и, прикрыв ими лица, громко захихикали. Только бывшая одноклассница Марии была по-прежнему невозмутима. Хороший тон, усвоенный в колледже, убил в ней способность ценить комичное и трагикомичное. Она негромко бормотала:
– Совершенно мужицкие похороны!.. Будь Ирина подлинно интеллигентной, она не допустила бы такой комедии! Жалко Бориса.
По лестнице, тихо всхлипывая, спускалась жена Чакыра. За ней, красивая и скорбная, в дорогом траурном платье шла Ирина, устремив неподвижный взгляд куда-то в пространство. Но в глазах ее не было ни слезинки. Под траурным крепом собравшиеся видели уже не прежнюю девочку, а женщину из другого, недосягаемого мира, которую не могли задеть ни насмешки местной знати, ни нелепые обряды невежественных деревенских родственников. Следом за Ириной с подобающими печальному событию скорбными и серьезными лицами шли Борис, Костов, кмет и начальник гарнизона. Не было только околийского начальника. Он чувствовал себя виноватым и понимал, что положение его пошатнулось. Сразу же по приезде господин генеральный директор «Никотианы» спросил у кмета, почему околийский начальник послал на опасное дело самого старого и заслуженного полицейского. Кмет, который был не в ладах с околийским начальником, угодливо ответил:
– Я тоже не могу этого попять, господин Морев! Непростительная ошибка! Просто он никудышный администратор и не сумел справиться с положением.
Осудив таким образом своего шефа, на чье место он метил давно, кмет, пользуясь случаем, стал перечислять и другие оплошности околийского начальника. Господин генеральный директор «Никотианы» многозначительно заметил, что поинтересуется деятельностью этого субъекта. Итак, все уже знали, что песенка околийского начальника спета и долго он не продержится.
От жары тело Чакыра начало разлагаться, и от гроба попахивало.
– Воняет! – невозмутимо заметила бывшая одноклассница Марии, сморщив курносый носик.
Это спокойное замечание вызвало новый взрыв смеха у ее приятелей. Но она, не обратив на это внимания, продолжала во все глаза следить за погребальной церемонией, чтобы ничего не упустить и потом описать все подробно в длинном письме к подруге, живущей в Софии.
Мальчишки с хоругвями и венками первыми тронулись в путь по пыльной улице, за ними потянулись потные и раздраженные долгим ожиданием священники, потом полицейский, который нес ордена Чакыра. Наконец тронулся и катафалк, сопровождаемый родными и близкими покойного, почетным взводом полицейских и толпой горожан. Шествие медленно растянулось по залитым солнцем улицам городка, оставляя за собой облака пыли, пропитанные тошнотворным запахом тления, ладана и цветов. Время от времени слышалось заунывное пение священников и позвякивание кадил. Прохожие останавливались и удивленно смотрели на Бориса, шагавшего за гробом. Одни толковали его присутствие как проявление раскаяния, другие – как наглую демагогию. Только немногие, самые проницательные, сразу поняли, что Борис теперь так богат и могуществен, что ему незачем ни раскаиваться, ни ударяться в демагогию.
В это время на кладбище поспешно хоронили Спасуну. Возле ямы, которую могильщики проворно засыпали землей, стояли родственники покойной – жены рабочих и несколько мужчин с кепками в руках. Сестра убитой тихо всхлипывала. Осиротевшие дети моргали опухшими глазами, чем-то напоминая брошенных щенят. Тощий старый священник торопливо складывал свою епитрахиль.
К могиле подошел маленький сморщенный полицейский в потертом мундире.
– Давайте поживее! – прикрикнул он. – Нечего тянуть.
Он получит от инспектора приказ выгнать рабочих, прежде чем к кладбищу подойдет другая похоронная процессия, многолюдная и пышная.
Могильщики заспешили. Над убогой могилой вырос небольшой холмик, в который женщины воткнули несколько стебельков базилика и гвоздики. Сморщенный полицейский снова стал торопить рабочих. Могильщики присели на траву, вытирая потные лица. Один из них закурил. Рабочие молча стали расходиться. Последними ушли сестра Спасуны и какая-то старушка, которая повела за руки сирот. На опаленном зноем кладбище снова воцарилась печальная, сонная тишина.
Спустя несколько минут на шоссе показалось длинное шествие, окутанное пылью. Приближалась похоронная процессия с гробом Чакыра.
Ирина возвратилась с кладбища вместе с матерью, окруженная толпой деревенских родственников, которые приехали за день до похорон и остановились на постоялом дворе. Она с самого начала встретила их холодно и недружелюбно. Стремясь избежать лишних расходов, они заикнулись было о том, чтобы переночевать в доме, но только рассердили Ирину, которая не хотела, чтобы ее стесняли. Динко тоже показался ей неприятным, хотя в вопросе о ночевке он стал на ее сторону и спровадил родственников на постоялый двор. Он избегал говорить о смерти дяди – видимо, придерживался особого мнения. Ирина заметила, как неприязненно он смотрит на ее дорогое черное платье, маникюр и модную прическу. Наверное, прикидывает в уме, хватает ли на все это тех денег, которые ей посылают родители. Но вскоре она со стыдом почувствовала, что и все обращают внимание па ее внешность. Ей приходилось все больше считаться с требованиями среды, в которой она вращалась, и вот уже несколько месяцев Борис целиком оплачивал ее туалеты.
После похорон родственники, несмотря на строгие наказы Динко, притащили с постоялого двора свои суконные плащи и котомки с едой. Они хотели остаться на заупокойную молитву, которую священник, должен был на следующий день прочитать на могиле.
Ирина незаметно покинула родню и ушла в свою комнатку. Она была утомлена и подавлена, но в то же время ее охватило какое-то странное чувство освобождения, словно она была довольна, что смерть отца избавила ее от его суровой и деспотической власти. Конечно!.. Никогда больше ее не будут преследовать его упреки, его сердитые полуграмотные письма, никогда больше не придется испытывать унижение во время неожиданных приездов отца в Софию. У Чакыра была неприятная привычка приезжать в столицу в полицейской форме и поджидать дочь у дверей клиник и аудиторий. Студенты при виде полицейского насмешливо улыбались. Правда, отец всегда был опрятен, подтянут и даже молодцеват, но она краснела от стыда, когда ходила с ним по улицам, и, хоть этот стыд был нелеп и унизителен, она не могла его побороть. Наконец-то смерть отца избавила ее от всего этого. Но вместе с тем она со страхом ощутила, что сама она стоит па распутье.
В комнатке все было по-старому: та же простая железная кровать, на которой она в ранней юности лежала, мечтая часами, та же деревянная этажерка с книгами, тот же столик, покрытый полотняной скатертью, сотканной руками матери. За открытым окном журнала речка и тихо шелестела листва орехового дерева.
Перед Ириной сразу возникло прошлое. Она вспомнила, с каким волнением мечтала об университете, вспомнила об осенних вечерах, когда па небе сияли яркие звезды и она помогала отцу убирать табак. Она знала, что деньги, вырученные от продажи табака, отец каждый год вносил в банк. Их откладывали для Ирины – на ее ученье в университете. На эти деньги, которые отец начал копить уже давно, она проучилась шесть лет в Софии, не зная ни нужды, ни забот. Каким дальновидным и мудрым человеком был, в сущности, ее отец!..
И тут она заплакала – о прошлом и об отце. Плакала она потому, что за его суровостью таилась глубокая любовь к ней, потому, что он был честным, порядочным человеком, потому, что она ничего не сделала, чтобы пощадить его мещанскую гордость. Это был тихий успокоительный плач, и слезы, казалось, смывали угрызения совести.
Кто-то постучал. Ирина поспешно вытерла лицо и открыла дверь. У порога стоял Динко.
– Пришел прощаться, – сказал он. – Еду к себе в деревню.
Ирина кивнула ему почти враждебно, словно перед нею был не двоюродный брат, а какой-то надоедливый знакомый. Хмурое и замкнутое лицо Динко по-прежнему раздражало ее – раздражало не меньше, чем суконные плащи и котомки деревенских родственников. Кроме того, ее охватил какой-то унизительный страх: наверное, Динко уже узнал от соседей о том, как бушевал отец, услышав о ее новой связи с Борисом. Ей показалось, что Динко пришел поговорить с ней об этом от имени всей родни. Не лучше ли будет раз и навсегда выяснить отношения и пресечь все дальнейшие попытки родственников вмешиваться в ее личную жизнь?
– На молитву не останешься? – сухо спросила Ирина.
– Нет, – ответил Динко. – Я уезжаю… Сказать по правде, я пришел попросить тебя об одной услуге.
Она посмотрела на него и только сейчас с удивлением заметила в нем перемену, па которую раньше не обращала внимания: Динко стал крупным, красивым мужчиной. Его прямые русые волосы были хорошо подстрижены и зачесаны назад, а зеленые глаза светились той твердостью, которая сразу же покоряет людей и так нравится женщинам. «Слава богу, – подумала Ирина, – хоть один приличный двоюродный брат, а если бы он перестал носить костюмы из домотканого сукна, с ним можно было бы показаться в любом обществе». И ей пришло в голову, что, если бы Динко не был так безнадежно увлечен коммунизмом, он мог бы по протекции Бориса поступить в «Никотиану» и сделать карьеру. Но она тут же поняла, что Динко никогда па это не согласится, и снова разозлилась на него.
– О какой услуге? – спросила она. – Входи и закрой за собой дверь.
Динко присел на единственный стул, и тот заскрипел под его тяжестью.
– Я прошу тебя помочь одному человеку, – тихо промолвил он. – Но сначала дай честное слово, что никому не скажешь, о чем я прошу. Обещаешь?
Ирина немного подумала и ответила:
– Обещаю.
– Речь идет о спасении жизни… – Динко понизил голос и говорил почти шепотом. – У нас дома, в деревне, лежит девушка со сломанной рукой… В очень тяжелом состоянии. Высокая температура, бредит… Рука отекла и посинела.
– Почему ты не обратишься к участковому врачу?
– Потому что он фашист, а девушку разыскивает полиция. Он сразу же выдаст ее.
Ирина вздрогнула.
– Так вот в чем дело? – с иронией бросила она. – Значит, вы и в деревне баламутите парод!.. Что это за девушка?
– Лила.
Ирина задумалась. Динко пристально наблюдал за пей.
– Значит, ты хочешь, чтобы я спасала своих врагов – тех, что убили отца?… – сказала она, немного помолчав. – Так?
– Сейчас не время спорить об этом! – Динко гневно повысил голос. – Тебя просят оказать помощь раненой! Поможешь или пет?
– Обязана помочь, – проговорила Ирина с горькой усмешкой.
– Будет верхом подлости, если потом ты ее выдашь.
Ирина засмеялась холодным, невеселым смехом.
– Ты считаешь меня моральным выродком, не так ли? – спросила она.
– Нет! – Голос Динко был по-прежнему тверд. – Потому я и обращаюсь к тебе, что не считаю тебя выродком.
– Спасибо! – Горькая усмешка не сходила с ее губ. – Попытаюсь сделать все, что могу.
– Завтра утром я заеду за тобой на двуколке.
– Ладно. Приезжай.
Динко встал и собрался уходить, но Ирина остановила его.
– Тебе, наверное, хочется поговорить со мной еще о чем-то? – со злой иронией спросила она.
– Незачем, – ответил он. – Все ясно и для нас, и для соседей, и для тебя.
– А я хочу, чтобы стало еще ясней.
Ирина протянула ему свой портсигар, наполненный экспортными сигаретами с золочеными мундштуками. Динко хмуро уставился на серебряную безделушку, украшенную рубинами, и не взял сигареты.
– Ну да! Это от него, – с раздражением сказала Ирина. – Хороший подарок, правда?
– Хороший и дорогой, – равнодушно согласился Динко, закуривая собственную сигарету.
Наступило молчание, и тут Ирина почувствовала, что он сейчас выскажется начистоту. И она была благодарна ему за это.
– Послушай, – начал Динко спокойным тоном, который неприятно удивил и даже несколько уязвил Ирину. – Из всех родственников только я один могу тебя понять. Покойный дядя и тот не понимал тебя. Он был человек честный, но скованный мещанскими предрассудками своей среды… Это тебя тяготило, правда?
– Да, – ответила она тихо.
– А ты уверена, что я могу тебя понять?
– Не совсем.
– Тогда допустим хотя бы, что я искренне стремлюсь к этому.
– Допустим, – сказала она равнодушно.
Он хмуро взглянул на ее смуглую нежную руку, золотые часы, ногти, покрытые темно-красным лаком. На позолоченном кончике ее сигареты осталось пятнышко от губной помады. Ничто так очевидно не выдавало отчужденности Ирины от семьи, как эта изящная, выхоленная рука. И все же это была рука девушки из народа. Об этом напоминали и широкая кисть, и крепкие мускулы предплечья.
– Ну что же, допустим!.. – Он горько улыбнулся. – В таком случае я мог бы задать тебе несколько вопросов, и ты не подумаешь, что я вмешиваюсь в твои личные дела или навязываюсь тебе в опекуны?
– В опекуны? – повторила она, как безразличное эхо. – На это ты не имеешь права… С какой стати?
– Разумеется. Я говорю с тобой просто как друг… Или как представитель семьи, если тебя коробит слово «друг».
– Нет, не коробит… – Ирина потушила сигарету. – Что именно тебе хочется узнать?
– Совсем не то, что ты думаешь. Меня не интересует формальная сторона дела.
– Очень хорошо! – В ее голосе прозвучала сдержанная признательность. – Я пока не могу выйти замуж за Бориса.
– Не в этом дело, не важно, выйдешь ты за него пли нет.
Ирина удивленно взглянула на него. Умные зеленые глаза Динко, не мигая, смотрели на нее в упор. Они излучали спокойный, ясный свет, который помогал ей говорить откровенно.
– Тогда в чем дело? – мягко спросила она. – Ты ошибаешься, если думаешь, что я получаю от него кучу денег… Я не отказываюсь лишь от того, что мне необходимо, чтобы вращаться в его среде.
– Это тоже не имеет значения, – заметил он, к еще большему ее удивлению. – Гораздо важнее самой во всем давать себе отчет. Гораздо важнее, чтобы ты знала, что именно ты любишь: самого Бориса или его мир?
– Могу ответить сразу. Я люблю только Бориса.
– А мне кажется, что ты его уже не любишь, – продолжал Динко задумчиво. – Ты не могла бы любить человека, который бросил тебя как тряпку, чтобы жениться на Марии и прибрать к рукам «Никотиану». Ты помнишь, в каком состоянии ты была тогда? Неужели ты это забыла?
– Я страдала, потому что любила его, – быстро проговорила Ирина. – И сейчас люблю!.. И всегда буду любить! Ради него я готова на все! – В ее голосе неожиданно зазвучала насмешка. – Что еще тебя интересует? – спросила она.
– Ничего! – ответил он, угрюмо усмехнувшись. – Это вполне тебя оправдывает.
– Думай, что хочешь, – сказала она.
Лицо его снова стало спокойным и серьезным.
– По крайней мере я буду уверен, что ты сама себя обманываешь. – Он чиркнул спичкой и опять закурил сигарету, наполнив комнату едким дымом. – Значит, ты его любишь? – В голосе Динко звучала лишь еле заметная ирония. – Но вряд ли так сильно, как раньше, а при теперешних обстоятельствах это уже много.
– Что ты имеешь в виду?
– То, о чем только что говорил. На самом деле ты любишь его мир… Сейчас ты любишь Бориса лишь потому, что дорожишь этим его миром. Тебе лестно быть любовницей человека, перед которым все трепещут.
– Тебе остается только назвать меня содержанкой. Мне все равно.
– Я боюсь именно того момента, когда ты сама почувствуешь, что стала содержанкой.
– А если я выйду за него замуж? – спросила Ирина презрительно.
– Это будет только очередной успех в твоей карьере.
– Это ты и хотел мне сказать?
– Да, это! И еще одно: понимаешь ли ты, что фактически Борис – убийца твоего отца?
– Убийца?… – повторила она, ошеломленная.
Это слово испугало ее. Казалось, оно не вырвалось из уст Динко, а существовало вне его, вне отношения Динко к Борису. То прозвучала сама действительность, которой нет дела до ненависти или снисходительности.
– Неужели это тебе самой не приходило в голову? – продолжал Динко, не дав ей опомниться. – Ты что, уверена, что его убили забастовщики? А кто вынудил голодных рабочих бастовать?… Кто послал твоего отца против них?… Кто отдает приказы правительству, министрам, околийскому начальнику, полиции?… Кто на самом деле управляет страной? Только капитал! Только Борис и другие олигархи вроде него! Отец твой был послушным колесиком в государственной машине – колесиком, которое вчера сломалось и которым тоже управлял Борис! Борис всесилен!.. Но всех честных людей возмущает и «Никотиана», и его поведение. Каждый знает, что он мог бы дать прибавку рабочим и после этого по-прежнему получать миллионные прибыли и жить, как князь… Но рабочие для него – это скот, бесправная толпа, которую можно давить как угодно, лишь бы сэкономить на обработке табака. А эта экономия – часть его прибылей… Зачем ему повышать поденную плату хотя бы на пять процентов, если забастовщики через несколько дней сами будут проситься обратно на работу? Вчера я прошелся по рабочему кварталу. Я видел голодных людей, которые собирались громить пекарню… Матерям нечем кормить детей… Двое ребятишек подрались из-за куска заплесневелого хлеба… Вот что натворила клика, сидящая на шее у болгарского народа!.. Вот что делает твой Борис, который подарил тебе золотые часы и серебряный портсигар с рубинами. Ведь это ворованные, украденные у народа вещи…








