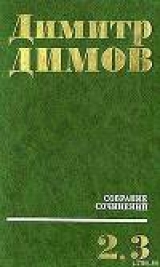
Текст книги "Табак"
Автор книги: Димитр Димов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 61 страниц)
– Почему? – с удивлением спросил фон Гайер, и голос его прозвучал немного насмешливо.
– Этот разговор мне неприятен.
– А я хочу сделать его приятным!.. – Из груди бывшего летчика вырвался беззвучный нерадостный смех. – Я могу изменить свое решение.
Наступило короткое, напряженное молчание. Где-то в саду одинокий кузнечик никак не мог кончить свою песню, тихо шелестела на деревьях листва. Из-за моря поднялась луна и залила веранду печальным, мертвенным светом. Ирина пристально всмотрелась в лицо фон Гайера и прочла на нем недоверие, циничную немую насмешку, готовность выслушать любую ложь. То было разочарованное лицо пресыщенного мужчины, который имел много любовниц и был не прочь завести еще одну. Как и у всех, кто жил в мире «Никотианы» и Германского папиросного концерна, оно было мертво, отравлено табаком. Бодрящее приятное волнение, которое всегда овладевало Ириной в присутствии фон Гайера, теперь улеглось, и в этом тоже был повинен табак. И тогда она поняла, что ей остается только уйти с веранды.
– Спокойной ночи, Herr Hauptmann! – сказала она и быстро поднялась. – Вам незачем менять свое решение.
– Куда вы? – спросил неприятно удивленный фон Гайер.
– Спать, – ответила Ирина.
– Останьтесь, докончим разговор.
– Нет, – возразила она. – Если я останусь, мы окончательно испортим этот вечер.
Немец снова рассмеялся холодным, безрадостным смехом. Но вдруг он встал и схватил ее за плечи.
– Садитесь!.. – приказал он.
Ирина вздрогнула, когда к ней прикоснулись сильные руки, но стала упорно сопротивляться. И тут же почувствовала, что эти руки сжали ее как в тисках и она не в силах вырваться. Она услышала тонкий аромат мыла и запах здорового чистого мужского тела (немец каждое утро плавал и делал гимнастику, а зимой обтирался снегом). На мгновение ее обуяло желание отдаться этому мужчине, ответить ему таким же объятием. Но это была лишь вспышка животного инстинкта, а то душевное влечение, которое она испытывала раньше, исчезло. Она сознавала только, что какой-то дерзкий мужчина обнял ее, и равнодушно, с досадой ждала, когда же он ее отпустит. Поведение немца казалось ей слащавым и смешным, как скверно разыгранная сцена в спектакле.
– Я могу разорить ваш концерн! – сказала она.
– Я бы пошел даже на это.
– Вам совсем не идет притворяться легкомысленным. – Она рассмеялась и добавила: – Пустите меня, Herr Generaldirector.[51]51
Господин генеральный директор (нем.).
[Закрыть]
Фон Гайер разжал руки.
– Почему вы называете меня Herr Generaldirector? – резко спросил он.
– Чтобы не называть вас Herr Hauptmann.
– Вот как?… – Немец говорил хриплым голосом и как будто утратил прежнюю самоуверенность. – А какая между ними разница?
– Та, которую мне следовало бы предугадать.
У бывшего летчика вырвалось глухое восклицание, как будто его больно ударили. Он неожиданно выпустил Ирину и бросился в кресло.
– Хорошо сказано, – прохрипел он. – Вы попали не в бровь, а в глаз!.. Впрочем, от вас этого и надо было ждать.
Фон Гайер рассмеялся резким, нервным смехом и схватился за голову, но в этом движении не было ничего фальшивого или смешного. Он крепко пригладил обеими ладонями свои каштановые, тронутые сединой, аккуратно причесанные волосы. Луна уже высоко поднялась над морем, так что Ирина хорошо видела его лицо и торс, обтянутый свитером.
– Итак – Generaldirector! – продолжал он все тем же хриплым голосом. – Богатый, нахальный, ожиревший и противный – верно?
– Нет!.. – сказала с улыбкой Ирина. – Во всяком случае, не жирный и не противный.
И затем добавила:
– Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, – откликнулся немец.
На следующий день Ирина уехала в Софию. Она попрощалась только с Борисом, который разбирал бумаги у себя в комнате. Сложившиеся обстоятельства и стремление сохранить хотя бы остатки собственного достоинства заставили ее пойти на примирение. Она позволила Борису поцеловать себя и равнодушно пожала ему руку на прощание. Зара и немцы еще спали, а Костов ждал ее в машине у подъезда.
– Не думаю, чтобы вы были довольны своим поступком, – мрачно пробурчал эксперт, когда они выехали на шоссе, ведущее к вокзалу.
– Каким поступком? – спросила Ирина.
– Вчера вечером после концерта я допоздна разговаривал с фон Гайером.
– Вот как? – проговорила Ирина. – Значит, не смогли обуздать свое любопытство?
– Теперь вы уже не возбуждаете во мне ни малейшего любопытства, – со злостью отозвался эксперт. – Фон Гайер сидел на веранде и позвал меня. Похоже, что ему не спалось и что разные волнения отогнали от него сон. Он сказал мне, что не будет сокращать поставки «Никотианы» в течение будущего года.
– И вы сделали из этого соответствующие выводы?
Ирина бросила на него лукавый взгляд. Она подумала, что этот человек действительно жестоко страдает от ее поступков. Его красивое, поблекшее с годами лицо внушало симпатию, но во всех его привычках и в пристрастии к франтовству было что-то чудаковатое, что делало его смешным. Ирина решила, что табак в какой-то мере отравил и Костова.
Он сказал:
– Для меня важно не как это случилось, а ради чего это случилось.
– Вот на этот вопрос я не могу вам ответить точно… Могло случиться многое, но не случилось ничего. А если бы и случилось, мои мотивы могли бы быть самыми разнообразными. Теперь вы довольны?… Можете больше не волноваться из-за моего поведения.
Эксперт ничего не ответил. Гнетущие мысли снова овладели им. Значит, Ирина уже не борется с течением жизни, не пытается ему противостоять. Костову показалось, что Ирина сама отрезала себе путь к спасению. Он взглянул на нее, надеясь увидеть в ее чертах знакомое выражение чистоты, которое отличало ее от стольких других женщин, но не увидел его. Теперь перед ним было лицо женщины-стяжательницы – напряженное, с обострившимися чертами, неприятное своей непоколебимой самоуверенностью. Теперь это было лицо Зары. Мир табака превратил Ирину в Зару. Нежность и теплота навсегда слетели с ее лица. И тогда Костов отчетливо понял, что она останется любовницей Бориса, но уже расчетливой, неверной и, возможно, такой же подлой, как и все женщины, торгующие своей любовью.
Они ехали по улицам города. Утро было свежее и прохладное, синева неба казалась размытой, полинявшей, мглистой. По светлым асфальтированным улицам, заботливо политым ночью, к купальням, как всегда, стекались потоки загорелых отдыхающих в белых костюмах и темных очках. Но сейчас эти потоки были уже не такими шумными и жизнерадостными, как раньше. Люди останавливались, покупали газеты, волнуясь, разворачивали их и прочитывали заголовки последних известий. Потом медленно и озабоченно продолжали свой путь, собираясь дочитать газеты на пляже. Мальчишки-газетчики кричали о первых бомбардировках Варшавы. Все говорили возбужденным тоном, и даже гудки автомобилей звучали тревожно. Смутное волнение обуревало всех и вся. Только солнце и море, которым не было дела до людских тревог, сияли все так же тихо, спокойно и ослепительно.
Костов остановил машину у входа на вокзал и вместе с Ириной вышел на перрон. Вагоны были переполнены курортниками, возвращавшимися в Софию. С большим трудом эксперт нашел для Ирины место в купе первого класса, где уже расположилось многочисленное немецкое семейство. Двое краснощеких загорелых мальчишек в тирольских штанишках и со свастикой на рубашках уплетали за обе щеки бутерброды с ветчиной. Девочка-подросток лет пятнадцати – наверное, их сестра – с важным видом возилась с фотоаппаратом. Отец читал болгарскую газету и время от времени поглядывал в окно – как видно, новости не очень его волновали. Он был представителем торговой фирмы в Софии и не боялся, что его пошлют на фронт: для этой цели давно были подготовлены огромные стада горячей и неистовой гитлеровской молодежи. Мать, преждевременно увядшая от частых родов, спокойно и властно утихомиривала мальчишек. Когда Ирина вошла в купе, все учтиво, но равнодушно подвинулись, чтобы дать ей место. Благоденствующее немецкое семейство, расплодившееся на болгарских хлебах, относилось к войне гораздо спокойнее, нежели болгары.
До отправления поезда оставалось еще десять минут, и Ирина вышла на перрон, чтобы поболтать с Костовым, но разговор не клеился. Что-то невидимое лишило его прежней сердечности. Ирина попыталась ее вернуть.
– Простите меня, пожалуйста, – сказала она. – В последнее время я была с вами слишком резка. Вы знаете почему.
– Никогда больше не буду вмешиваться в ваши дела, – равнодушно отозвался эксперт.
– Вы вмешивались с самыми лучшими намерениями… Теперь я знаю, как мне устроить свою жизнь, и надеюсь, что стану более спокойной.
– Рад за вас, – проговорил он, но про себя подумал: «Да, жизнь свою ты устроишь превосходно, потому что теперь ты начала торговать». И тут Костов вспомнил, что в этот день он обычно подстригается и что одна знакомая пухленькая дамочка пригласила его поиграть в теннис после обеда.
Кондуктор попросил пассажиров занять места. Поезд тронулся. Эксперт медленно побрел к выходу с перрона. Как только он сел в машину, его охватило тошнотворное чувство серой, невыносимой скуки. Ему захотелось разогнать машину и с полного хода бросить ее в пропасть там, где шоссе вилось по краю отвесного скалистого морского берега. Но он знал, что немного погодя желание это пройдет, как бывало не раз. Машину он повел к парикмахерской, в которой обычно подстригался.
День прошел, и настал вечер; мировые события развивались своим чередом. Немецкие самолеты осыпали бомбами Варшаву, танковые колонны врезались в огромные массы кавалерии. Падали бомбардировщики, сбитые зенитной артиллерией, горели города, гремели взрывы, гибли обезумевшие от ужаса женщины и дети.
По софийским улицам маршировали польские юноши, которые провели лето в Болгарии и возвращались на родину, чтобы вступить в армию. Юноши пели, а прохожие провожали их рукоплесканиями.
Сидя в вагоне, Ирина размышляла о том, как глупо было с ее стороны ссориться с Борисом и отказываться от его подарков – квартиры и маленького спортивного автомобиля. Зара и Лихтенфельд танцевали румбу в морском казино. Борис, запершись в своей комнате, обдумывал очередные торговые сделки, а Костов лениво ухаживал за пухленькой дамочкой, с которой днем играл в теннис.
Фон Гайер сидел на веранде и думал о гравюре Дюрера, изображавшей рыцаря, собаку, дьявола и смерть. Он не мог отделаться от навязчивой мысли, что дьявол этот олицетворяет немецкие концерны, рыцарь – зло, а собака – глупость.
В ту ночь уцелевшие после разгрома стачки табачников коммунисты из города X. собрались на тайное совещание, чтобы обсудить последние директивы Центрального Комитета.
Часть вторая
I
Настала дождливая зеленая весна, и немецкие войска хлынули в Болгарию. С утра до ночи па софийских улицах не смолкал грохот моторизованных колонн, проходящих на юг. Одна за другой возникали они в утреннем тумане, поблескивая омытой дождем серой броней, ощетинившись стволами зенитных орудий и пулеметов. Сизый дым моторов окутывал их прозрачной пеленой, сквозь которую проступали кабалистические и дикарские эмблемы дивизий: черепа, дикие козы, бегущие зайцы, орлы с распростертыми крыльями. Время от времени колонны останавливались на отдых, и тогда из танков, гусеничных тягачей и грузовиков высовывались головы солдат с водянисто-голубыми глазами, смотревшими холодно и бесстрастно. Челюсти их неторопливо двигались, пережевывая ветчину и колбасу. То были отборные мотомехчасти, роботы, сеющие смерть и разрушение. Народ смотрел на них с безмолвной тревогой.
Затем прошла моторизованная пехота, составленная из гитлеровской молодежи, – кровожадные белобрысые звереныши, которые, не познав еще радостей жизни, уже научились убивать и умирать. За ними потянулись колонны простой пехоты, набранной из тевтонских плебеев – крестьян и рабочих, чьи места па полях и фабриках заняли пленные. Эти солдаты не отличались ни молодцеватостью, ни воодушевлением. Рослые пожилые мужчины тяжело ступали отекшими от долгой ходьбы ногами. Они безучастно слушали шумные выкрики зевак, и их грубые лица казались задумчивыми. Это были простые, видавшие жизнь люди, которым вовсе не хотелось бросаться очертя голову в огонь за интересы концернов; но, скованные дисциплиной, они не решались задать себе вопрос: зачем их пригнали сюда? Их усталый вид и молчаливость вызывали сочувствие. Во время привалов эссенский рабочий прохаживался по тротуару, взяв за руку болгарского ребенка. Длинноусый померанский крестьянин, с тоской поглядывая на зеленеющую траву и почки на деревьях, вспоминал о собственном поле. Затем они снова вскидывали винтовки на плечи, поправляли каски и молча продолжали свой медленный и тягостный поход на юг.
Дней через десять туманы рассеялись, и столица потонула в яркой буйной зелени. Никогда еще София не казалась такой беззаботной и легкомысленной. Кафе-кондитерские и рестораны были переполнены элегантной публикой. По улицам проносились лимузины, в которых сидели красивые женщины и надменные мужчины, мелькали немецкие мотоциклисты в касках и мчались немецкие и болгарские штабные автомобили. По вечерам веселье начиналось в закусочных и продолжалось в кабаре и притонах. Опьяненные своей хитростью, лавочники хлопали немцев по плечу и пили за здоровье его величества, который так ловко втравил немцев в драку за Фракию и Македонию. Под утро все умолкали, устав от собственных криков, веселья и безумия. Оторванный от родного очага, немецкий солдат угрюмо вел под руку уличную женщину к ближайшей гостинице; молчаливые ночные рабочие поливали мостовую водой из шлангов; в тишине были слышны шаги одинокого полицейского. Возле трамвайной остановки изнуренная ночным дежурством телефонистка жаловалась на низкую заработную плату, бедно одетый пенсионер сетовал на растущую дороговизну.
Пока немецкие дивизии двигались на юг, табачные магнаты развивали лихорадочную деятельность. Основывались скороспелые акционерные общества. Дельцы, ничего не понимавшие в табаке, становились германофилами, регистрировали новые фирмы, заключали договоры и получали ссуды от Германского папиросного концерна. Почтенные офицеры запаса, которым раньше и в голову не приходило заниматься торговлей, теперь тоже заразились табачной лихорадкой. Они доставали свои преданные забвению, залежавшиеся с первой мировой войны немецкие ордена и просили друзей замолвить словечко фон Гайеру насчет их прошлых заслуг и честности. Впрочем, некоторые из этих людишек были и вправду честными. Они не умели воровать и лгать, как не умели торговать, но вместо них крали и лгали нанятые в старых фирмах полуграмотные мастера, которых на скорую руку производили в чин экспертов. Баташский вместе с одним генералом запаса основал небольшую, но преуспевающую табачную фирму. Бывший мастер «Никотианы» купил себе автомобиль, обзавелся содержанкой и отдал детей в немецкую школу, но всеобщие насмешки скоро убедили его в том, что он сел не в свои сани. Он, как и прежде, чувствовал себя свободно только в маленькой кофейне родного городка да в вонючих деревенских корчмах, где надувал крестьян. Там он оставался непревзойденным мастером мелкого мошенничества, торговцем, который не знал соперников. Вот почему ему всегда удавалось скупать по дешевке большие партии табака.
«Никотиана» тоже приготовилась к походу на Беломорье. Совместно с другими крупными фирмами она заставила правительство принять постановление, согласно которому государство брало на себя весь риск по закупкам табака в этой местности. Таким образом, господа Морен, Барутчиев и прочие застраховались от возможных убытков, обеспечив себе верную прибыль. В случае, если бы Фракия осталась под властью другой державы, государство обязывалось – неизвестно почему – выплатить фирмам стоимость закупленного, но не вывезенного табака.
– Это будет великолепный удар, – сказал Борис однажды вечером в Чамкорни.
– Какой удар?… – рассеянно спросила Ирина.
Она бросила на него усталый взгляд – день, проведенный с фон Гайером и бывшим майором Фришмутом, утомил ее.
Моложавое, свежее лицо Бориса поблекло. Дряблая кожа, морщинки вокруг рта и мешки под глазами говорили о том, что он преждевременно стареет от постоянного переутомления и злоупотребления коньяком. Ирина равнодушно подумала, что не пройдет и нескольких лет, как он утратит свою привлекательность и станет неприятным как мужчина.
– Ты никогда не слушаешь, что я тебе говорю, – сказал он с досадой. – Только и интересуешься что удовольствиями.
– А о чем ты говорил? – спросила она, отыскивая детективный роман, который собиралась почитать перед сном.
– Я говорю, хорошо бы закупить перед концом войны большую партию табака нового урожая в Беломорье…
– С чего ты взял, что Фракия останется нашей?
– Так будет, пока Германия держится… Это нам твердо обещали немцы. Представь себе, что получится, если я успею вывезти табак в Болгарию и бросить его на мировой рынок в такое время, когда все и каждый гоняются за табаком!.. После войн спрос на табак неизменно увеличивается. Все это рискованно, но я люблю риск.
– Ну, а что будет, если нас оккупируют греки? – возразила Ирина, не скрывая раздражения. – Они не только увезут обратно свой табак, но заодно прихватят и наш… Тогда от твоего азарта и следа не останется.
– Греки и сербы никогда нас не оккупируют, – возразил Борис – Их армии будут уничтожены еще этой весной.
– Ты так думаешь?
– Нас оккупируют англичане, а они уважают частную собственность.
– А тебе но кажется, что нас могут оккупировать русские?
– Русские? – Борис рассмеялся. – Сегодня ты своим пессимизмом произвела впечатление даже на такого тупицу, как Фришмут!.. Англичане ведут дело к тому, чтобы Германия и Советский Союз перемололи друг друга.
– А ты разве не слышал, что сказал фон Гайер после того, как Фришмут наговорил глупостей? Он считает, война еще не начиналась. Настоящая война для немцев начнется лишь тогда, когда они двинутся на восток.
– Россию они раздавят за три месяца. Но после этого и немецкая и советская армии перестанут существовать.
Ирина нашла наконец детективный роман и, взяв его, собралась идти в свою комнату. Навязчивый оптимизм Бориса стал ее раздражать. Жизнь со всеми ее наслаждениями проходила мимо него, а он с тупым и мрачным упорством дряхлеющего не по годам скряги вцепился в свое золото, считая, что нет силы, которая могла бы отнять у пего богатство.
– Ты неплохо управляешь событиями, – равнодушно заметила она.
– А ты что думаешь обо всем этом?
– Я ничего не думаю. Мне все равно.
Она лениво зевнула и направилась в свою комнату, даже не пожелав ему спокойной ночи. Судя по всему, алкоголь и неразумный, слишком напряженный образ жизни вытравили его прежнюю проницательность. Даже в торговых делах, в которых когда-то его мозг работал безупречно, Борис теперь стал проявлять слабость, нерешительность и трусость. И Ирина, замечая, как он сдает, испытывала какое-то мстительное злорадство. Она ненавидела его глубокой, смутной, безотчетной ненавистью, ненавидела его алчность, жестокость, умственную ограниченность, полную неспособность пользоваться накопленными благами. Так же глубоко она ненавидела его за то, что он сделал ее своей соучастницей, отравил ей душу, убил в ней радость жизни; а ведь она когда-то любила жизнь! Вот почему, войдя к себе в комнату, она с чувством облегчепия вспомнила о скорой встрече с фон Гайером, который уже стал ее любовником.
Ирина разделась, взяла детективный роман и, прочитав несколько глав, заснула. На рассвете она проснулась. Стекла в окнах дрожали от глухого непрерывного шума. Казалось, приближается буря, но Ирина не услышала знакомого свиста ветра. Чувствуя какое-то непонятное возбуждение, она поднялась и открыла окно. Светало, заря только занималась, и на ее бледном фоне четко выделялись верхушки сосен. Ветра не было, и пи одна ветка не колыхалась. Звезды еще блестели холодным блеском па кристально чистом небе. Вокруг виллы царила полная тишина, но откуда-то издалека доносился глухой шум. Он напоминал рев бури в горах – рев, с которым смешивалось протяжное эхо громовых раскатов. Грохот доносился откуда-то из-за гор, зловеще прокатываясь над вершинами, ущельями и долинами. Ирина догадалась, что взрываются бомбы, сброшенные с самолетов, и грохот их сливается с трескотней пулеметов и залпами тяжелых орудий, которые громят укрепления. До греческой границы было не более двухсот километров по прямой. Поход к Эгейскому морю начался. И тут Ирина содрогнулась от смутного ужаса пород кровавыми руками, которые правят миром.
На пасху Борис уехал в родной городок, к родителям, а Ирина воспользовалась его отъездом, чтобы пригласить к обеду Лихтенфельда и фон Гайера, которых он в последнее время стал недолюбливать. Однако она вызвалась остаться на дежурство в больнице в ночь с первого на второй день пасхи – это должно было показать Борису, что у нее нет намерения развлекаться в его отсутствие. И наконец, чтобы выказать свое хорошее отношение к союзникам, она попросила Лихтенфельда и фон Гайера привести с собой по одному немецкому солдату или офицеру.
Фон Гайер привел нудного майора Фришмута (который уже стал полковником), а Лихтенфельд оказался более находчивым и приятно удивил Ирину, пригласив своего кузена – поручика танковых войск Ценкера. Незадолго до их прихода фон Гайер прислал ей на своей машине четыре букета орхидей.
За обедом общим вниманием завладел поручик Ценкер, который привез из Германии свежие новости. Молодой офицер оказался приятным, интересным собеседником и даже острил, насколько это было возможно в присутствии полковника. Он рассказывал анекдоты – вполне приличные – и рассмешил Ирину. В бронзовом цвете его лица, в синих глазах и зеленоватой форме было что-то до того немецкое, что Ирина подумала: «А может быть, расовая теория не лишена оснований?» Но семитская с орлиным носом физиономия полковника Фришмута и его черная шевелюра доказывали обратное. Глядя на полковника, Ирина вспомнила своего знакомого врача-еврея; у того было типично арийское лицо. Все это настроило ее на шутливый лад, и она смотрела на молодого офицера с улыбкой. Однако она не могла побороть жгучего трепета, который охватывал ее всякий раз, как она встречалась с его дерзкими смеющимися глазами. Но скоро Ценкер умолк, смущенный своей болтливостью и строгими взглядами кузена, который успел внушить ему, что Ирина – вино только для высокого начальства. Настроение за столом упало. Поручик виновато и с опаской поглядывал на фон Гайера, а фон Гайер молча доедал десерт. Лихтенфельд погрузился в мрачные размышления, навеянные слухами о том, что мобилизации будут подлежать и старшие возрасты. Фришмут попытался оживить разговор и начал задавать Ирине вопросы – один скучнее другого – о состоянии медицинской службы в Болгарии. Как всегда, он расспрашивал подробно и придирчиво, отмечая каждую мелочь в своей бездонной памяти генштабиста.
– Почему вы так интересуетесь медицинской службой? – спросил фон Гайер.
– Я обязан интересоваться всем, – ответил полковник. – Только так могу я оценить военный потенциал нации.
Возбужденный хорошим вином, полковник был далек от мысли, что он становится в тягость своим учтивым собеседникам. К тому же Ирина умелыми вопросами поощряла его разговорчивость. Полковник увлекся и уверенным тоном стал высказывать свои предположения относительно исхода войны. Военная мощь нации, говорил он, складывается из ряда факторов, что блестяще продемонстрировал немецкий народ. Военные операции развиваются с математической точностью. Все в этой войне предусмотрено до мельчайших подробностей. Полковник генерального штаба Фришмут перечислял, цитировал, обобщал и выводил заключения. В конце концов даже деревяшке должно было стать ясно, что немцы победят непременно. Смакуя каждую мелочь, полковник продолжал говорить ровным голосом, звучавшим, как мерный стук машины. Он незаметно овладел вниманием хозяйки, Ценкера и даже тревожно-рассеянного Лихтенфельда. Только фон Гайер слушал его, угрюмо наклонив голову, неподвижный и хмурый. Он молчал, словно хотел показать, что не намерен участвовать в пустой болтовне за столом. Полковник Фришмут был одного с ним выпуска и в военном училище славился феноменальной памятью и редким трудолюбием. Но еще тогда Фришмут производил на фон Гайера гнетущее впечатление. Правда, у него была отличная аттестация, но он всегда напоминал счетную машину.
И сейчас фон Гайер с гневом и отчаянием думал, что в каждом немецком штабе торчит такая счетная машина. Все они стучат послушно и бесстрастно, неспособные, как и любая машина, оценить в войне политические факторы, которые не укладываются в рамки статистики и расчетов. Что-то жуткое было в убогости их механического рассудка, к их одуряющем автоматизме и необычайной быстроте, с какой они продвигались по службе. Фон Гайер знал, что немецкий генеральный штаб состоит уже только из таких вот покорных счетных машин и но терпит в своей среде никого, кто осмеливается высказать хотя бы малейшее сомнение в успехе предстоящего похода на восток.
– Нас очень беспокоят действия Советского Союза, – сказала Ирина.
– Все предусмотрено! – поспешил заверить ее полковник. Он ел, как еж, дробя пищу мелкими, торопливыми Движениями челюстей. – Германия еще не развернула свои громадные резервы.
Лихтенфельд вздрогнул, словно от боли. В резервах числился и он.
После кофе поручик Ценкер собрался уходить. Он почувствовал себя лишним в беседе этих пожилых мужчин. Фришмут снова завладел общим вниманием. Теперь он педантично пополнял свои сведения о торговле табаком.
– Почему вы уходите так рано? – спросила Ирина, поднимаясь вслед за Ценкером.
– Надо проверить солдат, – ответил поручик, улыбкой давая ей понять, что ему не хочется уходить. – Сегодня они получили много вина.
– Ну и что же?
– Боюсь, как бы они не выпили лишнего.
Ирина вышла в переднюю, чтобы его проводить. Когда она вернулась, от фон Гайера не ускользнул возбужденный блеск ее глаз.
Поручик спустился с лестницы, весело напевая какую-то песенку. Как только он вышел на улицу и ступил на тротуар, до него донеслись глухие взрывы, раздавшиеся один за другим. Опытным ухом он сразу различил близкие разрывы бомб. «Наверное, учения», – рассеянно подумал он. Но ведь была пасха, и болгары вряд ли стали бы заниматься учебными бомбардировками в праздник. Через пять минут несколько «мессершмиттов» с быстротой метеоров пересекли синее небо. Ценкер лениво сел в такси и велел шоферу ехать за город, где в укрытии стояли его танки. По дороге он не заметил ничего особенного, если не считать трех военных санитарных машин, которые мчались на предельной скорости и быстро обогнали такси.
На окраине города он увидел несколько лачуг, окутанных дымом, и солдат, которые вытаскивали из них трупы. Поручик Ценкер удивился: «Воздушное нападение без воздушной тревоги!» Он вышел из такси и, минуя разрушенные домишки, бросился к редкому перелеску, где были укрыты его танки. Фельдфебель считал гильзы, оставшиеся от стрельбы из зенитного пулемета. Ценкер вздохнул с облегчением. И танки, и люди его были целы и невредимы. Тогда он закурил сигарету и снова принялся напевать свою веселую песенку. После Варшавы обгоревшие трупы не производили на него никакого впечатления. Докурив сигарету, он вызвал фельдфебеля и сказал:
– Мюллер! Я снова отправляюсь в город. Смотрите, чтобы все было в порядке.
Сказал и усмехнулся. Мюллер тоже усмехнулся, догадавшись, что поручик едет к женщине.
Вечером того же дня невеселые мысли и тяжелые подозрения опять привели фон Гайера к Ирине. Ему открыла горничная – старая дева в белом переднике, с изрытым оспой лицом. Эту молчаливую и неприветливую особу Ирина раздобыла где-то в клинике. Пока горничная сердито убирала его шляпу и плащ, немец спросил, не возвращался ли сюда кто-нибудь из тех господ, что здесь обедали сегодня.
– Не знаю, – ответила горничная. – Я уходила за покупками.
Фон Гайер подумал, что Ирина нашла себе именно такую служанку, какая ей нужна.
Ирина встретила его в передней. Она переоделась – сменила платье, в котором обедала, на костюм, который всегда надевала, уходя в больницу. Элегантный и хорошо сшитый, он все же казался немного поношенным на фоне окружающего ее блеска.
– Раньше вы никогда не приходили без предупреждения, – сказала она с упреком. – Сегодня я дежурю в больнице.
– В таком случае я ни на минуту вас не задержу.
Фон Гайер вздохнул с облегчением. Он думал, что застанет у Ирины Ценкера, только потому и пришел.
– Нот, останьтесь!.. – Голос Ирины звучал сердечно, но фон Гайер не мог понять, искренна она или притворяется. – Я постараюсь освободиться.
Немец, ставивший служебные обязанности превыше всего, спросил удивленно:
– Каким образом?
– Просто попрошу кого-нибудь из коллег заменить меня.
– Это не совсем удобно… А я думал, что вы свободны, и попросил Костова и Лихтенфельда тоже зайти к вам. Хотелось поиграть в бридж.
– Мне самой не хочется ехать в больницу.
Ирина по телефону попросила своего коллегу подежурить вместо нее. Тот сразу же согласился. Это был неглупый, предусмотрительный юноша, знавший, как велико влияние дам из высшего общества на главного врача клиники.
– Все улажено, – сказала она, вешая трубку.
Но, отходя от телефона, она почувствовала, что ее поведение даже в мелочах становится все более легкомысленным и беспринципным. Она злоупотребляла безропотностью своего коллеги, тешилась игрой в специализацию, ничего не читала. Медицина служила ей только ширмой, за которой скрывалась распущенная жизнь, бесцельное существование содержанки миллионера. Однако она тут же отогнала эти мысли. У нее выработалась привычка быстро подавлять угрызения совести, которые она еще испытывала, когда совершала мелкие подлости по отношению к зависимым людям. Она села в кресло и закурила.
– Мы вам не надоели сегодня? – спросил немец. – Больше не буду приводить к вам гостей.
– Фришмут трещит, как мельница, – заметила Ирина.
– Таким он был и в военном училище. Мы одного выпуска.
– Значит, вы тоже были бы полковником?
– Или генералом. Но вместо этого я стал директором концерна.
– И вы об этом жалеете?
– Нет. Останься я в армии, я уподобился бы Ценкеру и Фришмуту. А если нет, меня бы уволили.
Ирина улыбнулась.
– Почему вы смеетесь? – спросил он.
– Потому что начинаю все больше походить на вас. Я уже свыкаюсь с мыслью, что все, что я делаю, хорошо.
– Вы должны быть в этом уверены.
Ирина взглянула на него и подумала, что перед нею сидит такой же извращенный, холодный и жестокий человек, как она сама. Он равнодушно относится к любой подлости, идет на любые компромиссы, но не хочет в этом сознаться и ищет спасения от бессмысленности своего мира в наркозе музыки и формулах философии. Он с горечью мечтает о величии Германии, хоть и уверен в ее поражении, говорит о достоинстве сверхчеловека, а сам трепещет перед агентами гестапо, считает себя проницательным, но не догадался, что она, Ирина, изменила ему с Ценкером. В нем было что-то трагическое и смешное. Ирине стало жаль его, и она сказала:








