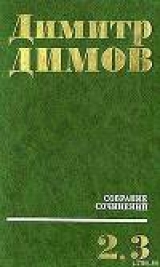
Текст книги "Табак"
Автор книги: Димитр Димов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 57 (всего у книги 61 страниц)
Сумерки в комнате все сгущались, и маленькая мумия приобрела какие-то нереальные, призрачные очертания. Кто-то постучал в дверь. Костов сказал:
– Войдите.
– Господин, – тревожно сказал врач, входя в комнату. – Вас просят к телефону: звонят из казарм.
– Иду.
Руководимые разумом партии, солдаты восстановили па постах нескольких офицеров. Звонил один из них, тот самый, к которому накануне заходил Костов. Офицер сообщил эксперту, что два военных грузовика уезжают через полчаса. Следующая колонна машин тронется завтра в шесть утра. Офицер считал, что Костову и его спутникам лучше выехать утром. Костов согласился.
– Какая-нибудь неприятность? – озабоченно спросил врач-грек, когда Костов положил трубку.
– Нет.
– Если вам что-нибудь угрожает, я, вероятно, мог бы вам помочь… У меня есть несколько знакомых в ЭАМ.
– Нет, мне ничто не угрожает. Благодарю.
Костов спустился в холл. За столом, на котором недавно стоял гроб с, телом Бориса, сидел греческий поп. После приступа лихорадки он с жадностью набросился на сардины, жаркое и белый хлеб. Потом у него заболел живот, и он молча сидел, скорчившись и думая о своей старшей дочери, чье лицо покрывала сыпь постыдной болезни. Девушка не заразилась бы, если бы голод не принудил ее спать с немецкими солдатами. Когда поп подумал об этом, в его глазах снова вспыхнуло антихристово пламя.
Нищий греческий поп наелся до отвала, но все-таки в доме осталось много консервов, много вина, много масла, сахара, белой муки, и Костов распределил все это между попом, Кристалле и врачом. Осталось также много чемоданов с изысканной одеждой, которые невозможно было увезти на машине. Эксперт попросил врача передать их какому-нибудь приюту для одиноких стариков. Затем он велел Виктору Ефимовичу позвать доверенное лицо сбежавшего грека, хозяина того дома, в котором они жили. Когда уполномоченный пришел, Костов сказал ему:
– Проверьте по описи. Передаю вам дом и мебель в полной сохранности.
– Я в этом не сомневаюсь и проверять не стану, – ответил тот. – Вы человек честный… Чего нельзя сказать о жившем напротив полковнике: тот увез в Болгарию мебель своего домохозяина-грека.
Костов спросил врача хриплым голосом:
– Вы позаботитесь о погребении девочки?
– Разумеется, – ответил врач. – Я уже говорил об этом со священником.
Эксперт вынул из кармана небольшую пачку банкнотов и роздал их Кристалле, врачу и священнику.
– Болгарские деньги, вероятно, не слишком обесценятся, – заметил он. – Банк гарантирует их золотом.
– Это слишком много, сударь!.. – запротестовал врач. – Вы слишком щедры.
Он хотел было возвратить часть денег, но Костов сказал:
– Доходы нашей фирмы от ксантийского табака тоже были немаленькие… Мы уезжаем рано утром… Прощайте и спокойной ночи.
Эксперт пожал руки всем троим и устало поднялся на второй этаж. На неосвещенной площадке он почувствовал острую боль в сердце, застонал и, сгорбившись, в темноте отыскал и положил под язык таблетку нитроглицерина.
После его ухода Кристалле сказала:
– Этот человек добром не кончит.
– Почему? – спросил врач, без всякой радости засовывая в карман свой огромный гонорар.
С видом древней пророчицы Кристалло ответила:
– Не жилец он на этом свете.
Тронувшись в путь рано утром, Ирина и Костов поехали вслед за вооруженной болгарской коленной интендантства, которая снабжала гарнизон в Кавалле и в эти дни продолжала курсировать между болгарской Македонией и Беломорьем. Колонна состояла из десятка грузовиков с флажками и наспех нарисованными новыми эмблемами. Рядом с шоферами сидели солдаты, вооруженные автоматами, с гранатами за поясом, а в кузове первого грузовика был даже пулемет. Солдаты ожидали нападения белых андартов, но по пути им встречались только возвращавшиеся в родные селенья дружеские отряды ЭАМ, которые обменивались с ними приветствиями. За грузовиками медленно двигался лимузин с Костовым, Ириной и Виктором Ефимовичем. Греческие часовые не требовали у них никаких объяснений. Радость победы делала пролетариев великодушными и не особенно бдительными. Да и каких объяснений можно было требовать от этого дряхлого мужчины с парализованной рукой и какой-то женщины в трауре? Красные греческие часовые небрежно делали взмах рукой, и женщина с пустым взглядом и холодным лицом вела машину дальше.
Но близ старой болгарской границы их основательно допросили, и тут эксперт показал документы, полученные от Макрониса.
– Куда едете? – спросил партизан, проверявший документы.
– Возвращаемся в Софию.
– А не боитесь? – Партизан усмехнулся.
– Нам бояться нечего, товарищ… Мы просто торговцы, патриоты.
– Ну, ясно!.. Езжайте.
Партизана удовлетворили и эти ответы, и документы. Он точно выполнял директиву Отечественного фронта. Надо было внушить спокойствие даже подобным людям.
Машина следовала дальше. Теперь она отделилась от военной колонны и ехала одна, так как находилась уже на болгарской территории и угроза нападения белых андартов миновала. Направляясь в Беломорье, они проезжали через Рупел и Кресну, а возвращались но долине Месты. После каждой оставшейся позади горной вершины краски юга все больше бледнели, а воздух становился прохладнее. Впервые за двадцать дней Ирина увидела облака. Она вспомнила о тишине, соснах и холодных звездах Чамкории, потом о разрушенных домах и поблекшей зелени Софии. И ее охватила тоска по отлетающему блеску юга. Под смоковницами и гранатовыми деревьями Тасоса ей хотелось в Чамкорию, а тут она затосковала по острову. Но Ирина не понимала, что, если она с тоской вспоминает лишь о красках юга, а не о смерти Бориса, фон Гайера или Динко, в этом есть что-то страшное, противоестественное. Все так же бесстрастно и холодно текли ее мысли: «Надо взять драгоценности и бумаги из несгораемого шкафа в Чамкории… Надо позаботиться насчет паспорта… Теперь это дело нелегкое, но Павел его уладит». Следующая мысль вызвала у нее беззвучный циничный смех: «Мы стали торговцами-патриотами… До чего он забавный, этот Отечественный фронт…»
Шоссе начало подниматься в гору. Ирина переключила скорость и сказала рассеянно:
– Вы не думаете, что Отечественный фронт создан англичанами?
– Нет, – сухо ответил эксперт, раздраженный ее политическим невежеством. – Англичане и американцы против него.
– А что же он собой представляет?
– Тактический прием коммунистов.
– Разве англичане и американцы настолько глупы, что не замечают этого? – спросила Ирина.
– Это от них не зависит.
– Кто же его создал, этот «фронт»?
– Коммунисты и народ, – ответил эксперт.
Костов попытался было пошевелить больной рукой, но не смог. Она была почти полностью парализована, и он подумал: «Все равно».
Машина миновала шахтерские поселки и табачные центры, куда партизаны еще не вступили. Тут жизнь текла по-прежнему. Не было видно никаких лозунгов и вообще никаких признаков новой власти. Но растерянные старосты и перепуганные полицейские тревожно расспрашивали о новостях. Что говорят немцы в Беломорье? Правда ли, что новые «фау» наносят страшные удары советским войскам? Действительно ли ведутся мирные переговоры между англичанами и немцами? Верны ли слухи, что союзники высадили десант в Беломорье?
Все это действовало угнетающе, так как эти люди продали свою совесть и чувство собственного достоинства за мизерную плату. Мир безумцев, который повелевал ими, требовал, чтобы они убивали других за кусок хлеба. Настроение у Костова стало еще более мрачным.
Они ехали по горному шоссе, которое то змеей извивалось над пропастью, то взбиралось к вершинам, поросшим вековыми лесами, то устремлялось вниз, где влажные ущелья навевали на путников холод и печаль. Время от времени солнце исчезало за кучевыми облаками, природа омрачалась, леса темнели, а скалы и обрывы теряли яркость красок. Потом солнце опять показывалось, и краски снова приобретали акварельную прозрачность осени. Проехали Предел, теплый, живописный и немного слащавый с его сосновыми лесами и полянками, пестревшими поздними цветами. Проехали несколько небольших селений. Здесь уже была установлена новая власть, и улицы украшали арки из зелени, под которыми победным маршем прошли партизанские отряды.
Проехали и родной городок Бориса, Ирины, Марии, папаши Пьера и многих других людей, которые умерли или еще жили, но которых должна была поглотить разруха. Тут папаша Пьер основал «Никотиану», отсюда устремились за границу первые тюки обработанного табака, здесь начинался восход многих честолюбцев, здесь многие люди потеряли достоинство.
Шоссе проходило мимо кладбища – тихого и печального леса крестов, среди которых одиноко торчали мраморные памятники. На фоне ясного осеннего неба они блистали белизной. Самым внушительным из них был памятник полицейскому, убитому во время большой стачки табачников. При виде его Ирине стало грустно и неловко. Этот памятник поставила вдова Чакыра на деньги, которые ей присылала дочь. Непомерно роскошный для такого человека, как Чакыр, этот памятник был безвкусным и вызывающим, при виде его люди усмехались и вспоминали семейные истории владельцев «Никотианы».
Но теперь никто больше не думал о «Никотиане». Через несколько дней после вступления повстанцев жизнь в городе наладилась. На балконе околийского управления развевались флаги партий, входящих в Отечественный фронт. По улицам сновали военные автомашины, в которых сидели бывшие партизаны, еще не расставшиеся со своими походными сумками, автоматами и патронташами.
Знакомые улицы городка будили воспоминания. Вот и кондитерская, в которой Ирина встречалась с Борисом. В запыленной, почти пустой витрине вместо пирожных красовались сейчас тыквенные семечки. Рядом, у пекарни, стояла очередь за хлебом. Сколько часов радости, отчаяния, тоски и надежд, сколько дней блаженства и тревожных мечтаний, довольства собой и угрызений совести пережила Ирина в этом городке!.. А теперь в ее душе все потонуло в бездне мертвенного равнодушия, в безмолвной, ровной, беспросветной печали.
Ирина услышала хриплый, немощный голос Костова. Она не без труда терпела своего спутника, как и всех вообще. Эксперт спросил:
– Не заехать ли нам к родителям Бориса?
– Нет.
– Тогда хотя бы к вашей матери?
– Нет, сейчас я не могу.
Она гнала машину по главной улице и думала только об одном – скорее добраться до Чамкории. Все ее существо как бы омертвело, подавленное душевной усталостью, безразличием ко всему на свете. Когда они достигли небольшого озера, где шоссе раздваивалось, Ирина свернула на Чамкорию. Костов не спорил. Ирина останется в Чамкории, а его Виктор Ефимович должен был отвезти в Софию. Там эксперт хотел привести в порядок свои бумаги и уничтожить некоторые документы.
Городок, где когда-то возникла «Никотиана», остался позади. Они так и не узнали, что в нем произошло.
Они не узнали, что тремя днями раньше в городок спустился партизанский отряд и его с ликованием встретили тысячи людей, которые обрабатывали табак «Никотианы» и паразитических немецко-болгарских фирм, работавших на Германский папиросный концерн.
Они не узнали, что, опираясь на рабочих и партизан, власть в городке спокойно и твердо взял в свои руки комитет Отечественного фронта.
Они не узнали, что по главным улицам шествовали почерневшие, бородатые, оборванные бойцы бригады Павла Морева, а перед ними расстилался ковер цветов, что при этом происходили трогательные сцены, что одна пожилая женщина бросилась в объятия своих сыновей-партизан и умерла от разрыва сердца, что жены и мужья, братья и сестры, не видевшиеся годами, обнимались и целовались на улицах.
Они не узнали, что вместе с отрядом в город вошел и штаб партизанской бригады, что в доме бывшего учителя-латиниста разыгралась невиданная сцена, что коммунист Морев, двадцать лет не видевший отца, подошел к нему и сказал: «Здравствуй, папа», а в ответ на это Сюртук плюнул ему в лицо со словами: «Вон из моего дома, бродяга!.. Ты человек без родины… У меня только один сын – Борис». Но коммунист Морев только посмеялся над своим неисправимым отцом и, ласково поговорив с матерью, ушел из дому, пробормотав с сожалением: «Выжил из ума старик!.. Гнилое отребье прошлого».
Они не узнали, что бедняк Стоичко Данкин из Средорека заплакал и стал заикаться от волнения, когда ему сообщили, что его сын произведен в чин подполковника Народной армии, что после этого бедняк Стоичко Данкин пришел в город просить о помиловании Джонни, который был арестован односельчанами как враг народа, и что в городском комитете Отечественного фронта ему сразу же дали бумажку об освобождении Джонни, так как тот умудрился за три дня до ареста вступить в группу «Звено».
Они не узнали, что несколько офицеров и полицейских покончили с собой потому, что на их совести лежали тяжкие преступления и они должны были предстать перед народным судом; что у агента с опухшим лицом, который истязал политических заключенных, ломал им руки и пытал их электрическим током, не нашлось мужества покончить с собой, и он, как последняя гадина, пресмыкался и просил пощады.
Они не узнали, что десяток видных в городе пройдох за одну ночь превратились в коммунистов и членов Земледельческого союза, что Баташский, сменив шляпу на кепку, называет всех «товарищами» и, каясь в своих связях с немцами, всем и каждому рассказывает о том, кто и какими партиями продавал табак Германскому папиросному концерну.
Они не узнали всего этого, как не узнали о многих других больших и малых драмах, разыгравшихся в городе. Но если б они и узнали, это бы их не тронуло, потому что в опустошенных сердцах этих людей остались только холод и печаль.
XVI
Приехав в Чамкорию, Ирина осталась в вилле, а Костов с Виктором Ефимовичем поехали дальше, в Софию. Расставались они со взаимной неприязнью, хоть и делали вид, что по-дружески заботятся друг о друге. Ирина дала Костову несколько врачебных советов, которые в теперешней неразберихе были невыполнимы, а эксперт притворна беспокоился, не опасно ли ей оставаться одной в Чамкории. Все эти пустые, праздные слова ни к чему не обязывали. «Никотиана» давно утопила в цинизме и горькой иронии взаимное уважение, которыми Ирина и Костов прониклись друг к другу в первые годы знакомства. Теперь он видел в ней лишь избалованную светскую распутницу, а она в каждом его поступке находила признаки старческого слабоумия. Оба были утомлены пиршеством жизни. Двенадцать лет сплошных удовольствий оставили после себя лишь холодную скуку и ощущение пустоты, которую нечем было заполнить – ни стремлениями, ни привязанностями, ни простыми человеческими волнениями. Как и Борис, они остались в жутком одиночестве среди развалин своего мира. Когда автомобиль скрылся из виду. Ирина подумала равнодушно: «Не понимаю, для чего ему понадобилось ехать в Софию теперь». Но, поразмыслив, пришла к выводу, что оставаться здесь, в Чамкории, Костову и вовсе не было смысла. Кроме того, он, наверное, спешил уничтожить кое-какие документы, разоблачающие темную историю «Никотианы».
Ирина провела на вилле восемь дней в обществе верной служанки, которая некогда ходила за Марией, а теперь, готовая по первому слову следовать за своей хозяйкой, стала хранительницей крепкого кожаного чемодана с драгоценностями и ценными бумагами. Служанка давно превратилась в увядшую старуху с плоской грудью, изжелта-бледным лицом и редкими черными усиками над верхней губой. За восемь лет, проведенных у постели Марии, она стала нелюдимой и теперь всем сердцем привязалась к Ирине. Она обзавелась собственной квартирой, но не решилась связать с кем-нибудь свою жизнь: мужчины внушали ей все большее отвращение.
Потянулись дождливые осенние дни, холодные и тоскливые, как обычно в Чамкории. С нависшего неба моросил сплошной мелкий дождь, по горным склонам ползли туманы, а под окнами плакали водосточные трубы. Ириной овладела полнейшая апатия. Она пригашала снотворное и вставала очень поздно, а проснувшись, читала детективные романы, которые отвлекали ее внимание и притупляли мысль. Только так удавалось ей отгонять от тебя щемящие воспоминания о прошлом и призрак Марии, который все еще витал в опустевших комнатах. К обеду и ужину она спускалась в столовую и ела за одним столом со служанкой, которая верила в духов и рассказывала ей о своих спиритических наблюдениях. По ее словам, однажды вечером пианино Марин само начало играть, а большой портрет покойной сорвался со стены и упал с грохотом на пол, хотя никто его не трогал. В полночь было слышно, как скрипят ступеньки лестниц. Служанка рассказывала и о распоряжениях Отечественного фронта, и о новостях в дачном поселке. Разносчик молока Мичкин, который три года назад сбежал к «лесовикам», недавно спустился с гор и, говорят, стал большим человеком. Теперь он ездит в город на джипе, и ему подчиняется вся милиция. Утром арестовали одного полковника и одного капитана, заковали их в кандалы и отправили в Софию. Говорят, они расстреляли без суда одиннадцать коммунистов. Сторож лесничества повесился, потому что партизанам удалось найти документы, которые доказали, что он выдавал подпольщиков полиции. Оказывается, не все коммунисты безбожники – одна старушка своими глазами видела в церкви жену Мичкина, и та крестилась, как и прочие верующие.
Ирина равнодушно слушала болтовню служанки, а потом поднималась к себе наверх и снова погружалась в дремотную апатию. Отгородившись от внешнего мира, она слышала лишь отдаленное эхо крупных событий, потрясавших страну. Однажды за завтраком встревоженная служанка сказала:
– Все виллы описывают – будут размещать советские войска… В вашей собираются поместить штаб.
– Поедем в Софию, – равнодушно отозвалась Ирина.
– А на чем поедем?
Ирина призадумалась. О шофере Бориса, оставшемся с машиной в Софии, не было ни слуху ни духу. А за день до этого Костов, справляясь по телефону о каких-то бумагах, сообщил, что и его автомобиль реквизирован для армии. Видные политические деятели свергнутого режима были арестованы, и радио каждый день передавало все новые подробности их преступлений, а богатые владельцы соседних вилл попрятались кто куда. Ирине не у кого было просить помощи. Впервые после гибели старого мира она споткнулась о его развалины.
– Скажи Мичкину, чтобы зашел ко мне, – проговорила она, подумав.
– Мичкину?… – Служанка с испугом взглянула на нее. – Но все соседи говорят, что он стал плохим человеком… Он коммунист.
– Скажи ему, чтобы он пришел, – повторила Ирина.
Она вернулась в свою комнату и опять нехотя принялась за начатый детективный роман. Темнело. Холодный осенний ветер гнал по горным склонам клочья молочно-белого тумана и свистел меж ветвями сосен в саду. Порывами налетал дождь.
Ирина захлопнула книгу. В комнате стало совсем темно, а электричество не горело, поэтому читать было уже нельзя. В полумраке из темных углов, из мебели, деревянных панелей и обоев выползали воспоминания: образы отца, Марии, Бориса, фон Гайера и того неизвестного юноши, которого застрелили охранники «Никотианы»… Ей стало невыносимо страшно. Она вскочила и выбежала из комнаты. Служанка ждала ее в столовой к ужину и при свете керосиновой лампочки читала книгу о спиритизме.
Мичкин пришел на следующий день к вечеру, промокший под непрестанным дождем и хмурый от смутного подозрения, что Ирина собирается просить о заступничество и что его чувство партийного долга опять столкнется с давним уважением к этой женщине. Он посвежел, был тщательно выбрит и щеголял в полушубке и новенькой фуражке. Ответственная должность и власть, которую ему доверила партия, слегка вскружили ему голову: на собраниях он выступал слишком самоуверенно, а с представителями враждебного класса обращался вежливо, по высокомерно. Он был уверен, что Ирина попытается спасти виллу от реквизиции, и прямо заявил ей:
– Виллы нужны для армии… Ничего, докторша, не могу сделать.
Она усмехнулась в ответ и сказала:
– Садись, выпей коньяку.
Мичкин отказался и насупился, хотя после затяжного собрания ему очень хотелось выпить рюмку коньяка. Он испытывал некоторое самодовольство от сознания своей власти, которая давала ему возможность разговаривать с этой женщиной, как с равной. И тут ему опять показалось, что она отдаленно, какими-то неуловимыми чертами напоминает красивую женщину из народа, зрелую как тугой пшеничный колос, колеблемый ветром. Его охватило тревожное и жгучее желание помочь ей – сделать все возможное, чтобы спасти ее виллу от реквизиции. Но это желание шло вразрез с его понятиями о партийном долге. Товарищи скажут: «Прибрали Мичкина к рукам буржуазные бабы». И будут правы.
– Нет у меня времени распивать коньяк, докторша! – сказал он с неожиданной для него самого грубостью и враждебностью. – Так-то! Заберем твою виллу.
А Ирина спокойно промолвила:
– Я тебя позвала вовсе не из-за виллы.
– А для чего же?
– Хотела попросить об одной услуге.
Мичкин снова насупился.
– Мы боролись с фашизмом не для того, чтобы прислуживать буржуазии.
Ирина сухо и холодно рассмеялась.
– Чего ты хочешь? – спросил Мичкин.
– Ничего. Можешь уходить. Извини, что отняла у тебя время.
Но Мичкин не ушел. Он опустился в кресло, чувствуя себя униженным и подавленным. Он вспомнил, что однажды в зимнюю вьюгу эта женщина, наскоро переодевшись, ушла с новогоднего бала и поехала к его больному внучонку; а теперь он, Мичкин, когда она просит его помочь, отказывается. Однако Мичкин мужественно вышел из затруднения.
– Слушай, докторша! – сказал он, сжав тяжелые кулаки и по-бычьи наклонив голову. – Есть вещи, которые я не могу сделать. Мне не позволяет это партия, моя совесть, убитые товарищи… Я не могу спасти твою виллу от реквизиции… Но в чем-нибудь другом постараюсь тебе помочь, даже если потом на меня будут пальцем показывать… Попятно тебе? А теперь скажи, зачем позвала меня!
Ирина с удивлением посмотрела на пего и равнодушно подумала: «Это человек с характером».
– Я хочу поговорить по телефону со своим деверем, – сказала она, помолчав.
– Со своим деверем? – Мичкин недовольно поморщился, что его побеспокоили из-за таких пустяков. – Кто он такой, твой деверь?
– А ты разве не знаешь? – несколько свысока спросила Ирина. – Он из ваших – Павел Морев.
Мичкин смотрел на нее, ошеломленный.
– Значит, Борис Морев…
– Да, Борис Морев и Павел Морев – братья, – поспешно сказала она.
Мичкин долго цокал языком, потом стал припоминать подробности тон ночи, когда он поджидал Павла возле виллы, и, наконец, спросил:
– Почему ты сама ему не позвонишь?
– Потому что не знаю, где он.
– В военном министерстве, конечно… Где же еще ему быть? Теперь налей-ка коньяку!
Мичкин принялся настойчиво осаждать телефонные коммутаторы, не без удовольствия перечисляя свои партийные заслуги, и ему наконец удалось проникнуть по проводам в кабинет товарища Морева. Он тотчас же передал трубку Ирине. Откуда-то издалека до нее донесся сухой голос человека, оторванного от дела.
– С вамп говорит ваша невестка! – сказала Ирина.
– Да?
– Вы, вероятно, помните меня… Мы раз виделись…
– Да! – Голос невежливо оборвал ее на полуслове. – Чего вы хотите?
Ирина стала объяснять, что ее шофер куда-то пропал, а достать билет на автобус почти невозможно.
– Вы откуда звоните?
– Боже мой, конечно, из Чамкории…
– Завтра я пришлю за вами свою машину.
Она услышала, как на другом конце провода положили трубку, и остолбенела от неожиданности. Губы ее дрожали or гнева.
– Что? – спросил Мичкин. – Разъединили?
– Нет, – ответила она. – Похоже, что он очень занят. Мичкин допил коньяк и озабоченно заметил:
– Сейчас кипит борьба против четвертого постановления Совета Министров.
– Что это за постановление? – спросила Ирина рассеянно.
– Чтобы мы никого не привлекали к ответственности за своих убитых товарищей, – ответил Мичкин.
На следующий день к вилле подкатил мощный штабной автомобиль с красным флажком на переднем крыле. Из машины вышли солдат-шофер и рослый унтер-офицер с партизанским значком. Они с неприязнью оглядели виллу и позвонили у парадного подъезда. Ирина пригласила их закусить на дорогу, но они отказались, говоря, что у них нет времени. Товарищ Морев приказал им вернуться немедленно, потому что машина нужна ему самому. «Поеду, как арестованная, – подумала Ирина. – По все же лучше, чем трястись в автобусе». Она еще больше разозлилась на Павла.
Женщины сели в машину. Служанка поставила между колен чемоданчик с драгоценностями. В это время мимо них проходил торопившийся куда-то Мичкин, и Ирина поздоровалась с ним за руку. Он сказал, что вилла будет занята на следующий день. Ирина об этом но жалела: она Никогда не считала виллу своей, ей всегда казалось, что в доме живет печальный призрак Марии. Как только автомобиль отъехал, Мичкин поставил у подъезда милицейский пост.
Дул пронизывающий осенний ветер. По склонам гор клубились туманы. Холодно и мрачно было вокруг. 13ремя от времени, когда ветер стихал, принимался моросить мелкий дождь. Укутавшись в каракулевое манто, Ирина попыталась завязать разговор с унтер-офицером, который, судя по всему, был из охраны Павла, и предложила ему душистые экспортные сигареты. Тот равнодушно взглянул па них и, вынув пачку дешевых сигарет, сказал сухо:
– Я курю крепкие.
Это был суровый, молчаливый мужчина с татуированными руками, вероятно, ему пришлось немало побродить по свету в поисках работы. Среди фигурок татуировки попадались и надписи. Ирине удалось прочесть одну из них: «Bahia, 1934». Она подумала: «Романтика бродячих бунтарей… Наверное, Павел внушил этому типу коммунистические идеи где-нибудь в Южной Америке». Ирина попробовала узнать у него о Павле, но безуспешно. Унтер-офицер отделывался односложными ответами. Наконец она потеряла терпение и сказала:
– Я невестка товарища Морева… Укрывала его в своей вилле.
Он ответил с непроницаемым равнодушием:
– Знаю.
Она обиженно умолкла и уже не заговаривала с ним. Автомобиль спустился на равнину. Мимо них по грязному шоссе мчались военные машины с американскими, английскими и советскими флажками. Над побуревшим жнивьем с тоскливым карканьем кружили стаи ворон. Ирина курила сигарету за сигаретой, а служанка дремала, судорожно сжимая чемоданчик с драгоценностями.
В Софии машина ненадолго задержалась у Орлова моста. Русская девушка в сапожках, военной форме и пилотке регулировала движение на перекрестке. По бульвару Евлогия Георгиева, сотрясая мостовую, с грохотом проходила колонна советских танков. Никогда еще Ирине не приходилось видеть такие тяжелые и огромные машины. Броня у них была расписана тигровыми полосами камуфляжа, а из стальных башен торчали орудийные стволы и высовывались забрызганные грязью и маслом танкисты. Весной сорок первого года по этим улицам проходили немецкие танки, а бездельники и гулящие девки бросали им цветы. Сейчас стояла осень, моросил дождь, танки теперь шли советские, и рабочие приветствовали их поднятыми кулаками. Колесо истории беспощадно повернулось на сто восемьдесят градусов и раздавило мир «Никотианы» и Германского папиросного концерна. Ирина вдруг вспомнила поручика танковых войск Ценкера и покраснела от стыда.
Танковая колоши прошла, а советская девушка дала знак скопившимся у моста машинам. Проезжая мимо, Ирина хорошо рассмотрела регулировщицу. Это была стройная, русая, загорелая девушка со вздернутым носом и лукавыми глазами. Девушка тоже посмотрела вслед сидевшей в автомобиле красивой женщине, и на ее лице отразилось любопытство, как будто мимо нее провезли интересного зверя. Она знала понаслышке, что где-то на Западе есть женщины, которые совсем не работают и только и делают, что заботятся о своей красоте.
Ирина опустила голову, чтобы не видеть изрытой бомбами мостовой, изломанных деревьев, обгорелых, закопченных домов с зияющими, как глазницы черепа, окнами. Темнело. По тротуарам сновали люди с рюкзаками за спиной. Лишь кое-где тускло горели электрические лампочки. София была разбита, разрушена, сожжена. Никогда еще она не выглядела такой жалкой и печальной. Автомобиль проезжал по улице, которая временами казалась Ирине знакомой. Но часто на том месте, где стоял сохранившийся в ее памяти дом, оказывалась груда перекрученного железа и бетонных глыб.
Машина остановилась у подъезда. Где это они?… Да ведь это их дом!.. Левое его крыло с террасой и зимним садом разрушено бомбой – Ирина уже знала об этом, – по уцелевшая часть была обитаема. Сквозь освещенные окна первого этажа виднелись занавески из брюссельских кружев и мебель красного дерева. У входа стояли постовой милиционер и необычного вида солдат – пожилой бородатый мужчина в накинутой на плечи шинели и с пятиконечной звездочкой на фуражке – боец повстанческой армии.
Ирина спросила его:
– Товарищ Морев здесь?
– Не знаю, – нахмурившись, ответил солдат.
Над дверью парадного подъезда, в который когда-то проходили дамы в бальных платьях и мужчины в смокингах, была прибита доска с наспех нарисованными серпом и молотом и корявой надписью: «Штаб VIII гвардейской группы». Обширный вестибюль с панелями красного дерева был освещен мягким светом, как и в те дни, когда генеральный директор «Никотианы» устраивал приемы для министров, депутатов и иностранцев. Но сейчас ковры и паркет были заляпаны грязью. Пахло табаком, сапогами и нафталином. На двери кабинета Бориса красовалась внушительная надпись: «Начальник штаба», а на двери маленькой гостиной, смежной с кабинетом: «Адъютант». Эта дверь была открыта настежь. Перед нею в кресле дремал человек с автоматом в руках, из комнаты доносился стук пишущей машинки. Увидев вошедших женщин, человек вскочил и, постучав в дверь, доложил:
– Товарищ подполковник!.. Приехали.
Из комнаты вышел молодой белобрысый офицер в новеньком, ловко подогнанном мундире, который, казалось, говорил за хозяина: «Я окончил военное училище и знаю, как должен выглядеть офицер». Лицо у юноши было умное, но совсем еще ребяческое. Ирина подумала, что он вот-вот щелкнет каблуками, по офицер только отрекомендовался:
– Подполковник Данкин.
– Я где-то встречалась с вами! – Ирина с трудом подавила улыбку, которая явно пришлась не по душе подполковнику. Но лицо ее внезапно омрачилось от набежавшею воспоминания. – Я вас видела в отряде, который задержал нас возле станции.
– Да. – Подполковник Данкин ничуть не смягчился и добавил холодным, официальным тоном: – Товарищ Морев телефонировал, чтобы вы располагались на втором этаже. Он оставил там за собой только одну комнату.
– Спасибо, господин подполковник.
– Я попрошу вас пользоваться черным ходом… Проход через штаб воспрещен.
– Как прикажете, господин подполковник, – ответила Ирина с язвительным смирением, равносильным дерзости.








