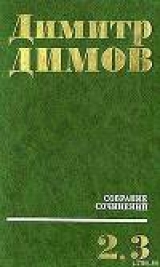
Текст книги "Табак"
Автор книги: Димитр Димов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 61 страниц)
– Ну, как вы себя чувствуете, господин эксперт? – язвительно спросил он.
Кассир – неприятный краснощекий субъект с дерзкими, хитрыми глазками – был племянником генерала и считался человеком с большим будущим в табачной торговле. Кое-как усвоив техническую сторону дела, он уже давно подумывал о том, чтобы отстранить мастера от закупок и самому заняться ими или хотя бы стать соучастником его воровства. Он был уверен в себе и во влиянии своего дяди на Спиридонова, однако усердие Бориса его раздражало.
– Мне действительно предлагают стать экспертом, – ответил Борис, – а ты на всю жизнь останешься конторским подхалимом.
Он надел свой рабочий халат из плотной коричневой ткани и спокойно вышел из комнаты.
– Здорово он тебя срезал! – восхищенно сказала машинистка, когда дверь за Борисом закрылась.
Кассир закурил сигарету, но от злости выронил спичку и чуть не прожег свой новый костюм.
– Маньяк!.. – буркнул он, покраснев. – Вылитый отец… Сегодня же вечером скажу директору, чтобы он его уволил.
Борис вышел из комнаты машинистки и усмехнулся, вспомнив о перебранке, потом направился по темному коридору в цех, где обрабатывали табак. Он в тысячный раз почувствовал, что все его ненавидят: и директор, и служащие, и мастера, и рабочие, – ненавидят, но не решаются вставать у него на пути. Люди чувствовали его превосходство – превосходство человека способного и безжалостного. Все его предсказания оправдывались, все его предложения оказывались удачными, все его слова попадали в точку. Директор сначала отвергал его идеи, а потом проводил их в жизнь, приписывая заслугу себе. Мастера ругали его, но втихомолку старались работать лучше. Рабочие ненавидели, но слушались. Казалось, он был рожден, чтобы преуспеть в мире табака. Правда, у него не было ни тепла, ни сердечности обыкновенных людей, но мир табака в этом не нуждался. Суровый закон прибыли искал и возвышал именно таких людей.
Наконец-то он выплыл на поверхность – избавился от тяжкой работы на складе, от дурманящего запаха, от ядовитой и коварной пыли, которая разъедает легкие и ведет к малокровию. Он овладел техникой обработки табака. Уже теперь он мог бы завести собственное дело. Но зачем ему становиться мелким торгашом, продавать маленькие партии товара крупным хищникам, наживая по два-три лева на килограмме, если спустя несколько лет, приложив еще немного труда и терпения, он сможет загребать в десять раз больше? Путь к узкому, но всемогущему кругу олигархов, имеющему международные связи, проходил через «Никотиану».
Он вошел в один из цехов, где производилась обработка табака, и ему сразу же показалось, что кто-то набил ему уши ватой – так глухо и утомительно гудели вентиляторы, никогда не успевающие хорошо очистить воздух. Помещение было, как всегда, полно желтоватой табачной пыли, которая висела над рабочими облаком удушливого газа. Было что-то отвратительное и жестокое в этой раздражающей, ядовитой, мелкой, как капли тумана, пыли, которая лезла в глаза, нос, рот, горло и легкие, в волосы и в каждую складку одежды, так что избавиться от нее было невозможно, даже выйдя из склада. Запах у нее был какой-то особенный, смолистый, похожий на запах опиума; он сначала казался приятным и действовал как благовоние, но вскоре пресыщал и становился приторным и противным. В помещении стоял и другой запах, такой же противный, но не такой вредный, – запах человеческих испарений, исходивший в этот душный летний день от изможденных, худых тел, прикованных к рабочим столам и обливавшихся потом. Тут работали беременные женщины, обрекая свой плод на нездоровую жизнь уже в материнской утробе, хмурые мужчины, которые думали о зимней безработице, печальные девушки с поблекшими лицами, юноши без будущего – озабоченные и невеселые люди всех возрастов, которые нашли выход из нищеты в продаже своего здоровья на складе «Никотианы». И вся эта масса измученных людей, которые, по мнению некоторых, продавали свой труд свободно, сейчас лихорадочно работала, злобно ворчала, надсадно кашляла, глотала туберкулезную мокроту и вытирала пот грязными сырыми платками, пропитанными табачной пылью. Пожелтевшие худые пальцы быстро сортировали ядовитые листья, складывали их в кипы, увязывали в тюки. Одеревеневшие от долгого сидения колени просили движения. Забитые пылью груди томились по чистому воздуху. Уставшие лица и воспаленные глаза ждали звонка, который наконец прекратит бесконечный рабочий день.
В то время по крайней мере вопрос о том, как обрабатывать табак, еще не вызывал споров между рабочими и хозяевами. Табак обрабатывался «широким пасталом»,[16]16
Обработка «широким пасталом» – ручной способ об работки и сортировки табачных листьев. При этом не требуется специальных машин, и его обработкой занято значительное число рабочих.
[Закрыть] что позволяло начинать обработку с ранней весны и, таким образом, сокращало тяжелый период безработицы. Тюки табачных листьев, привезенные из деревни, развязывались так называемыми «актармаджиями» – сортировщиками, которые раскладывали листья на отдельные кучки в соответствии с их качеством. Эти кучки перекладывали на дощечки и относили на «базар»[17]17
Базар – рабочее место мастера.
[Закрыть] к мастеру или его помощнику. Мастер – потому-то он и назывался мастером – подбирал кучки одинакового качества, образуя из них большие однородные партии, и одновременно проверял работу актармаджий, потом распределял партии по рабочим столам – «тезгяхам». За каждым столом работало по одной «чистачке» – сортировщице и по три «пасталджийки» – укладчицы, причем одну укладчицу называли «левой», другую – «правой», третью – «капакчайкой». Сортировщица сортировала листья, присланные с «базара», и раскладывала их на четыре кучки: «левую», «правую», «правый капак» и «левый капак».[18]18
Капак – крышка. Тюки из листьев обкладывали со всех сторон пасталы, чтобы при погрузке и разгрузке защитить листья более высокого качества.
[Закрыть] Укладчицы брали листья, распределенные сортировщицей, и укладывали их стопками, которые носили название: «левая кипа», «правая кипа», «левый капак» и «правый капак». Кипы относили к «денкчие» – тюковщику, который сортировал их еще раз, отбирая и укладывая на надлежащее место неправильно уложенные листья. После этого тюковщик начинал «строить» тюк в особом ящике, стенки которого изнутри были обтянуты полотном, укладывая кипы в ряды – «сары», причем «правые» кипы и «правые» капаки он клал направо, а «левые» – налево. Верх и низ тюка состояли из сплошного ряда капаков. Приготовленный таким образом тюк относили в ферментационный цех.
Эта простая на первый взгляд работа была далеко не такой механической, как казалось. Сортировка листьев, определение их качества по неуловимым для неосведомленного наблюдателя признакам, которыми они отличались друг от друга, требовали большого напряжения, и оно оплачивалось очень щедро – по мнению фирм, которые при помощи небольших прибавок к поденной плате обходили закон, запрещавший сдельную работу, чтобы повысить в конечном счете свои прибыли. В то время как табачная пыль разрушала здоровье рабочих, они стремились выработать побольше, чтобы прибавить лишний лев к поденной плате, и это истощало их нервы. То и дело вспыхивали на «базаре» ссоры между актармаджиями и помощниками мастера, между сортировщицами и мастером, между укладчицами и тюковщиком, так как все ошибки и все успехи рабочих отмечались на карточках, которые Борис завел для каждого человека на складе. В борьбе за хлеб мужчины делались грубыми, а женщины – сварливыми. Они нервно переругивались, их голоса звучали озлобленно и раздраженно. В конце концов все обрушивалось на укладчиц – работниц самой низкой категории, не смевших роптать. Мастер то и дело грозил их уволить, если они будут ломать листья дорогостоящего сорта «каба кулак». Работницы плакали и принимались более внимательно перебирать листья пожелтевшими сухими пальцами, но тогда работа шла медленнее и мир нарушали протесты тюковщиков, старавшихся прибавить к своему дневному заработку премию за лишний тюк.
Однако эта масса переутомленных, издерганных и забитых людей, казалось бы совершенно разобщенных, на самом деле была на редкость единодушной. Единодушие ее проявлялось тогда, когда мастер перебарщивал в грубости или кому-нибудь из рабочих делалось дурно от ядовитых испарений табака. Если мастер неблагоразумно оскорблял непристойной бранью какую-нибудь работницу, летальные вскакивали с мест и бросались к нему, как разъяренные тигрицы. Они терпеливо сносили личные обиды от людей своего класса, но не желали терпеть, когда их оскорбляли хозяева и их прислужники. Если кому-нибудь становилось плохо от духоты, все с гневными и угрожающими криками требовали, чтобы открыли окна, не заботясь о том, что излишняя влага или сухость воздуха могут испортить табак. Еще ярче проявлялась солидарность этих людей в дни стачек или в голодные месяцы зимней безработицы. Тогда сквозь их грубость, ожесточение и сварливость пробивалось теплое сочувствие и они помогали друг другу. Но ни хозяева, ни их прислужники и не подозревали об этом.
Когда Борис вошел в цех, перебранка и разговоры вполголоса стихли. Помощник мастера, который сидел на «базаре» и до тех пор только время от времени поругивал кого-нибудь, принял вдруг необычайно деловитый вид и негодующе раскричался на рабочих. Эти сукины дети ленятся работать. Даром едят хлеб фирмы и доведут хозяев до сумы… Помощник был маленький сорокалетний человек, безусый и безбородый, с густыми волосами и писклявым голосом евнуха. Рабочие не обращали на него внимания. Они понимали, как понимал и Борис, что это была одна из подлых неврастеничных выходок мастера, который подлизывался то к одной, то к другой из враждующих сторон. В присутствии рабочих он порицал хозяев, а перед хозяевами и их служащими ругал рабочих. В душе его вечно жила тревога: он боялся гнева хозяев, стачек рабочих, интриг, увольнения и безработицы. Он хорошо знал дело, но, дрожа за свою шкуру, постоянно подслушивал разговоры и «под секретом» рассказывал директору о своих подозрениях. Холодную самоуверенность Бориса он толковал по-своему: Борис – шпион, поставленный хозяевами, чтобы следить, кто как работает. И сейчас это побудило его удвоить усердие: он вылил на рабочих поток сквернейших ругательств. Но и тогда никто не огрызнулся, все плотнее уселись на дощатые скамьи и соломенные подушки и стали еще усерднее укладывать листья в кипы. Наступила тишина. Слышалось только гудение вентиляторов и шаги актармаджий, которые носили на «базар» дощечки со стопками табачных листьев. Присутствие Бориса сковывало всех. Этот проклятый молокосос видел малейшие упущения, вписывал их в свою записную книжку, докладывал обо всем директору и, наконец, увольнял каждого, кто работал медленно или рассеянно. Его язык жалил, как оса, и никто не смел ему возражать.
Борис обходил цех, внимательно вглядываясь в стопки красноватых табачных листьев. Около тюковщиков он остановился. Среди них был новый рабочий, которого он еще не видел, и это его удивило. Новичок был лет тридцати – сорока, с рыжими волосами и слегка одутловатым лицом, усыпанным веснушками. Работал он молча и ловко.
– Как звать? – спросил Борис.
Рабочий закончил укладку последнего ряда и медленно поднял голову. Серые глаза его с досадой встретили острый взгляд Бориса.
– Меня спрашиваешь? – отозвался он, словно желая выиграть время для ответа.
– Тебя, кого же еще!
– Макс Эшкенази, – ответил рабочий.
– Откуда приехал?
– Из Софии.
– В какой фирме работал там?
– В «Джебеле».
Руки у рабочего были огрубевшие, мозолистые, но взгляд выдавал человека образованного. Вот уже месяц, как разведка табачных фирм доносила, что в среду рабочих втерлись коммунистические агитаторы. Озлобленный, бесплодный и неорганизованный ропот на низкую поденную плату уступил место подозрительному молчанию, а это был верный признак того, что рабочие готовятся к стачке.
– Зачем ты приехал сюда? – спросил Борис.
Лицо тюковщика приняло глупое и добродушное выражение – казалось, этот вопрос польстил ему.
– Обручился я тут, – улыбаясь, объяснил он. – Понравилась одна здешняя девушка.
– А кто тебя рекомендовал на наш склад?
– Господин Костов, главный эксперт.
«Хорошо себя застраховал!» – с насмешкой подумал Борис. Потом достал записную книжку, записал в нее имя «Макс Эшкенази» и поставил против него крестик, что означало «подозрительный». Серые глаза рабочего враждебно и хмуро уставились на записную книжку.
– Продолжай, – сказал Борис.
Он прошел в соседний цех, где за одним столом собрались, словно на конференцию, почти все исключенные из гимназии руководители марксистско-ленинских кружков. Директор склада, воображавший, что слова «царь» и «отечество» могут растрогать даже карманников из уголовного отделения тюрьмы, сделал одну из величайших своих глупостей, согласившись принять на работу этих мальчишек. Когда рассматривалось дело исключенных, они дали сомнительное обещание стать «хорошими гражданами», а у генерала это вызвало такой приступ патриотического великодушия, что он на другой же день принял их в «Никотиану». Так этим оболтусам удалось избежать тюрьмы, а теперь они снова сеяли коммунистическую заразу. Все это должно было дорого обойтись фирме. Но особенно бесило Бориса то, что в среду этих типов затесался и Стефан, его младший брат. Какой козырь в руках директора, служащих, главного мастера – всего этого сборища бездарностей и жуликов, которые мешают успеху Бориса в «Никотиане»! Иметь брата-коммуниста – это семейный позор, мерзкое, несмываемое пятно, которое отнимало всякую надежду на успех.
Братья – старший и младший – мрачно уставились друг на друга. Стефану исполнилось семнадцать лет, и он считался самым красивым из трех сыновей Сюртука. Это был высокий худощавый черноволосый юноша с правильными чертами лица и матовой кожей. Против него сидела скуластая девушка со вздернутым носом. Ее острые зеленоватые глаза смотрели насмешливо. Эта девушка, дочь железнодорожника, тоже была исключена из гимназии. Прочие молодые парни и девушки смотрели не менее дерзко, хоть и были еще моложе Стефана.
Как только Борис поравнялся с их столом, они сразу умолкли и сосредоточились на работе. Но в их усердии таилось что-то вызывающее и двусмысленное. Держались они прямо, лица у них были насмешливые и самоуверенные, движения резкие, и все это, казалось, оскорбляло драгоценный товар, который они сортировали. Когда надо было принести листья с «базара» или передать кипы тюковщику, молодые рабочие проделывали это, подняв голову и с небрежной усмешкой, как будто хотели сказать: «Мы не собираемся делать карьеру на этой работе».
«Мальчишки!» – со злостью подумал Борис. И тут же в голову ему пришел ряд полицейских мер против них, которые он потребует от государства, если станет табачным магнатом. В угрюмом бессилии, в жалкой своей бедности он обдумывал даже это.
– Сортировщик!.. – крикнула вдруг дочка железнодорожника. – Вы кладете направо поломанные листья.
Она подняла изломанный лист и показала его Стефану, который работал сортировщиком. Ее голос и обращение на «вы» прозвучали деланно, с явной целью вызвать смех. Несколько человек засмеялись. Стефан схватил изломанный лист и бросил его в кучу «левых капаков».
– Будьте посознательней!.. – назидательно проговорила девушка, а затем вдруг изменила голос и крикнула пискливо, как помощник мастера: – Вы даром едите хлеб фирмы!
– Сукины дети! – добавил кто-то резким фальцетом.
Молодые люди захохотали, и хохот раскатился по всему цеху. Лицо Бориса исказилось.
– Замолчите! – крикнул он в ярости. – Мальчишки!
– А мастер, он воспитанный господин, по-вашему? – спросила девушка.
– Это вы вынуждаете его грубить! – громко сказал Борис – У вас нет ни капли совести.
Наступило молчание, которое вдруг нарушил голос Стефана.
– Слушай, ты, – обратился он к брату. – Не будь слишком уж совестливым!.. А то можно подумать, что ты главный акционер фирмы.
Борис бросился было к нему – казалось, он хочет ударить брата, – но вдруг остановился. Стефан сидел по другую сторону стола и был неуязвим. Братья смотрели друг на друга злобно, вызывающе, готовые схватиться в любую минуту.
– Хулиган!.. – прошипел Борис – Не забывай, что на тебя заведено дело в полиции.
– Это я всегда помню.
– Ага, опять начинаешь?…
– Ступай доноси!
Задыхаясь от гнева, Борис направился в истифчийское отделение, чтобы избежать скандала.
«Истифом» называли подготовку табака к ферментации, и она имела не меньшее значение, чем сортировка. Тюки табака ставили на ферментацию в различных положениях: горизонтальном, вертикальном или набок, чтобы они приобрели и сохранили свой «таф», то есть нормальное количество влаги. Влажные тюки размещали на верхних этажах, сухие – на нижних или в подвале. Если ферментация совершалась неправильно, табак плесневел или пересыхал. Тогда партия товара считалась «упущенной», снижались и качество ее и вес. Иногда «упущенные» партии обесценивались полностью. Если табак начинал бродить быстро, он сырел и согревался. Тогда устраивали «тарак» – то есть ослабляли пеньковые веревки, которыми перевязан тюк, или же рассыпали весь тюк кипами и клали листья на круглые доски – «текерлыки» – для просушки. Остальные тюки подвергались «алабуре» – перемещению; это значит, что тюки, находившиеся внизу, перемещали наверх и наоборот – опять же в соответствии с количеством содержащейся в них влаги. Всеми этими операциями, своевременность которых могли определить лишь опытные работники, ведали так называемые истифчии – ферментаторы и их глава истифчибашия – мастер-ферментатор. В ферментационных помещениях было меньше пыли, но зато запах табака здесь был еще более острым и дурманящим. Вентиляторы здесь вообще не допускались, так как поступающий из них воздух мог изменить таф. Даже оконца тут – маленькие, квадратные, закрытые ставнями и плотными занавесками – открывались только в определенные часы дня. В этих громадных, скудно освещенных электричеством помещениях брожению подвергались сотни тысяч килограммов табака. От тюков исходила целая гамма запахов, в которой обоняние опытного человека могло отличить диссонансы плесени и затхлости от гармонического благоухания смолистых веществ и эфирных масел. Только никотин не издавал никакого запаха. Его невидимый яд действовал главным образом в сортировочных цехах, и ферментаторы, таким образом, подвергались меньшей опасности. Но была трагедия и в их ремесле. Вначале каждому ферментатору доверяли триста – четыреста тюков. Однако с развитием процесса ферментации заботиться о тюках стали меньше, и их количество постепенно увеличивали, доводя его до двух тысяч, чтобы не повышать излишними расходами «кайме» – среднюю цену обработанного табака. Тогда мастер-ферментатор уменьшал количество своих подчиненных, увольняя рабочих и оставляя только тех, которые с наибольшим усердием жертвовали своим здоровьем для прибылей фирмы.
Борис обошел все этажи, вынул записную книжку и вычеркнул фамилии четырех человек, которых мастер-ферментатор собирался уволить в этот день. Спиридонов не должен видеть на складе лишних рабочих.
III
– Сколько сейчас? – спросила Зара.
– Посмотри на спидометр, – басом ответил мужчина, сидевший за рулем. – Девяносто километров… Пустяки.
– Чудесно!.. Дайте сто.
– Папа, не делай глупостей, – неожиданно вмешалась Мария.
Свист ветра унес ее слова, но Спиридонов уловил сердитый тон дочери и уменьшил скорость. Стрелка циферблата запрыгала на пятидесяти километрах – смехотворная скорость для автомобиля на прямом, хорошем шоссе.
– Мария, ты боишься? – разочарованно проговорила Зара.
Голос у нее был бархатный и звучный, красивого тембра. По сравнению с ним голос Марии казался резким и сухим.
Зара оглянулась с улыбкой. Ее смуглое лицо вызывало в памяти образы одалисок. Красивое и порочное, оно было таким же ярким, как иллюстрации в «Lady's Home journal»,[19]19
«Домашний журнал для дам» – английский иллюстрированный журнал.
[Закрыть] который был ее единственным чтением. Голубой шарф тюрбаном обвивал ее голову, оттеняя эту яркость и подчеркивая безупречную элегантность костюма. Казалось, что на отвороте ее жакета должен быть значок американского колледжа в Стамбуле, однако дочь бывшего депутата не опускалась до подобной безвкусицы. Хоть она и окончила знаменитый колледж, но об этом должны были свидетельствовать только ее собственные совершенства. В словах Зары звучали и кокетливый упрек Марии за ее холодную наблюдательность, и намек Спиридонову на то, что игра продолжается.
Эту игру она начала давно, после долгих колебаний: все медлила в надежде, что произойдет какое-то событие и домешает ей, но два дня назад она дошла до решающей фазы, согласившись на эту поездку. «Дело идет на лад», – додумала она с горьким удовлетворением, а потом почувствовала, что невозможно, недопустимо, чтобы оно не пошло на лад. С возрастом Спиридонова она могла примириться: хотя ему было уже под шестьдесят, держался он прямо, здоровье у него было крепкое, а его крупное лицо с орлиным носом и хищными глазами было красиво какой-то пиратской красотой. Но он был отцом Марии, и это ее смущало. Проклятое положение!..
Зара тревожно задумалась о денежных делах своей семьи и вдруг до конца поняла, что другого выхода нет. Долги ее отца выросли настолько, что это грозило катастрофой, а его пенсии и денег, вырученных от продажи последних драгоценностей, едва хватило его элегантной дочери на нужды одного летнего сезона. Она потеряла надежду выйти замуж за порядочного молодого человека и уже давно подумывала о других возможностях. Под «порядочным человеком» она подразумевала богатого и веселого мужчину, свободного от пуританской ограниченности мелкой буржуазии. Однако за последнее время подобные мужчины очень поумнели: изысканных, но обедневших светских барышень они предпочитали брать не в жены, а в любовницы.
Мария приняла замечание подруги бесстрастно, с мудрым смирением человека, провидящего неизбежный ход событий. Она только сказала:
– Не флиртуй с отцом, когда он ведет машину.
На этот раз ее слова были отчетливо слышны. Лицо Зары дрогнуло виновато и немного испуганно, а Спиридонов безуспешно попытался угадать по голосу дочери, действительно ли она негодует или только поддразнивает его. Все-таки он понял, что Мария не хочет, чтобы ее считали дурочкой. Зара тоже поняла это и почувствовала себя страшно виноватой. Кого-кого, а Марию обманывать не следовало бы.
– Ты начинаешь ревновать, – сказала Зара, обернувшись снова.
– Просто боюсь, как бы он не опрокинул машину. Это с ним уже случалось.
– Ты правда сердишься?
– Нет. Но не заставляй его делать глупости.
– Давай повеселим его немножко.
Красивый стареющий пират никогда не страдал от скуки, но объяснение было приемлемым. Разговаривали все трое по-английски. И самый строй их мыслей тоже был в английском духе – то была логика людей, из приличия притворяющихся идиотами. Они даже были готовы поверить в свою ложь. Мария кивнула. Да, хорошо бы его развлечь. Пусть отдохнет от работы. В это можно поверить. Ведь ей нужно было только закрыть глаза на грубую действительность, на тот отвратительный факт, что Зара флиртует с ее отцом и уже решила стать его любовницей. Согласиться с этим открыто было бы одинаково унизительно для всех троих. Мария сделала гримасу, и, хотя курить в открытом автомобиле было не очень приятно, вынула свой маленький серебряный портсигар. Шофер, сидевший рядом с нею, поспешил зажечь ей сигарету. Он сделал это почтительно, ловко, загораживая ладонями пламя спички от ветра. Но в его глазах сейчас не было того скрытого хищного огонька, который прельщал горничных и обязательно вспыхнул бы, если бы шофер поднес спичку к сигарете Зары. Мария не привлекала, не волновала, не смущала мужчин ничем, кроме богатства своего отца.
Она была похожа на него. Но если его лицо отражало твердость и властную жизненную силу пирата, то от ее серых глаз и тонких, почти бескровных губ веяло унынием дождливого дня. Впечатление это усиливалось еще и тем, что она совсем не красилась. Мария тоже обмотала голову ярким шарфом, от которого ее бледное лицо и пепельно-русые волосы казались еще более тусклыми. Хороши были у нее только ноги, длинные и стройные, но и они не соблазняли – плоская грудь и мальчишеская холодность отталкивали мужчин от этой девушки.
Она затянулась сигаретой и устремила на равнину неподвижный взгляд печальных, без блеска глаз. Утренняя прохлада сменилась зноем, и над сжатыми нивами нависла духота летнего дня. Там и сям близ селений размеренно пыхтели двигатели молотилок. Загоревшие до черноты мужчины в соломенных шляпах сбрасывали снопы. На выгоревших от засухи деревенских выгонах лениво паслись овцы. Оборванные пастушата стояли, опершись на свои крючковатые посохи и уставившись на скользивший по шоссе автомобиль и сидящих в нем людей. Их псы бросались к машине и бежали за пей, но вскоре отставали и лаяли долго и злобно.
После разговора с Зарой Мария почувствовала облегчение. Так! Формула найдена. На кокетство Зары надо смотреть как на невинную прихоть: Заре хочется развлечь утомленного человека – вот и все! Теперь Марию уже не должна смущать ни подозрительная нежность, с какой ее приятельница опирается на плечо ее отца, ни намеки, которыми они обмениваются, делая вид, что шутят. Она вспомнила другую формулу, помогавшую ей спокойно выносить присутствие любовника ее матери. То был гвардейский ротмистр, кукла, индюк в красном мундире. Мария его терпеть не могла, но должна была держаться с ним любезно, чтобы казалось, будто он приходит ради нее. Третья формула спасала ее от неприятной необходимости быть грубой. Надо было только притворяться, что считаешь себя привлекательной. Свора обожателей клялась ей в любви, и каждому она должна была отвечать, что верит его словам, но еще не решила выходить замуж. Была у нее и четвертая формула: принимая подобострастную лесть профессиональных музыкантов, Мария делала вид, что считает себя первоклассной пианисткой; пятая формула помогала щадить гордость бедных приятельниц, а шестая была направлена на то, чтобы ее не считали нелюдимой. Вся жизнь Марии была опутана сетью формул, которыми она прикрывала и маскировала ничтожество, падения и глупости людей, среди которых жила. Сейчас она вспоминала эти формулы одну за другой и внезапно почувствовала невыносимую усталость от того терпения, с каким она их применяла. Но эта усталость не была ни нравственным протестом, ни бунтом. Марии просто хотелось отдохнуть, вырваться на миг из их пут. Ее охватило желание остаться одной, никого не видеть, пожить в таком месте, где ее никто не знает. Пожить хоть десять дней простой, естественной жизнью, без дансингов и общества, какое собирается на больших курортах, без софийского запаха резиновых шин и бензина. Поиграть на рояле в тиши вечерних сумерек, когда шумят сосны, с гор веет ветер и луна озаряет все вокруг печальным зеленоватым светом. Мария могла бы найти этот покой в Чамкории,[20]20
Чамкория – после 1942 г. Боровец – горный курорт у северного подножия горного массива Рила в семидесяти километрах от Софии.
[Закрыть] где у Спиридоновых была вилла, но сейчас там отдыхала ее мать с «индюком» в венгерке, украшенной серебряными шнурами. Марии не хотелось нарушать их идиллию. Мать и дочь молчаливо согласились – опять-таки при помощи найденной для этого формулы – не мешать друг другу.
Мария унаследовала от отца его ум, способность проникать в душу людей, отчасти его эгоизм и даже капельку его грабительского инстинкта. Но она была совершенно лишена его бьющей ключом жизненной силы. Ее ум не давал ей погрязнуть в дурацких пустяках, как погрязла ее мать. Она не была ни злой, ни великодушной. Ее уменье понимать людей и разбираться в условностях с детства притупило в ней нравственное чувство. И теперь она была твердо уверена, что нет ни добра, ни зла и что нет никакой необходимости проводить различие между ними. Зная, что такое свет, утомлявший ее своими падениями, она смотрела на него холодно и равнодушно. Она не была ни счастлива, ни несчастна. И очень часто думала с мягкой насмешкой философа, что сама она всего лишь бесцветная, никому не нужная вещь.
Мотор взревел, и стрелка опять прыгнула на девяносто. Папашу Пьера – так его называли и родные, и все служащие фирмы – снова обуял демон скорости. Зара пробуждала в нем необузданность дикаря, которая в дни юности бросала его в самые рискованные предприятия и помогала ему наживаться. Он забыл о своем артериосклерозе, миокардите, следах паралича правого века – результате последнего удара. Мария наклонилась и бросила взгляд на спидометр. Стрелка показывала сто километров. Корпус машины дрожал от напряжения, воздух свистел, а деревья и кусты отлетали назад, будто сметенные вихрем. Да, папа перебарщивал!.. Мария хотела было сердито прикрикнуть па него, но вспомнила о формуле и не стала ничего говорить. Она не боялась катастрофы. Она только чувствовала себя униженной мальчишеством отца и тем, что Зара снова начинает вертеть им. Зара собиралась ехать с ним дальше на юг, в Салоники, а может быть, и в Афины, по все-таки это было лучше, чем если бы они показывались вместе в Софии или Варне. Если они поедут в Грецию, Мария останется в городке, чтобы отдохнуть в одиночестве в том доме при складе, который она смутно помнила с детства.
Зара придвинулась к папаше Пьеру и слегка касалась его плечом. Но вдруг она отшатнулась, испуганная подозрением, что Мария наблюдает сзади ее игру. Мария поняла и эту уловку, но притворилась, что ничего не замечает, и не только не рассердилась, по посочувствовала подруге. Зара показалась ей бесправной рабыней, выставленной на продажу на базаре и не имеющей права выбора. Всякий, у кого хватит денег, может ее купить. Голубой тюрбан, шоколадный цвет лица, приобретенный в Варне, и большие темные глаза придают ее красоте что-то пламенное, отчаянное и трагичное. Рабыня, ищущая себе покупателя. Не может ли Мария сделать что-нибудь для ее спасения? Поговорить с нею начистоту? Дать ей денег? Мягко посоветовать ей отказаться от тщеславия и расточительности, не брать такси, чтобы проехать от дома до кафе, не шить по пяти бальных платьев в сезон? Нет, советы не помогут. Зара одержима каким-то безумным легкомыслием, порожденным миром, в котором она живет. И это легкомыслие в сочетании с безденежьем обрекает ее на падение, на разврат, на унижения. Пройдет месяц, и она снова начнет заигрывать с каким-нибудь богатым пожилым мужчиной. Не все ли равно – с кем?
Но тем не менее Мария по-прежнему сочувствовала подруге. Зара не приобрела еще опыта на своем новом поприще и могла питать иллюзии относительно ее отца. Никому еще пока что не удавалось как следует ощипать папашу Пьера, и меньше всего могли этим похвастать женщины. Любовницам своим он давал, самое большее, дешевую трехкомнатную квартиру да не очень щедрое содержание, и то лишь пока длилась связь. При его богатстве это были пустяки. Вряд ли он будет более щедрым с Зарой; разве только она будет капризничать и ласкаться так талантливо, что сумеет вытянуть из папаши Пьера немного больше, как она умеет убеждать своего отца подписывать счета за ее платья.








