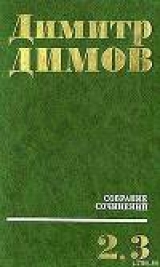
Текст книги "Табак"
Автор книги: Димитр Димов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 61 страниц)
Пока артиллерист предавался тревожным размышлениям о воспаленном глазе своей кобылы, в зал проникла собака сына депутата. Ее появление вызвало не гнев, а только веселое оживление. Она быстро обежала весъ зал, обнюхивая танцующих, потом, отыскав хозяина, покорно легла и свернулась у его ног.
– Это пятый кавалер в нашей компании! – промолвила дочь адвоката, поглаживая пса. – И надо думать, единственный, которого не свела с ума ваша Лила.
– Ты начинаешь терять чувство юмора, – заметил директор, устремив на нее серьезный взгляд.
– Зато приобретаю мудрость, – отпарировала она.
– На что тебе мудрость? – сказал директор. – Давай-ка чокнемся!..
Но дочь адвоката не стала с ним чокаться, а обернулась к инспектору.
– Вам тоже нравится Лила, инспектор? – презрительным тоном спросила она.
– Нет! – решительно ответил он.
– Льстец! – благодушно, но безошибочно определил кто-то из компании.
– Я сторонник свежего, но не первобытного, – заявил инспектор.
– Тогда идем танцевать! – предложила дочь адвока та. – Играют наше танго.
Инспектор поспешно встал. Настроение его сразу улучшилось. Он понимал, что дочь адвоката пригласила его лишь для того, чтобы позлить сына депутата или офицеров, и все же был на седьмом небе.
Тесно прижавшись друг к другу, они поплыли к танце.
Дочь адвоката сделала легкую гримасу: в благоухании духов и табачного дыма, распространяемом парадной формой инспектора, ее вздернутый носик почуял слабый, еле уловимый запах карболки – запах участка и подвала, в котором пытали Варвару.
После облавы в рабочем квартале воцарился страх. Безработица и голод временно отступили на второй план. Мужчины угрюмо здоровались друг с другом, женщиеы перестали ссориться по пустякам, дети притихли. На всех лицах было написано «провал» – слово, означающее аресты, допросы, избиения, разгром целой партийной организации – всего, что было создано. Распространялись разные слухи: одни говорили, будто во время облавы какая-то женщина была застрелена при попытке перейти вброд реку; другие, наоборот, утверждали, что ей удалось скрыться. И только немногие, получившие сведения из партийных источников, узнали, что случилось самое страшное: ее задержали и подвергли зверским истязаниям в полиции.
Круглые сутки по узким уличкам рабочего квартала сновали конные патрули в касках и блестевших под дождем резиновых плащах. Безработные часто собирались небольшими группами на перекрестках. Между ними и патрульными возникали перебранки.
– Эй вы, сукины дети! – кричали патрульные. – Опять собрались?
– А что?… Разве запрещено разговаривать? – спрашивали рабочие.
– Разойдясь, а то всех заберем!
– Забирай, коли стыда нет! – возражал какой-нибудь щуплый старенький тюковщик с пожелтевшим лицом.
Патрульные, угрожающе подняв плети, наезжалп на людей.
– Болтай там! Тоже философ!
Народ расходился, не торопясь, как будто по собственному желанию. Патрульные грубо понукали людей, но никого не били. Какая-то неведомая сила заставляла их в отсутствие начальства исполнять своп обязанности спусти рукава. Все они были выходцы из голодных горных селений, где па тощих полях над осыпями вызревали только рожь да гречиха.
Общинное управление вздумало расширять водопроводную сеть – и как раз когда пошли дожди. В квартале появились какие-то неизвестные люди и начали рыть траншею, браня полицию и настойчиво стараясь завязать разговор со складскими. Те отворачивались от них с презрением, сразу поняв, что это провокаторы. Землекопы ушли, не закончив работы, и ни один техник не явился, чтобы исправить водоразборную колонку.
Но оторопь и оцепенение, охватившие рабочий квартал в первые дни после облавы, были только кажущиеся. Немедленно пришли в действие скрытые партийные резервы, были нанесены контрудары, назначепы лица, которым предстояло заменить теперешних руководителей в случае их ареста. Антиправительственная агитация усилилась, причем ее вели люди, которых до сих пор и не подозревали в принадлежности к коммунистической партии. Все активисты получили от инспектора приказ утром и вечером приходить расписываться в околийское управление. Полиция производила ночные проверки в их домах. Инспектор хотел во что бы то ни стало найти виновников. Но активисты не поддались панике. Ни один из них не скрылся, не перешел на нелегальное положение, так как это могло навести инспектора на след.
Пока активисты послушно и аккуратно расписывались в участке, в разных местах происходили события, от которых у околийского начальника глаза на лоб лезли. Кто-то поджег сено, купленное с торгов полицейским эскадроном у одного из местных кулаков. Правда, это сено не вывезли в город и не заприходовали, поэтому убыток понес продавец. Но самый факт произвел сильное впечатление. На стенах домов и учреждений появлялись дерзкие коммунистические лозунги, причем их трудно было стереть, так как они были написаны масляной краской или выцарапаны большим гвоздем на штукатурке. Однажды утром на крыше гимназии все увидели красный флаг. Неуловимые ремсисты подбрасывали во дворы листовки с воззваниями.
– Все ваши труды насмарку, господа, – видно, не там копаете! – язвил кмет по адресу околийского начальства.
В город прикатил на автомобиле начальник областного управления. Это был важный надутый толстяк, который слушал доклады, погрузившись в загадочное молчание, чтобы вызвать у подчиненных трепет, необходимый для поддержания дисциплины. Перекусив и хорошенько отдохнув в доме первого здешнего адвоката, он созвал на совещание представителей местной администрации. Полицейский инспектор, со свойственной ему хитростью и умением уклоняться от ответственности, умыл руки, объяснив царящее в околии нервное напряжение прочесыванием рабочего квартала, произведенным но приказу околийского начальника.
– Я был против этой облавы, – заявил он. – Не следовало ради задержания какого-то незначительного коммунистического активиста возбуждать и дразнить восемь тысяч рабочих – ведь в зимнее время они особенно раздражительны… Борьба против коммунистов требует большого такта.
Околийскнй начальник – вспыльчивый майор запаса, дрожащий за свое место, – злобно перебил его:
– Что вы называете тактом?… Бездействие и танцы в клубе?
– Нет! – холодно ответил инспектор. – Такт – это продуманность действий и их целесообразность. А что касается танцев в клубе, – добавил он с легкой снисходительной улыбкой, – то они не более предосудительны, чем ежедневное посещение пивной «Булаир».
– Я требую, чтобы вы объяснились! – вскипел майор запаса.
– Вам объяснят в другом месте, – отрезал областной начальник.
И снова погрузился в загадочное молчание.
Результатом этого молчания был присланный в город спустя два дня длинный циркуляр, в котором областной начальник давал указания, как поддерживать порядок is околии. Написанный высокопарным казенным слогом, он был похож на программную речь нового премьера л содержал скрытые угрозы по адресу рабочих.
Околийский начальник перестал беспокоиться за свое место и стал по-прежнему просиживать вечера в пивной «Булапр», а полицейский инспектор сшил себе штатский костюм и в нем продолжал посещать танцевальные вечеринки в военном клубе.
Лила со дня на день ждала ареста. Она уже обдумала, как ей вести себя: она будет категорически отрицать свое участие в какой бы то ни было партийной деятельности и связь с кем бы то ни было. За ее спиной – городской комитет, Реме, вся система партийных ячеек в квартале и на табачных складах. Провал необходимо предотвратить – хотя бы ценой неописуемых мук, ценой полного самоотречения.
В эти тяжелые дни она большей частью сидела дома. Ходила только расписываться в участок да в читальню за книгами. Она читала с утра до вечера, сидя у окна, пока ссиый свет ненастного зимнего дня не превращался в ночной мрак, потом зажигала лампу и брала в руки вязапье. Вздрагивала, услышав шаги случайных прохожих. Ночью просыпалась от малейшего шума и в испуге думала, что вот уже идут ее арестовывать. Но первый приступ страха переходил в холодное спокойствие, мрачное волпепие – в уверенность в себе, рождающую надежду на жизнь. Однако из этой надежды, возвращавшей ее к обычному состоянию, снова рождался страх. Ведь волю Варвары в любой день, час, минуту могли сломить, а героизм мог обернуться предательством.
Но время шло, колебания между страхом и надеждой продолжались, а ничего особенного не происходило. Выпал снег и опять растаял, превратив улички в канавы, полные грязи и мутной воды. Короткие декабрьские дни перемежались длинными тревожными ночами. Утро начиналось белесым рассветом и густым туманом, который к обеду рассеивался, а к вечеру сгущался снова. Накопленные за лето деньги подходили к концу. Семья Шишко начала экономить провизию и топливо. Лила похудела, осунулась. Женственная мягкость, которая светилась в ее глазах и звучала в голосе, когда она разговаривала с родителями, теперь, казалось, исчезла навсегда. Она говорила мало, отрывисто, четко. Черты ее бледного лица застыли в неподвижном, ледяном напряжении, глаза глядели пронизывающе.
Мать Лилы бродила печальной тенью. Она то и дело жаловалась, все к чему-то прислушивалась, тихонько проклинала полицию и хозяев. Л то вдруг начинала суетиться, прибирать в доме или чистить и штопать одежду Лилы, как будто дочь превратилась в беспомощную маленькую девочку и не в состоянии была делать это сама. Шишко похудел, стал нервным и раздражительным, ссорился со своим шурином – социал-демократом. Его мучил страх потерять единственное свое дитя. Шурин понимал это и, хоть и спорил с Шишко о политике, терпеливо продолжал давать ему работу в своей мастерской.
Однажды вечером партийная разведка сообщила, что Варвара выдержала пытки и отправлена в Софию. Лила долго напряженно думала о ее безмолвном героизме. Она вздохнула свободней, но не ослабила бдительности, хотя и не торопилась наладить связь с товарищами из городского комитета. Опасность отдалилась – и только. Лила продолжала ждать ареста, но теперь уже привыкла думать о нем без дрожи и справляться с приступами мучительного страха. Напряжение этих дней породило в ее душе нечто новое, что еще не было ей свойственно, – холодную готовность ко всяким испытаниям.
Когда обстановка стала чуть спокойнее, она через заслуживающих доверия соседей установила связь с легальным товарищем из городского комитета. Товарищ этот, отставной чиновник налогового управления, догадался прийти к ней сам в сопровождении носильщика, тащившего жестяную печку, которую Шишко якобы должен был починить. Лила передала гостю сообщения областного комитета.
Товарищ из городского комитета печально покачал головой.
– Плохо!.. – промолвил он. – Кому нужны теперь эти сообщения?
Из-за них-то все и произошло. Товарищи наверху ссорятся, играют в исключения из партии, а мы тут страдаем…
– Оставим это, – сказала Лила, поняв, что товарищ из городского комитета разделяет взгляды Заграничного бюро и Павла. – Здесь арестованная устояла, но неизвестно, будет ли она молчать и в Софии…
– Раз выдержала здесь, выдержит и там, – отозвался он.
– А если все-таки выдаст меня? Не лучше ли мне временно перейти на нелегальное положение?
– Нет! – возразил пожилой товарищ из городского комитета. – Перейдя на нелегальное положение, ты сама признаешь себя виновной, а твоего отца забьют до смерти… Не надо убегать от опасности – держись до конца, и все!.. Нелегальных и так много. Партия не успевает находить им квартиры.
– А если меня арестуют?
– Все отрицай… Это единственный способ спастись самой и спасти лас.
Он испытующе посмотрел на Лилу. Голубые глаза ее ледяным блеском выразили суровое молчаливое согласие.
– Когда вы осуществите решение относительно Степана и Макса? – спросила она, помолчав.
– Там видно будет, – уклончиво ответил товарищ из городского комитета и нахмурился. – Макс и Стефан хорошо работают здесь, в городе… У нас есть дела поважнее, чем потакать прихотям Лукана.
– При чем тут прихоти Лукана, товарищ? – резко прервала его Лила. – Как можно так говорить? Речь идет партийном решении, которое мы должны выполнить. Пожилой товарищ бросил на нее строгий взгляд. В его морщинистом лице, седых бровях, ясных, хотя и старческих глазах были достоинство и гнев, которые привели ее в смущение.
– Не читай мне нотаций! – промолвил он. – Лукан – это еще не партия… Я всегда буду так говорить. Партия существовала прежде, чем родился Лукан, и мы с твоим отцом принадлежим к здешним ее основателям! Так что о партии ты не беспокойся. Я о ней думаю побольше тебя. Лила покраснела.
– Не думал я, что ты так смотришь на проблемы, о которых мы спорим, – сухо добавил он.
Лила опять покраснела.
– Из-за Павла Морева? – гневно спросила она.
– Из-за партии! – спокойно ответил товарищ из городского комитета.
Через несколько дней инспектор отменил свой приказ активистам расписываться в участке, и напряжение ослабело. Рабочий квартал постепенно успокоился. Снова на первый план выступили повседневные заботы о пище, о топливе, о том, чтобы найти хоть какую-нибудь работу. Активисты возобновили свою деятельность, которая, подобно кислоте, медленно, но верно разъедала устои старого мира. Зато прекратились дерзкие коммунистические вылазки в центре города. У полиции были теперь лишь мелкие неприятности с листовками и происшествиями в гимназии.
Прошел почти месяц после облавы, а Лила по-прежнему вела себя очень осторожно. Она не встречалась с товарищами из городского комитета – только с активистами, работавшими на складах. Может быть, Варвара выдала ее, а полиция ничего не предпринимает по каким-то своим соображениям. Может быть, инспектор пользуется тактикой «щупалец» – сам молчит и при помощи провокаторов наблюдает за людьми, с которыми Лила встречается чаще всего. Но и эта опасность отпала. Мало-помалу Лила убедилась, что агенты не следят за пей непрерывно, а когда начинают следить, делают это до смешного неловко. Все это придало ей смелости, и она пошла на встречу с Иосифом, которая рассеяла последние ее тревоги.
Встреча состоялась зимним вечером в районе вокзала. Дул ледяной ветер, вид пустынных улиц наводил уныние и тоску, на черном небе поблескивали холодные звезды. Узнав друг друга при свете уличного фонаря и удостоверившись, что никто за ними не следит, Иосиф и Лила пошли навстречу друг другу. Лила дрожала от холода в своем легком пальтишке, а Иосиф был в теплом пальто па меху и меховой шапке. Агроном по специальности, он работал в министерстве земледелия, используя свои командировки в эти места для партийной работы. У него были крупные черты лица, глаза как миндалины и толстые губы. Щеки его казались сизыми от густой черной растительности, хотя брился он каждый день. Он всегда хмурился, удрученный боязнью ареста и разными служебными заботами. Лила пошла рядом с ним.
– Угрозы провала нет, – лаконично сообщил он, – Варвара па свободе… Товарищи организовали ее лечение.
– Вы уверены, что она никого не выдала? – осведомилась Лила.
– Уверены. Арестов нет.
– Здесь тоже, но тревога была большая.
Иосиф промолчал. Он выплюнул погасший окурок сигареты и сейчас же закурил другую.
– Мы тут на волоске висели, – сказала Лила.
– Ладно, довольно плакаться, – грубо оборвал ее Иосиф. – Всюду опасно… Ты что думаешь – по головке вас будут гладить?
– Этого я не думаю, но скажи товарищам, чтобы лучше выбирали, кого посылать… Зря здоровье Варвары погубили.
– Мы знаем, что делать. Ты сообщила решение о Стефане и Максе?
– Сообщила.
– Выполнили?
– Вероятно.
– То есть как – вероятно?… Да или нет?
– Ах, боже мой, неужели это самое главное, что тебя должно интересовать у нас? Я из-за всех этих событий не виделась с товарищами из городского комитета.
– Значит, дрожишь от страха и не интересуешься партийной работой?
Голос Иосифа звучал сердито, сурово.
– Послушай, – тихо сказала Лила. – Ты невозможный человек. Этак ты ни с кем не сработаешься… Я прошу, чтобы меня освободили от связи с тобой.
– Сообщу товарищам об этом твоем капризе.
Теперь в его голосе слышалась злость. Он расстегнул шубу и стал что-то искать во внутреннем кармане пиджака.
– У тебя есть еще что-нибудь для меня? – сухо осведомилась Лила.
– Есть.
Опасливо оглянувшись по сторонам, он сунул ей в руку несколько свернутых листов бумаги.
– Что это?
– Директивы о подготовке к стачке. Написаны симпатическими чернилами. Пускай как следует изучат и сейчас же уничтожат.
Лила сунула листки в карман пальто. Иосиф сообщил коротко и точно дату, место и пароль следующей явки, потом сразу отошел от Лилы и направился в гостиницу. Даже «до свидания» не сказал.
От вокзала донесся свист паровоза; где-то лаяли собаки; стекла в окнах ближней корчмы запотели, за ними гнусаво скулил старый патефон.
Лила шла домой, крепко сжимая в кармане листочки с директивами о стачке.
Опять наставления, опять бумажные подробности, опять мертвые, строгие, мелочные правила, точно устанавливающие, с кем работать, с кем – нет!.. Опять недоверие к каждому, кто критикует идейную платформу стачки, кто предлагает новый способ действия, кто заходит в корчму, ухаживает за девушками, бывает на вечеринках… Как будто тому, кто стремится бороться за коммунизм, надо сначала отказаться от всех радостей, повернуться спиной к жизни и взять твердый, прямой курс на смерть!..
Лила понимала, что преувеличивает и раздувает свои опасения, но в душе ее все-таки разгорался неясный протест против этих бумаг, которые она сжимала в руке, против хмурого Иосифа, против невидимого и таинственного Лукана, который без устали приказывает, напоминает, проверяет, карает по самым неожиданным, пустяковым поводам. Что-то в партии не в порядке! Что-то отдаляет ее от жизни, от людей, от потребностей борьбы, от самой основы марксистско-ленинского учения!.. Что же именно? Лила старалась, но не могла понять. Она видела только конкретные проявления всего этого, но была не в состоянии добраться до источника ошибок, до их первопричины. Может быть, Павел прав?… Может быть, Центральный Комитет действительно извращает большевистские принципы, ставит перед партией невыполнимые в данных условиях задачи, распыляет ее силы, посылает ее па бесполезную и гибельную борьбу, ведет ее к полному отрыву от масс?… Может быть, товарищи из высшего руководства и впрямь узколобые сектанты, неспособные мысленно охватить всю сложность жизни, осознать важные и существенные явления действительности? Может быть, они в самом деле слепые фанатики, лишь подающие пример героизма, но не умеющие добиваться реальных завоеваний в борьбе?… Может быть, в самом деле неправильно порывать с Заграничным бюро? Ведь даже самым простым, необразованным членам партии ясно, что стачка не может приобрести массовый характер, если она не будет подготовлена и проведена на основе широкой идейной платформы. Старшие товарищи, основавшие партию в тесняцкие времена, люди, обладающие большим опытом и закаленные в борьбе, мало-помалу отходят от партийной работы, так как не могут согласиться с директивами, исходящими от высокомерных и хмурых молодых людей, которые презрительно называют старших «тесняками». У Павла – заслуги в прошлом, блестящий ум и способность разбираться в сложных вопросах, однако он исключен из партии за то, что пошел против Лукана. До недавнего времени выдвигался лозунг, требующий «давать отпор» полиции – отпор героический, но бесполезный. Кому это нужно?… Как будто цель борьбы в том, чтоб бить себя кулаком в грудь. А ведь эта манера – попусту бить себя в грудь – еще чувствовалась в подготовке, в выполнении и последствиях каждого выступления!
Лила вздохнула. Того пути, который указывали Павел и Заграничное бюро, она тоже не видела ясно. Павел улавливал что-то такое, что уже вырисовывалось в действительности и брезжило в сознании рабочих, но не умел этого выразить убедительно. Мысль его билась вокруг волнующих но лишенных конкретности общих положений. Широкая идейная платформа как основа стачки… Но какая? До чего трудно делать уступки, не нарушая в то же время генеральной линии партии! Искать союзников – но каких?… Имеет ли смысл коммунистам устанавливать связь с членами Земледельческого союза, с широкими социалистами и анархистами, которые неизвестно как будут действовать завтра?… Экономить силы, но как?… Можно ли вести энергичную борьбу без жертв, без крови и столкновений?… Нет, Павел тоже блуждает по бездорожью!.. Может, он в самом деле хочет оттеснить от руководства заслуженных товарищей, толкнуть партию на путь наименьшего сопротивления, разрушить ее единство? Но тут же все это, по-казалось Лиле чудовищным, невозможным.
Она шла по безлюдным улицам, по обледенелому, скользкому тротуару. Шаги ее одиноко звучали в морозном воздухе. Опасность ареста, призрак пыток исчезли, но в душе ее возникло глубокое и тяжкое раздвоение, казавшееся ей более мучительным, чем недавняя тревога. Ее сердили директивы Лукана, грубость Иосифа, недоверие к Максу и Стефану. Смущали исключение Павла, разговор с пожилым товарищем из городского комитета, наивные, но исполненные здравого смысла вопросы рабочих. В этих вопросах, касающихся самых незначительных будничных дел, угадывались требования, противоречащие директивам Лукана и полностью совпадающие с предсказаниями Павла. Лила уклонялась от этих вопросов, напускала туману, ловко и коварно замазывала своим красноречием острые углы. Разве это честно? Лила опять вздохнула. Ее внутреннее раздвоение все углублялось.
Ветер утих, но мороз крепчал. На город медленно спускалась прозрачная мгла. Невидимые капли ее образовали вокруг уличных фонарей светлые круги всех цветов радуги. На чистой белизне снега резко выступали тени, словно отброшенные на киноэкран, и в этой резкости была какая-то пустота и холодная тоска, навевавшие безнадежность. Руки и ноги у Лилы окоченели. Она вечно страдала от тревоги, недоедания, нехватки теплой одежды, и потому зима была для нее самым тяжелым временем года. «Скорей бы весна!» – подумала она в смутном порыве, на миг забыв о вопросах, постоянно угнетавших ее.
Она попробовала согреться, ускорив шаги, но поскользнулась и чуть не упала. Путь ее шел через один из богатых: кварталов города. Из окон новых домов лился мягкий, теплый свет. За кружевными занавесками были видны уютные комнаты с буфетами, картинами, большими оранжевыми или зелеными абажурами, под которыми хорошо одетые дамы читали в тепле книги, а мужчины развертывали вечерние газеты. Из этих окон приглушенно доносились беззаботный смех, знакомый голос диктора, звуки танцевальной музыки. Большой грузовик вывалил несколько тонн крупного блестящего каменного угля перед домом, где жил районный эксперт «Эгейского моря». Молодая женщина в вуалетке, меховой шубке и высоких резиновых ботиках возвращалась домой, сделав покупки, а за ней шла служанка с сумками, набитыми икрой и маслом для бутербродов, орехами, сахаром и шоколадом для завтрашнего торта.
Вид этой женщины и кучи угля снова заставил Лилу почувствовать, как беспросветна нищета, в которой прозябал рабочий люд. Холод показался ей еще более свирепым, бедность еще более жестокой, несправедливость еще более унизительной. Ее пронизывал туман и стало поташнивать от куска соленой пеламиды, съеденной за обедом. Денег в доме едва хватит на несколько недель, а потом начнутся мучительные поиски хоть какой-нибудь работы. Рабочие – в том числе она, Лила, – живут в трагическом одиночестве!.. Лукан нрав: партия не должна свертывать с того пути, по которому шла до сих пор, – пути суровой, непримиримой, беспощадной борьбы! Не надо широких платформ, сложных компромиссов, подозрительных союзников!.. Не надо интеллигентов – таких, как Павел, Стефан и Макс, как пожилой товарищ из городского комитета, толкающих партию на путь оппортунизма, расшатывая ее дисциплину, разрушая ее единство!..
Так рассуждала Лила, ежась от стужи, проходя сквозь свет и тени морозного вечера. К этим мыслям ее толкали теперь холод, терзавший ее плохо одетое тело, кусок соленой пеламиды, весь день заставлявший ее пить воду, крупный блестящий уголь, привезенный табачному эксперту, и довольство той женщины, которую она встретила. Чувства ее были заняты только царящей в мире неправдой. Она не понимала, что борьбу против неправды надо вести одновременно многими средствами и разными способами и что борьба должна быть гораздо более широкой, гибкой и разносторонней, чем этого требуют схемы Лукана. Выйдя на Базарную улицу, Лила направилась в слесарную мастерскую дяди. Еврейские лавочки вокруг были заперты и темны, но в окне мастерской еще горел свет. Лила открыла дверь и заглянула внутрь. Ученики и дядя уже ушли. Мастерская помещалась в длинной узкой комнате, по степам которой были развешаны инструменты. В глубине, присев на корточки возле бойлера, работал Шишко.
– Папа, ты еще не идешь? – спросила Лила.
– Придется задержаться, надо починить эту штуковину… Входи!
Лила затворила за собой дверь.
– Ну что? Повидалась? – тихо спросил он.
– Все в порядке. В Софии арестованную освободили.
– Слава богу, – вздохнул Шишко. – Я, сказать по правде, совсем измучился! Очень беспокоился весь этот месяц…
– Что поделаешь, – тихо отозвалась Лила. Потом добавила громко: – Так я пойду…
– Ступай! – Шишко снова присел на корточки возле бойлера и принялся что-то разглядывать. – Послушай! – вдруг вспомнил он. – У Симеона сноха рожает, мать пошла к ним – принимать… Дома никого нет.
– Знаю, – сказала Лила.
– Затопи печку. Уголь есть?
– Есть, но я думала Симеону отнести.
– Ты о них не беспокойся. Блаже, наверное, им уже купил. Затопи печку и читай в тепле. Завтра получу деньги за бойлер и привезу еще сто кило.
Лила опять собралась уходить, но Шишко еще раз остановил ее.
– Слушай! Ты пеламиды больше не ешь. Она, говорят, испорченная… К нам всегда падаль везут. Лавочник ее из-под полы купил, по дешевке, и ветеринар составил акт.
– Я ее выкину.
Лила пошла домой. Туман сгустился. Базарный день угасал в освещенных корчмах постоялых дворов, в которых подвыпившие крестьяне играли на волынках и тамбурах. Из конюшен, где стояли распряженные волы, шел теплый влажный запах сена и навоза. Запертые на замок темные еврейские лавчонки молча притаились, а над ними кротих хозяев. Мелкие еврейские ремесленники строили себе дома в торговых рядах с таким расчетом, чтобы первый этаж служил мастерской, а второй – жильем. За окнами этих жилищ коротали свой замшелый век люди, из среды которых порой смело вырывались на волю молодые ремсисты. Миновав торговые ряды, Лила пошла по узким уличкам рабочего квартала. Почти все его низкие, вросшие в землю домишки были уже темны: рабочие, экономя уголь, ложились рано. Над рекой навис густой туман; в морозной тишине глухо раздавался стук топора: кто-то колол дрова. Свернув на свою уличку, Лила вдруг заметила силуэт высокого мужчины. Человек стоял прямо перед ее домом и в свете уличного фонаря четко выделялся на молочно-белом фоне тумана. Незнакомец был в шляпе и модном пальто в талию. «Длинный!» – с негодованием подумала Лила. Несколько минут она стояла с бьющимся сердцем, потом, придя в себя, вошла в соседний двор и спряталась за сараем. До нее донеслись звонкие удары: незнакомец стучал в оконное стекло. Постучав несколько раз и не получив ответа, он пошел по улице. Звук его шагов по скованной морозом земле слышался все отчетливей. Путь его лежал мимо сарая, за которым притаилась Лила. Как только он поравнялся с сараем, Лила узнала его. Это был Павел. И тогда она, сама того не желая, тихим, глухим от волнения голосом окликнула его.
Он обернулся. Она вышла из-за сарая и спросила:
– Зачем ты сюда пришел?
– Я хотел тебя видеть.
Они безотчетно сжали друг другу руки. Но она первая овладела собой и промолвила враждебно:
– На что тебе видеть меня?… Ведь я дура, я ничего не понимаю…
– Пойдем к вам!
– Дома никого нет, – холодно проговорила она.
– Именно поэтому, – настаивал он. Пока Лила отпирала дверь, он низким, упавшим голосом глухо произнес:
– Меня исключили из партии. Ты уже знаешь?
– Знаю, – ответила она.
Когда они вошли в комнату, он снял пальто и сел на стул, а Лила принялась растапливать печку. Глядя на Лилу, Павел думал, что не напрасно пришел он сюда искать убежище от гнева и чувства пустоты, которые так угнетали его. Он был знаком со многими женщинами, но ни одна из них не обладала удивительной гордостью этой замкнутой и несколько холодной девушки. У многих были правильные черты лица, русые волосы и светлые глаза, но ни у кого не было такой нравственной силы, а духовный облик не соответствовал так полно идее, за которую они боролись. Лила виделась ему неотделимой частью этого терзаемого нищетой рабочего квартала, этой убогой каморки с железной печкой и дощатыми кроватями, покрытыми козьими шкурами и грубошерстными одеялами. Ему показалось, что ее старая юбка, вылинявший свитер, осунувшееся лицо являются воплощением мук, забот и надежд тысяч рабочих, ожидающих конца зимы, чтобы снова начать тяжелую, изнурительную и скудно оплачиваемую работу на табачных складах. И все-таки трудная жизнь не огрубила ее внутреннего облика, не помешала ей стать образованным и мыслящим человеком. Ему показалось, что эта девушка, похожая на цветок, выросший среди жестокой бедности и лишений, вобрала в себя все самое здоровое, жизнеспособное и прекрасное, что есть в рабочем классе, а красота ее так одухотворена потому, что эту девушку никогда не развратяг расчетливость и пороки враждебного мира. И в то же время ему показалось, что в Лиле есть что-то недосягаемое, нереальное, призрачное, словно видение будущего, которое вот-вот развеется, оставив после себя лишь тоску по недостижимому.
Но тут же он понял, что все в ней реально – от ее светлой, нежной, как бы акварельной красоты до той резкости, с какой ее ум и воля умеют ранить человека. Стоя на коленях возле печки, она дула на хворост, и рдеющие угли окрашивали напряженные черты ее лица красноватым светом, превращая ее густые волосы в жгуты золотой пряжи. В ее прямой спине, крепких плечах и округлых бедрах была какая-то сила, неотразимо привлекательная и заполнявшая пустоту его души таким волнением, что он опять почувствовал, как необходимо было ему прийти к пей.
Пламя вспыхнуло, и печка загудела. Лила поднялась. Павел ждал, что на лице ее будет написано такое же волнение, какое испытывал он сам, но увидел только сжатые губы да холодные глаза, испытующе впившиеся в пего. Трепет, с каким она пожала ему руку в первую минуту встречи, исчез. Он с горечью осознал, что между ними стена – и стена эта воздвигнута уже не их разногласиями в вопросе о курсе партии, а его исключением из рядов партии.








