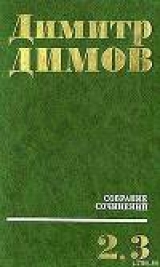
Текст книги "Табак"
Автор книги: Димитр Димов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 61 страниц)
– Может, вы сам хозяин?
– Нет, не хозяин. Хозяин «Никотианы» водится только с министрами да с богачами. – И брюхо нового генерального директора фирмы «Джебел» тряслось от смеха.
Разыгрывая крестьян, директор тем самым скрывал от конкурентов свой объезд табачных плантаций.
– А это чей участок? – продолжал любопытствовать директор «Джобела», указывая на соседнее поле, еще более запущенное.
– Санде Попадиина.
– А он куда запропастился?
– Убежал в горы, вата милость… к партизанам подался.
– Да что ты говоришь!
– Так-то!..
И крестьянин, напустив на себя негодование и озабоченность, со злорадством наблюдал, как тревога пробегает по лицам этих толстых клещей, пьющих кровь средорекских крестьян.
Однажды в жаркий июньский день Динко отдыхал после обеда в тени вязов на краю своего поля. Все утро он без передышки рыхлил табак под палящими лучами солнца, потом перекусил брынзой с хлебом, принесенными из дому, и ненадолго забылся сном. Когда он проснулся, жара уже спала. Красноватые, засаженные табаком холмы ярко выделялись на лазурном небе. Вокруг было тихо и грустно; па полях люди уже снова принялись за работу. Дин ко вздохнул, словно ему не хватало воздуха; на самом же деле его угнетали тоска и вынужденное бездействие. Боевой группе, организованной в деревне, не хватало оружия. Попадиин, узнав, что ему грозит арест за антинемецкие разговоры, бежал из села. С собой он захватил только одну гранату и ржавый солдатский штык.
Динко потянулся, чтобы размять свое сильное тело, взял мотыгу и, погруженный в тягостные мысли, не спеша направился к своей полосе, решив еще немного поработать. Заботиться о табаке не имело сейчас для него никакого смысла, но работа помогала убить время и отвести подозрения старосты. Участок находился по другую сторону ложбинки с вязами и поднимался на вершину холма, где Динко работал только рано утром или под вечер, когда солнце не так сильно припекало. Противоположный склон холма был покрыт каменистой осыпью. Тут петляло шоссе, ведущее в город через Средорек.
Поднявшись на вершину холма и посмотрев вниз, Динко увидел на шоссе крестьянскую девушку в белой косынке и с кувшином в руках. Это была его сестра Элка. Он сразу узнал ее по крупной фигуре и неуклюжей походке. Заметив брата, она прибавила шагу и быстро замахала чем-то над головой – книгой, газетой или письмом. Динко приободрился. Сестра несла свежую холодную воду, а может быть, и почту с известиями из города.
– Повестка… – крикнула она, подойдя ближе. – Тебе повестка, вызывают в казармы… И письмо от Ирины.
Динко охватила хмурая радость. Повестка означала конец вынужденному бездействию, а редкие письма Ирины всегда пробуждали в нем окрашенное горечью смятение чувств – тоску по ней, любопытство, волнение. Образ Ирины не угасал в его памяти. Она писала ему раз в два-три года, только тогда, когда надо было уладить в городе или деревне какие-нибудь дела, касающиеся отцовского имущества. Эти письма были ответом на его сухие напоминания о том, что надо выслать деньги для взноса налогов, если вырученной арендной платы на это не хватало. Обычно Ирина присылала сумму гораздо более крупную, чем требовалось, сопровождая ее обидной просьбой купить на оставшиеся деньги подарки бедным родственникам. Сама же она ни разу не потрудилась купить или выбрать эти подарки. То были преувеличенно любезные письма, в которых она с напускным интересом спрашивала о двоюродных братьях, дядюшках и тетках, хотя постоянно путала их имена и степени родства, потому что судьба родственников ничуть ее не волновала. Письма эти были кое-как нацарапаны прямым почерком на дорогой бумаге, причем Ирина старалась писать как можно крупнее, чтобы скорее исписать лист и отделаться от неприятной обязанности. Но даже такие письма разжигали в сердце Динко давнее чувство, уносили его мысли далеко от Средорека и его однообразной жизни.
Элка подошла к брату, вспотевшая и раскрасневшаяся от быстрого подъема по сыпучему обрыву. Как и Динко, она была хороша собой – рослая, светловолосая, синеглазая. Элка напоминала красивую, выносливую рабочую скотинку, и какой-нибудь деревенский бедняк мог бы полюбить ее так же горячо, как и свой клочок земли. Но у нее не было грации Ирины, только улыбка и ровные зубы смутно напоминали ее двоюродную сестру, горожанку.
– Откуда ты знаешь, что письмо от Ирины? – равнодушным голосом спросил Динко.
Он всячески старался скрыть свое волнение.
– Я сразу узнала. – Девушка поставила кувшин па землю, перевела дух и вытерла платком лицо. – Узнала по бумаге и по духам.
Динко взял письмо и повестку, которые Элка завернула в старую газету, чтобы не запачкать их потными пальцами. Аромат духов «Л'ориган», исходивший от конверта, сразу заглушил деревенские запахи земли, табака и выгоревшей на солнце травы. Это было благоухание далекого, недоступного существа из чужого мира, который вызывал у сестры удивление, а у брата – ненависть. Сначала Динко прочел повестку. Она была прислана из военного округа и не очень его удивила, так как он ждал ее со дня на день. Не успел он ее прочесть, как принял решение. Повестка стала для него сигналом к уходу в партизанский отряд. С завтрашнего утра, подумал он, для него начнется новая жизнь – кочевая, папряженная и опасная, но зато наполненная до краев, а этого ему как раз не хватало. Для него не было другого выхода, если он хотел остаться верным тому, о чем мечтал, что понял и ради чего жил до сих пор. Элка, словно отгадав его мысли, спросила робко:
– Что ты теперь будешь делать?
– Уйду в горы, – ответил Динко. – Что же еще делать?
– А мы с мамой?
– Сидите смирно. Я думаю, вас не тронут.
Элка заплакала, но Динко тут же одернул ее:
– Разревелась! А еще ремсистка!
Досадливо поморщившись, он вскрыл конверт с подкладкой. Письмо начиналось с обычных любезностей, затем следовали вежливые вопросы о здоровье родственников со знакомой путаницей в именах, которые Ирина так и не могла запомнить. Далее она кратко сообщала о своем внезапном решении продать отцовское хозяйство в деревне и уполномочивала Динко проделать это. «Я хочу вложить деньги в одно предприятие, которое быстро развивается, – писала она, – и думаю, что ты одобришь мое решение, тем более что дохода от двух участков и мельницы едва хватает на уплату налогов». В конце она приглашала Динко навестить ее, когда он приедет в Софию, и великодушно уверяла его, что хочет, чтобы родственники покойного отца ее не забывали.
Динко сунул письмо в конверт и погрузился в горькое раздумье. Да, она не изменилась – такая же неискренняя, чужая, совсем от них оторвавшаяся. Он вспомнил, что в гимназии, еще до того, как она продалась недосягаемому миру господ, она стыдилась своего родства с ним, Динко, презирала его деревенские царвули и домотканую полосатую сумку, в которой он носил учебники. И он вспомнил еще многое из своего детства – всякие мелочи, которые отдаляли от него Ирину и за которые винить приходилось лишь деревенскую бедность и невежество. Но сейчас эти воспоминания были смягчены глухой горечью его безнадежной любви.
– Что она. пишет? – спросила Элка.
Недавние слезы ее, вызванные тревогой за брата, осушило женское любопытство.
– Ничего, – ответил Динко.
Сочувственные взгляды сестры выводили его из себя. Глаза Элки спрашивали: «Значит, она до сих пор не дает тебе покоя, и ты не можешь ее забыть?» Динко спохватился, что резким ответом выдал свое волнение. Он попытался исправить ошибку, пробормотав презрительным тоном:
– Хочет продать свое хозяйство.
– Хозяйство?
– Да, хочет все продать.
– Как «все»? – взволнованно спросила Элка.
– Очень просто – все!.. Бахчу, оба участка и мельницу.
– А кто их купит?
Динко рассмеялся.
– Покупателей сколько угодно… Умные покупают, а таких дураков, которые продают, теперь мало. Деньги обесцениваются, и каждый старается превратить их в недвижимость. Впрочем, может быть, она и права. Ее мир идет к концу.
– Но ведь она умная и ученая, – ехидно заметила Элка.
Она никогда не упускала случая съязвить по адресу Ирины в присутствии брата.
– Это ее дело, – презрительно отозвался Динко. – Она, наверно, хочет вложить деньги в акции «Никотиапы».
– Акции? – переспросила Элка. – А что такое акции?
– В двух словах не расскажешь… Не твоего ума дело, – с досадой проговорил он. Потом продолжал более спокойно: – При помощи акций они распределяют прибыль.
– Кто «они»? – спросила Элка.
– Те, кто пот из нас выжимает. – В голосе Динко внезапно прозвучало ожесточение. – Торговцы, немцы, правительство, царь… Все, кто живет нашим трудом и презирает нас, как скот. Все, кого мы должны раз и навсегда вышвырнуть отсюда!
Динко поднял кувшин и выпил холодной воды.
– Ладно, занимайся своим делом! – спокойно сказал он. – Иди долгой и приготовь мне белье. А я подожду здесь ветеринара – надо посоветоваться с ним насчет коровы.
Он взглянул на часы. Из соседней деревни скоро должен был проехать участковый ветеринар, который обещал ему свой револьвер. Динко хотел принести в отряд оружие хотя бы еще для одного бойца.
Элка не торопясь пошла в деревню.
Немного погодя Динко увидел с вершины холма двуколку ветеринара, которая медленно ползла вверх по извивам шоссе. Динко спустился на шоссе и присел у обрыва, ожидая, когда двуколка покажется из-за поворота. Солнце уже касалось горизонта, и в его красноватых лучах растущие вокруг тысячелистник и молочай приобретали сочный зеленый оттенок. На полевых межах, в придорожных канавах, в одиночных кустах, разбросанных по осыпи, кузнечики затянули свою вечернюю песню, печальную и монотонную, как жизнь людей, которые выращивали табак. Время от времени поднимался легкий ветерок, теплый и сухой, колыхал стебли тысячелистника и приносил с собой дыхание выгоревшей на солнце травы, простора и раскаленной земли. Наконец из-за поворота показалась двуколка ветеринара, которую везла тощая казенная лошадь. Чтобы уменьшить груз, ветеринар слез и шел рядом с лошадью, глядя в землю, поглощенный своими заботами. Это был высокий худощавый молодой человек с длинными ногами и преждевременно состарившимся, изможденным лицом. II двуколка, и его старенький костюм, усеянный пятнами от лекарств, крепко пахли конским потом и креолином. После тяжелой работы со скотом эти запахи везде ему сопутствовали. В двуколке лежали сумка с инструментами, чемоданчик с вакцинами и каучуковый зонд, при помощи которого лошадям дают лекарства через нос. Динко спустился с обрывистого склона и подошел к ветеринару.
– Здравствуй, доктор!.. – сказал он.
– О!.. – вздрогнул от неожиданности ветеринар. – Это ты?
Пока он шагал рядом с лошадью, в голове у него толпились тягостные мысли – об околийском ветеринаре, который отравлял ему жизнь преследованиями, о старухе из соседней деревни, которую искусала бешеная собака, о вспышке сибирской язвы у рогатого скота на его участке, о безуспешной борьбе с чумой у свиней. Все эти проклятые болезни требовали карантинов, прививок, сводок, изнурительных объездов, постоянного напряжения, надоевших споров с хозяевами животных. Ветеринар вспомнил, как на днях он созвал в одной горной деревне собрание, чтобы рассказать крестьянам о борьбе с заразными болезнями животных, но увлекся и начал говорить о Советском Союзе. Вскоре он с неприятным удивлением обнаружил среди собравшихся старосту и понял, что тот непременно пошлет на него донос в. околийское управление. Вспомнил он, наконец, устало шагая рядом с двуколкой, и о тех бедняках, которые вот уже много часов ждали его с больными животными возле лечебницы. Больничный служитель сообщил ему по телефону, что в числе прочих животных привели лошадь с острым расстройством желудка. Желудок ей надо было тщательно промыть с помощью зонда, и за эту трудную, кропотливую работу ветеринар должен был приняться, несмотря на усталость, едва сойдя с Двуколки. Он думал и о многих других делах, с которыми ему никогда бы не справиться, если бы он не умел жертвовать собой, если б не любил крестьян, среди которых вырос.
– Прости!.. – сказал он. – Я запамятовал, что ты меня ждешь.
– Ничего. А ты не забыл захватить игрушку?
– Конечно, нет!
Ветеринар с опаской оглядел безлюдную дорогу, потом вынул из заднего кармана брюк револьвер и быстро подал его Динко.
– Берн… Наган старый, но стреляет хорошо.
– Дома посмотрю.
Динко поспешно сунул револьвер в карман.
– А я повестку получил, – сказал он.
– Гады! – выругался ветеринар. – Наверное, пошлют тебя в часть.
– Ты думаешь, так я и пойду? Сегодня же ночью двину в горы.
В глазах у ветеринара мелькнуло безмолвное восхищение. Он так взволновался, что у него перехватило дыхание.
– А как с оружием? – прошептал он наконец.
– Отберем у врага. Давай закурим.
– Не могу. Пациенты ждут. Проводи меня.
– Ладно.
Ветеринар взялся за узду и повел лошадь. Динко шагал рядом с ним. Солнце медленно скрывалось за горизонтом. Последние его лучи освещали холмы печальным красноватым светом. Немного погодя солнечный диск совсем исчез, и дымка на западе приняла фиолетовый оттенок. Над ядовито-зелеными табачными полями все так же звенела песня кузнечиков. В болотце возле реки заквакали лягушки.
– Сколько человек пойдет с тобой? – спросил ветеринар.
– Семеро.
– А сын Стоичко Данкина?
– Мы решили отправить его в военное училище. Через два года у нас будет верный человек с военным образованием. Передай это товарищам из околийского комитета.
– Хорошо, – задумчиво отозвался ветеринар. – Но неужели ты думаешь, что борьба так затянется?
– Да, борьба может затянуться, – ответил Динко.
Красноватый свет заката постепенно превращался в пепельно-серый полумрак вечера. Громада ближней горы потемнела, но зубчатые скалы на ее вершине все еще горели оранжевым пламенем. Нестройное кваканье лягушек слилось в громкий хор.
Друзья перевалили через холм и уселись в двуколку, которая легко и ровно покатилась вниз по склону. Когда они спустились в долину, сумерки уже сменились звездной ночью, а в воздухе запахло сеном. В темноте пролетали светлячки. Откуда-то доносилось мычание стада и лай собак. Запоздавшие пастухи покрикивали на овец, спеша загнать их в кошары. Динко вздохнул. Он почувствовал, что р этой тишине и просторе, в этом покое и мирном труде таится какое-то глубокое наслаждение, которое он ощущает в последний раз. На Востоке начиналась гигантская война, которая должна была перерасти в борьбу за новый мир. А этот новый мир мог подняться только из обломков разрушенного старого мира.
Вдали замерцали огоньки деревни. Вскоре Динко слез с двуколки, а ветеринар поехал дальше, в соседнюю деревню, где находилась его лечебница. На прощание молодые люди сердечно пожали друг другу руки. И тогда Динко снова почувствовал, что никогда больше не увидит этого человека, никогда не насладится покоем мирной жизни. Он понял, однако, что это не предчувствие, а страх – обычный, естественный, свойственный каждому жизнерадостному человеку страх смерти, и еще страх перед опасностями нелегальной жизни, которая начнется для него через несколько часов. Но он быстро преодолел этот страх.
Поздно ночью в роще па краю деревни собрались семеро мужчин и неторопливым шагом направились в горы. У них было только два револьвера и один карабин.
III
Единственным существом на свете, которое Борис по-прежнему любил и уважал, оставалась его мать. Видя ее, он с удовольствием представлял себе, какой путь он прошел в жизни, и часы, проведенные с нею, хоть и были омрачены ее тоской о Стефане, всегда были ему приятны.
Как-то под вечер она позвонила Борису из своего захолустного городка и попросила его непременно приехать. Борис согласился, хотя завтра днем ему надо было выезжать в Гамбург. В тот же вечер он сел в машину, приказав шоферу ехать побыстрее. Спустя полтора часа он уже подъезжал к родному дому.
Мать ждала его в садике. Только что прошел теплый весенний дождь. Воздух был насыщен ароматом цветущей сирени и роз. Борис почтительно поцеловал руку матери. Она чуть коснулась холодными губами его лба. До сих пор она не могла простить Борису, что он так равнодушно отнесся к участи Стефана.
– Почему ты сидишь в беседке? – спросил он.
– Дома никого нет, мне почему-то стало душно, дайка, думаю, подышу чистым воздухом.
Мать тревожно следила за полицейским, который лениво шел по улице, но Борис не заметил ее беспокойства.
– А где отец?
– Вчера уехал в Софию.
Борис поморщился. Поездки Сюртука в Софию всегда были связаны с какой-нибудь его очередной блажью.
– А меня не известил!.. – Борис почувствовал досаду. – Что ему там сейчас понадобилось?
– Да все с кметом препираются… Отец хочет продолжать раскопки римских бань – это в саду, около теперешних бань, – а кмет не позволяет копать, пока не кончится курортный сезон… И он прав!
– Конечно, прав! – согласился Борис. – А ты не пробовала образумить отца?
Мать рассеянно усмехнулась. Никто не мог образумить Сюртука. Вероятно, она так и сказала бы, но сейчас мысли ее были заняты другим.
– Совсем из ума выжил! – вспыхнул Борис – Надоело мне с ним возиться! В министерствах меня уже на смех поднимают… Весь мир содрогается – такие происходят события, – а старик занялся раскопками римских бань…
Полицейский прошел мимо, и лицо матери стало спокойным.
– И что это еще за новая мания – переводить учителей из гимназии в гимназию! – продолжал Борис. – Инспектора от него прямо стонут.
– Если ты уладишь дело с раскопками, он оставит учителей в покое, – проговорила мать.
– С ума спятил старикашка!
Борис ласково взял мать под руку, и они пошли к крыльцу. Солнце опускалось, прячась в оранжевых облаках. Невдалеке монотонно и тихо журчал ручей, сирень запахла еще сильнее.
– Как Мария? – спросила мать, когда они подошли к крыльцу.
– Все так же, – рассеянно ответил Борис. – Вчера ее увезли в Чамкорию… Надоела она всем.
Мать не отозвалась. Ей было стыдно. Стыдно, что человек, который сказал это, – ее сын.
Они вошли в столовую, мать повернула выключатель, и при свете люстры Борис прочитал на ее лице радость, тревогу и озабоченность. Темные глаза ее горели лихорадочным блеском, на увядших щеках проступили пятна неяркого румянца.
– Что с тобой? – спросил Борис.
Он смотрел на мать с суровым участием, готовый с гневом обрушиться на каждого, кто осмелился бы ее потревожить.
– Ничего! – загадочно улыбнулась мать.
– Зачем ты вызвала меня?
– Так просто! Долго не виделись. Захотелось поужинать вместе с тобой.
Борис продолжал порицать отца – теперь уже за патриотическое усердие, с каким тот старался очистить околию от учителей-коммунистов. В принципе Борис был не против этой кампании, но хлопоты, связанные с нею, не приносили дохода, и, следовательно, она была так же бессмысленна, как и раскопки римских бань. Кроме того, это озлобляло учителей, восстанавливая их против «Никотианы».
– Угостишь меня рюмкой коньяку? – попросил Борис, когда его раздражение улеглось.
– Нет! Сегодня не дам! – строго проговорила мать. – Погоди немного, потом я принесу вина.
– Ладно, – согласился Борис.
Снова на лице матери появилась загадочная улыбка. «Будет просить денег на приют», – подумал сын. На этот раз он решил расщедриться, чтобы доставить ей удовольствие.
– Как поживают твои сиротки? – Борис сделал вид, что случайно вспомнил о сиротах.
– Как всегда… Грустные они, бедняжки, и такие милые.
– Может, им чего-нибудь надо?
– Пока нет.
Борис был озадачен. Мать перевела разговор на ого торговые дела в Беломорье. Она накрыла стол белой скатертью и стала доставать посуду из буфета.
– Зачем ты так хлопочешь? – спросил Борис. – И куда делась горничная?
– Я отпустила ее на несколько дней.
– А кто же делает все по дому? – рассердился Борис. – Ты совсем не бережешь свое здоровье!
Он закурил сигарету и стал внимательно всматриваться в хлопочущую мать. В каждом ее жесте проглядывало волнение.
– Зачем ты ставишь третий прибор? – вдруг спросил он.
Мать не ответила. Лицо ее порозовело. Она легко вздохнула и вдруг упала на стул, как будто ноги у нее подкосились. Борис вскочил и бросился к ней на помощь. В это время дверь из кабинета Сюртука распахнулась и чей-то голос громко и звучно воскликнул:
– Добрый вечер, братишка!..
На пороге стоял Павел.
Борис смотрел на него, онемев от изумления.
Первым его чувством был страх. Этот страх был вызван тем, что Павел явился неожиданно, словно привидение, и что пришел он из мира, который молотит немецкую армию на Востоке, рвет ее на куски и перемалывает, не зная ни устали, ни жалости. Это был душевный и физический страх генерального директора «Никотианы» перед Советским Союзом, перед болгарскими рабочими и крестьянами, перед собственным братом – коммунистом. Страх его вспыхнул внезапно и превратился в леденящий ужас. Борис содрогнулся и побледнел.
Павел шагнул в комнату. Он почти не изменился – был все такой же высокий, широкоплечий, с черными блестящими волосами, зачесанными назад. Только черты лица его заострились и стали более суровыми, а кожа покрылась медно-красным загаром. На губах его играла еле заметная насмешливая улыбка.
– Ну что? – весело спросил он. – Испугался малость, а?… Но хватало только, чтоб ты и правда испугался… Здравствуй!
– Здравствуй!.. – Голос Бориса звучал хрипло, радость ого была явно притворной. – Мама, коньяку! – обратился он к матери.
– Какой еще коньяк? – прогремел баритон Павла. – Ведь ты обещал не пить!
– Не могу, разволновался… Без коньяка мне сейчас нельзя.
– Вот как? До чего ж ты докатился! – Павел бросил на пего строгий взгляд. – Мама, так и быть, давай коньяк! Чокнемся все трое.
Мать сидела, не в силах сдвинуться с места, и молча смотрела па встретившихся братьев. Очнувшись, она встала и принесла бутылку коньяку. Павел налил. Все чокнулись и выпили.
– Так! – Борис наконец пришел в себя. – Ну и дела! Вот так комедия!..
Он хлопнул Павла по плечу и, окончательно развеселившись, громко и пронзительно рассмеялся.
– Слушай, братец! – Павел вдруг стал серьезным. – Если кто-нибудь сюда придет, я сразу же исчезаю. А ты забудь, что видел меня. Понял?… Иначе будет плохо.
– Что значит «плохо»? – Борис снова побледнел.
– Неприятности будут у матери… и так далее.
– Ах, да! – догадался Борис. – Ты приехал как нельзя кстати.
– Почему кстати?
– Разве ты не видишь, какое теперь положение? Завтра мы все будем рассчитывать на тебя.
Павел усмехнулся.
Мать с напряженным вниманием следила за разговором сыновей. Ее опасения оказались напрасными. Братья встретились дружелюбно, быстро поборов вспыхнувшую было вражду, а значит, можно было надеяться на их примирение. Но в глубине души она оставалась неспокойной. А что, если они только притворяются? Ведь они с детства привыкли сдерживать себя и не ссориться в ее присутствии.
– Ты давно в Болгарии? – спросил Борис.
– Несколько месяцев.
– Откуда приехал?
Павел не ответил.
– Ладно, не важно, если это секрет! – Борис махнул рукой. – А что ты делал все эти десять лет? Рассказывай!
– Скитался но Аргентине и Бразилии… Потом уехал добровольцем в Испанию… Мама, наверное, тебе рассказывала.
– И теперь выбился в верхи?
– Нет, я рядовой.
– Ну да! – Борис опрокинул вторую рюмку коньяку и оживился еще больше. – Вот выскочишь в министры Отечественного фронта, тогда попробуй тронь нас!
– Мы боремся не за министерские кресла.
– Все так уверяют, пока не дорвутся до пирога.
Павел чуть заметно нахмурился.
– Ну а у тебя как идут дела? – спросил он немного погодя.
– Так себе! – скромно ответил Борис. – Торгуем тихо, мирно… Стараюсь перехитрить немцев, иначе несдобровать… Все от них стонут.
– Вы сами их призвали.
– Кто мог думать, что они окажутся такими разбойниками? Вот англичане – те совсем другое дело, с ними можно договориться. Знают люди, как подойти к делу. Умный народ!
Павел снова нахмурился, но мать этого не заметила. Она бегала из кухни в столовую и обратно, радостная и счастливая. Братья непринужденно шутили и подтрунивали друг над другом, как в детстве, как в те годы, когда ничто их не разделяло. С какой тоской она мечтала о том мгновении, когда увидит в своем доме помирившихся сыновей!.. Борис выждал, когда она опять ушла на кухню, и спросил скороговоркой:
– Знаешь, что со мной случилось?
– Знаю! Не повезло с женитьбой?
– Как бы не так! С женитьбой мне повезло дальше некуда! – Борис презрительно махнул рукой. – Так вот, третьего дня чуть было не укокошили меня ваши «лесовики»… Ну, называют их так… А может, они и не хотели меня убивать… Я знаю, они за народ… Я матери ничего не сказал, чтобы ее не волновать.
– Об этом поговорим потом!
Павел сделал ему знак замолчать. В столовую вошла мать с бутылкой белого вина в руках. Братья перевели разговор на безобидные темы и снова стали перебрасываться шутками и беззлобно высмеивать чудачества отца. Весь ужин они рассказывали анекдоты о нем и делились семейными воспоминаниями. Время от времени перед ними мелькала тень Стефана. Кто-нибудь называл его имя – и наступала томительная пауза, во время которой все трое думали о покойном. В одну из таких пауз мать расплакалась.
– Во всем виноват Костов! – сказал Борис – Две недели этот франт мариновал письмо и ничего мне не говорил.
– Ты сам должен был позаботиться о брате, не дожидаясь Костова! – с укоризной заметил Павел.
– Я же просил министра! – Борис вздохнул и сделал скорбное лицо. – Подержим его, говорит, месяца два, в воспитательных целях… Почем я знал, что так получится?!
– Нет тебе никакого оправдания! – воскликнула мать сквозь слезы.
– Довольно об этом! – сурово проговорил Павел. – Мама, ложись спать! Мы с Борисом еще немного поболтаем… Иди, иди, ведь ты обещала!
После ухода матери тон разговора резко изменился. Борис снова налил себе коньяку, и Павла это вывело из терпения.
– Хватит наливаться! – гневно бросил он. – Что это за безобразие! С пьяным я разговаривать не буду.
– С пьяным?… – Борис злобно смотрел на брата. – Кто тебе сказал, что я пьян? Это тебе только кажется, потому что ты босяк и ни черта не понимаешь в хорошем коньяке.
– А тебя в нем научило разбираться твое богатство?
– В нем и во многом другом, чего ты еще не видел… А когда увидишь, будешь более высокого мнения о богатстве.
Борис снисходительно похлопал брата по плечу и закурил сигарету.
– Так, значит, ты стал нелегальным, а? – ухмыляясь, проговорил он, развалившись на стуле. – И наверное, числишься в главарях так называемого Отечественного фронта? Интересно, что это за шайка? У вас всегда какая-то туманная терминология.
– Поймешь ее, когда придется отвечать перед судом народа.
– Но очень возможно, что всех вас перевешают раньше, чем вы учредите этот суд.
– Поздно уже, братец! – На лице Павла заиграла суровая усмешка. – Весь народ поднялся против вас, а Германия стремительно катится к пропасти. Тебе ясно положение? Не прикидывайся спокойным.
Борис опять содрогнулся от холодного ужаса.
– Я не прикидываюсь! – сказал он примирительно. – Я просто хотел посмотреть, до чего дошел твой фанатизм.
– Значит, ты хочешь испытать мое терпение? Но это опасно.
– Что?… Застрелишь меня, что ли? – усмехнулся Борис.
– Нет, но могу потерять всякое желание спасать твою шкуру. А это было бы тяжелым ударом для матери. Я прав?
– Прав, прав! Смотри, до чего мы дожили! Но в сущности, зачем ты попросил маму устроить нам эту встречу?
– Ты можешь оказать нам одну услугу?
– Какую? – с тревогой спросил Борис.
– Один наш товарищ сидит в тюрьме и приговорен к смерти.
– Ну и?…
– Надо отменить приговор или хотя бы отложить казнь.
– Дело нехитрое! Как его зовут?
– Блаже Николов.
– Знаю его… Во время большой стачки он семь потов с меня согнал.
– Ты об этом не вспоминай.
– Да, конечно, не буду.
– Если спасешь его от виселицы, можешь быть спокоен за себя… Тебе это зачтется.
– Договорились. Завтра же начну действовать.
– Как можно скорее!.. Теперь другое: я хочу посмотреть твою виллу в Чамкории.
– Зачем?
– Мне она кажется очень удобной для переговоров, которые мы собираемся начать с некоторыми проанглийскими кругами.
– С проанглийскими кругами?…
– Они, видимо, решили прощупать почву.
– То есть как «они»?
Борис помрачнел.
– Хотят обменяться мнениями, – объяснил Павел. – Если согласятся с нашей программой, то добро пожаловать и Отечественный фронт!
– А я почему об этом ничего не знаю? – В голосе Бориса звучал гнев.
– Наверное, скрывают от тебя. Считают тебя германофилом.
– Вот как?… Ты знаешь, что я член Коронного совета?… Знаешь, что его величество держит меня как глубокий резерв на случай переговоров с англичанами? Знаешь ли ты, что я…
– Знаю! – Павел с досадой махнул рукой. – Но его величество думает, что еще рано закидывать к нам удочку, чтобы спасать династию и свою шкуру. Кроме того, ни у кого нет к тебе доверия. Рабочие и крестьяне тебя ненавидят, англичане знают, что ты ведешь двойную игру, да и немцы о тебе не лучшего мнения…
Борис не ответил. Нижняя челюсть у него отвисла и рот перекосился.
– Слушай! – Голос Павла стал еще более жестким. – Имей в виду и другое! Не думай, что ты выслужишься перед немцами или союзниками, если выдашь меня властям… Но если ты все-таки па это пойдешь – знай, что жить тебе останется лишь несколько часов. И мать будет презирать тебя всю жизнь… Это тебе тоже ясно?
Борис все еще сидел с перекошенным ртом. На лице его застыло беспомощное идиотское выражение. «Совсем пропащий человек…» – не без грусти подумал Павел.
– Погоди, братец!.. – Борис пытался взять себя в руки, но в голосе его звучал страх. – Конечно, я тебя не выдам! Разве можно?… Глупости это… Ведь… немцы… проигрывают…
– Конечно, проигрывают! – рассмеялся Павел. – Пошли их ко всем чертям.
– Постой!.. – запинаясь, продолжал Борис. – Мне надо… выпить коньяку… Я так взволнован…
– Выпей!.. Жизнь твоя действительно висит на волоске.
– Но я все сделаю… Вы не ликвидируете меня, правда?
– Если будешь молчать и спасешь Блаже. Кроме того, не забудь о вилле. Оставь ключ маме.
– Все… все…
Павел взглянул на часы и поспешно встал. Пора было идти. Привычным движением он нащупал револьвер в заднем кармане брюк и протянул руку Борису.
– Ну, прощай!.. Я ухожу.
– А вы… меня не ликвидируете?… Нет?
– Если не будешь делать подлостей.
– Это правда?… Правда?
Павел снова почувствовал, как его угнетает состояние Бориса.
– Успокойся наконец, черт побери! – воскликнул он. – Ну и трус же ты!.. Глядеть на тебя противно.
И Павел быстро вышел из комнаты.
Борис остался один. Он принялся пить коньяк рюмку за рюмкой, пока сознание у него не помутилось, пока страх и гнев не растворились в мрачном оцепенении хмеля. Потом его одолела дремота, и он заснул, сидя на стуле. Когда проснулся, был пятый час утра. Его знобило, болела голова. Охваченный чувством безнадежности и пустоты, он вдруг вспомнил о том, что надо немедленно исполнить просьбу брата. И он снова ощутил, что мир «Никотианы» опасно накренился и грозит падением, а к нему, Борису, фортуна повернулась спиной.








