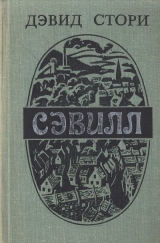
Текст книги "Сэвилл"
Автор книги: Дэвид Стори
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 35 страниц)
Колин сквозь стенку слышал, как она говорила:
– Повесили бы на спинку стула, ничего с ним не случилось бы.
– Нет уж! Я его двадцать лет ношу, Элин.
– Вы его купили два года назад, – говорила она.
– И вовсе нет, – отвечал он. – Я его давно купил.
Особой его симпатией – из-за костюма – пользовался мистер Риген, и мистер Риген платил ему тем же.
– Хороший костюм – это хороший костюм, – говорил мистер Риген. – И в этом смысле его ни с чем и сравнить нельзя.
А когда дед показывал мистеру Ригену свои зубы – улыбался или даже вынимал их, – мистер Риген говорил:
– Хорошие зубы любое лицо делают красивей, вот что я вам скажу. Это, – добавлял он, – я ведь говорю человеку, чье лицо, извините за выражение, и так хоть куда.
А когда они вместе ходили гулять – в Клуб или на огородные участки, посмотреть, как работают Колин и его отец, – он говорил:
– Вот я хожу с вашим папашей, Гарри, и у меня одна забота: не допускать до него женщин. – И когда отец смеялся, он добавлял: – Погодите, вернется он к вам с прогулки женатым.
Бабушка умерла задолго до рождения Колина, и дед много лет жил вдовцом.
– Он про все говорит «двадцать лет назад», – объясняла мать, – потому что столько времени прошло со смерти его жены.
– Да, – говорил дед. – Прекрасная была женщина. Таких больше нет.
В то время Колин не так уж редко видел и родителей своей матери. Они жили в соседнем поселке, в четырех милях от них, и по субботам мать иногда ездила к ним на автобусе и брала с собой его и Стивена. Они жили в длинном одноэтажном доме, разделенном на крохотные квартиры, предназначенные для стариков. В каждой квартире была одна комната с альковом, где за занавеской стояла железная двуспальная кровать, и еще альковом поменьше, который служил кладовой. Парадная дверь выходила прямо на тротуар, а задняя – в крохотный дворик с уборной и загородкой для угля. Иногда по субботам отец накладывал уголь в мешок и привязывал мешок поперек рамы велосипеда. Они с Колином шли пешком четыре мили, толкая велосипед, и высыпали уголь в загородку.
– Мне его продают со скидкой, – говорил отец. – Если бы они сами его покупали, выходило бы дороже.
А когда они возвращались домой и Колин сидел на раме между отцовскими руками, отец говорил:
– Мать тебе рассказывала, чем занимался ее отец, когда я с ней познакомился?
– Он был фермером, – объясняла мать.
– Арендатором, арендатором, – почти кричал отец. – И держал свиней. Свиней разводил. И чтобы близко подойти к этому дому, надо было по уши влюбиться.
Отец откидывался на спинку стула и хохотал. Мать сердилась, а он добавлял:
– Ты же знаешь, девочка, я тебя люблю. Я бы на тебе все равно женился.
– Мы не только свиней держали, – говорила мать, повернувшись к Колину и не глядя на отца. Щеки у нее краснели, глаза становились большими.
– Но пахло-то одними свиньями! – Отец хохотал и бил себя по колену, а если курил, то начинал кашлять, поперхнувшись дымом. – Хлопни меня по спине, – говорил он. – Сильнее, сильнее. Я тебя прощаю.
Родители матери были, пожалуй, даже старше деда. Их фамилия была Суонсон – вышитая на куске материи, она висела над каминной полкой в их комнате: «Эдит и Томасу Суонсонам в день их Золотой Свадьбы», а ниже была вышита дата и более мелкими буквами: «От Гильдии Стариков». Надпись окружала каемка из розовых цветов, между которыми раскрывали крылья синие птички.
Дедушка Суонсон либо сидел у огня, горевшего в высоком кирпичном камине почти на уровне его колен, либо лежал на кушетке у задней стены. Когда они, постучав, входили, он обычно оставался там, где был, и только приподнимал голову. Бабушка говорила: «Том, нас пришла навестить Элин», он медленно переводил на них темные глаза и снова опускал голову на кушетку или на спинку кресла. У бабушки было маленькое круглое лицо, и казалось, будто она все время надувает щеки, всегда ярко-красные, особенно зимой. Когда она улыбалась, ее белесоватые, узкие, как щелочки, глаза совсем исчезали. Она часто путалась, называла Колина Стивеном или именем какого-нибудь другого внука, которого он в жизни не видел.
– Хочешь конфетку, Барри, или яблочко? – спрашивала она, а когда он не отвечал, взглядывала на него поблескивающими серыми глазками и говорила: – Уж и не разберу, который это из них.
Иногда мать уходила от бабушки в слезах. Рано или поздно бабушка говорила:
– Вот состаришься, а от родных дочек и помощи никакой.
А мать говорила:
– Но я же вам помогаю, мама. Гарри привозит уголь, я приезжаю и обстирываю вас.
Иногда мать бралась за уборку. Дед и бабушка сидели у огня, а она надевала фартук, который захватывала с собой, наливала ведро под краном в углу и мыла пол. Потом мыла приступку у входной двери и каменную плиту под ней, терла ее желтым камнем, и, высохнув, плита отливала тусклой желтизной. А мать уже мыла заднюю дверь, перестилала двуспальную кровать, полировала латунные прутья и шишки, брала у соседки стремянку и протирала маленькие окна за плотными занавесками. Стирала она в сарае за домом. Колина она внутрь не пускала: ей было стыдно, что кто-нибудь увидит, как она берет воду из колонки и хлещет бельем по камню. И пока она стирала, он играл на пыльной площадке между сараем и домом или сидел у огня рядом с бабушкой. Развесив белье, мать возвращалась и говорила:
– Когда высохнет, скажите миссис Тёрнер, она снимет.
– Как-нибудь справимся, – говорила бабушка.
– Мне пора. Надо еще поспеть с ужином, а Гарри скоро вернется с работы, – добавляла мать.
– Не беспокойся, – говорила бабушка. – Как-нибудь обойдемся.
А когда они возвращались домой и отец замечал, что она плакала, он говорил:
– Да не обращай внимания. Просто они такие. Делай, как считаешь нужным.
– Хоть бы раз спасибо мне сказала. Хоть бы раз, – говорила мать.
– Ну, так и не жди, что скажут, – говорил он.
– Если бы я совсем ничего не делала, вот тогда пусть бы жаловалась.
– Угу. Тогда бы ей туго пришлось.
Когда она плакала, отец отводил глаза в сторону.
В автобусе на обратном пути кондуктор иногда спрашивал:
– Случилось что-нибудь, голубушка? – и наклонялся к ней, держась за спинку сиденья.
Она вытирала глаза, сморкалась и открывала кошелек.
– Это все старость с людьми делает, – говорила она, а иногда говорила: – Ничего от других не жди, и тебе всегда будет спокойно.
Тем не менее на рождество и ко дню рождения она возила родителям подарки, а иногда пекла для них пирог.
– Ради такого дня надо прощать, – говорила она, когда отец сердился, а он отворачивался и говорил:
– Пусть-ка попробуют, каково им без тебя придется. Живо хвосты подожмут.
В дни рождения, а иногда и по субботам она готовила для них обед. Дедушка Суонсон лежал на кушетке, глядел в потолок, и жиденькие прядки совсем белых волос свисали на щеки, а бабушка сидела в качалке у огня и говорила:
– Хватит и двух картофелин. – Или еще: – Нам бы этой капусты до конца недели хватило, Элин, а ты ее всю извела.
– Я вам еще куплю, мама, – отвечала мать. – Сегодня же.
– Ну, раз у тебя есть деньги, так конечно.
Иногда мать нагибалась над кастрюлями и утирала навертывающиеся на глаза слезы, но бабушка словно ничего не замечала.
– С тобой никакого терпения не хватит, – говорил отец, когда они возвращались, сердился, стучал кулаком по столу. И тут же добавлял: – Нет, нет, ты сиди. Я тебе чай приготовлю. Как раз успею до работы.
Дедушка Сэвилл воевал в первую мировую войну. Он сидел с газетой в руках, откинув голову, сдвинув очки в черной оправе на кончик носа, и разглядывал фотографии. Текста он никогда не читал.
– Погляди-ка, Колин, – говорил он и показывал ему фотографии то сгоревшего здания, то танка с разбитой башней или валяющегося без гусениц в яме. – Теперь воюют не так, как прежде. Тогда солдаты дрались лицом к лицу. А теперь просто бомбят женщин и детей или издалека бьют снарядами по людям, которых в глаза не видели.
Когда перед сном Колин уже надевал пижаму и мать кончала осматривать его уши и шею, дед говорил:
– Ну-ка, малый, присядь на пять минут.
Мать говорила недовольно:
– Он еще не прочитал молитву и заснет поздно.
Но дед отвечал:
– Ты и до трех не сосчитаешь, Элин, как я уже кончу.
Или, когда он уже лежал в постели, погасив свет, дед входил и говорил:
– Не спишь, малый? Меня они тоже спать отправили. Сидят там, радио слушают. Нынче люди что хочешь будут слушать. В одно ухо влетает, в другое вылетает.
Деду довелось побывать в России. Иногда он окликал мистера Ригена на улице или звал его со двора:
– Заходите, заходите, хозяйка нам чайку заварит. – А когда мистер Риген входил и садился у стола, аккуратно поддернув брюки, дед говорил: – Я вам рассказывал про то, как я был в России?
Мистер Риген отвечал:
– Да как будто рассказывали.
А дед говорил:
– Мы явились царя спасать. Нет, вы только подумайте! Я всю жизнь был социалистом, а меня призывают в армию, чтобы я стрелял в рабочих.
– Война – неприятная штука, – говорил мистер Риген, – даже в самые лучшие времена. – Он был только на год старше последнего призыва, и, когда дед кончал говорить, мистер Риген добавлял: – Служащий на шахте, вроде меня, важен для добычи угля не меньше, чем любой шахтер, если не больше. Но вы думаете, мне дают броню? Нет, не дают. На днях подходит ко мне один из владельцев и говорит: «Нам придется взять вместо вас пенсионера или кого-нибудь из конторщиц». А ведь, чтобы занимать мое место, нужен многолетний опыт.
– Вы когда-нибудь снег видели? – спрашивал дед.
– Снег? – говорил мистер Риген.
– Топаешь по снегу день за днем и проваливаешься вот по сих пор.
– Да-да, конечно, сухарик, – говорил мистер Риген, когда мать ставила перед ним чашку. – Вы очень любезны. А, имбирные! Самые мои любимые.
– Москва! – говорил дед. – Высадились в Севастополе, в Крыму, протопали четыреста миль и столько же обратно. Волки? С кем мы только не дрались. Даже с женщинами.
– С женщинами? – говорил мистер Риген и прихлебывал чай.
– Они приходили по ночам, когда все спали – с палками, с лопатами, – и старались захватить припасы, – говорил дед. – Да одна женщина за секунду-другую десяток мужчин в клочья разорвет.
– Что верно, то верно, – говорил мистер Риген. – Если бы воевали женщины, так любая война кончалась бы вдвое быстрее, а то и раньше.
– Когда мы отплыли, нас обстреляли из орудий.
Мистер Риген кивнул и сунул в рот сухарик.
– Наступали со всех сторон. Севастопольские высоты, – говорил дед. – Мы пошвыряли с корабля все, что могли, и набрали полный трюм женщин и детей. Аристократы. Сотни и сотни. Когда мы пришли в Стамбул, их не пускали на берег, пока мы их не обезвошили.
– Стамбул? Это ведь в Турции? – говорил мистер Риген.
– Накачали в трюмы дезинфицирующей жидкости, и они в ней уже не знаю сколько часов плавали. Когда я сошел на берег, одна женщина давала мне золотое ожерелье, чтобы я на ней женился и взял ее в Англию.
– Предложение очень соблазнительное, – говорил мистер Риген и закидывал ногу на ногу.
– От них отбою не было. Бери все, что душе угодно. Они ничего не пожалели бы, только помани.
– Колин, – говорила мать, – возьми-ка ведро и сходи за углем.
– Малому вреда не будет, Элин, послушать, откуда явились его предки, – говорил дед.
– Ирландская революция, – говорил мистер Риген, – была совсем такая же.
– Значит, вы там воевали, мистер Риген? – говорил дед.
– Нет-нет. Но моего дядю убили в Белфасте.
– A-а, «Черные повязки», – говорил дед.
– Да, да, – говорил мистер Риген и качал головой.
Если отец возвращался и заставал их за разговором, он говорил мистеру Ригену:
– А про гарем в Константинополе папаша вам рассказывал?
– Нет-нет, Гарри, вот про это он, по-моему, не упоминал, – говорил мистер Риген и подмигивал, а отец добавлял:
– Вы его ногу посмотрите. Ну-ка, папаша! – И дед вздергивал штанину и показывал длинный шрам на икре. – Во! – говорил отец. – Это ему стражники памятку оставили, когда он перемахнул через стену.
– Когда обратно лез, – говорил дед, улыбаясь новыми зубами.
– Когда обратно лез, мистер Риген, – говорил отец.
– Просто чудо, что я вообще без ноги не остался, – говорил дед и заливался смехом, а отец вставал и хлопал его по спине, чтобы он откашлялся.
Перед сном Колин читал две молитвы, которым его научила мать, когда он начал ходить в воскресную школу. Он стоял на коленях у кровати, положив голову на руки.
– Господи, благослови маму, папу и маленького Стива. И сделай Колина хорошим мальчиком. Аминь. – И потом: – Господи, защити нас на эту ночь, избавь от наших страхов, и пусть ангелы хранят наш сон до утренней зари. – Тут он добавлял от себя: – Боженька, дай мне сдать экзамен. Аминь, – прижимал голову к одеялу, повторял эти слова три раза и только тогда ложился.
К ним заезжал дядя. Он был такой же невысокий, как отец, с такими же белобрысыми волосами, голубыми глазами и даже с такими же усами, хотя был моложе. Он входил без стука и говорил:
– Элин! Как поживает самая наша любимая девушка?
У матери краснели виски, она отворачивалась к огню, к чайнику, заваривала чай, словно ждала его прихода, и говорила:
– Ты никогда не стучишься, прежде чем войти?
А он отвечал:
– Никогда, если прихожу в гости к любимой сестренке.
– К невестке, – поправляла она.
А он отвечал:
– Меня что же, не поцелуют по такому случаю?
Его призвали в армию, и он служил в авиации: обычно он приходил в форме, подсунув пилотку под погон на плече. Голубой грузовик с эмблемой военно-воздушных сил на кабине он оставлял за домами на пустыре. Он целовал мать в щеку, стискивал в объятиях, а потом становился спиной к огню, хлопал в ладоши и говорил:
– Ну, кто хочет поразмяться раунд-другой? – несколько секунд боксировал с воображаемым противником и продолжал, если никто ничего не говорил: – А как насчет чашки чая? – И тут же добавлял: – Эй, Стивен! Эй, Колин! Поглядите-ка, что у меня в кармане.
Обычно он приносил им по шоколадке или же совал им в руки по монете.
– Не говорите мамаше, откуда они у вас, не то она их заберет. – И добавлял еще громче. – Смотрите, чтобы она не услышала!
Приходил отец, серьезным голосом говорил:
– Как поживаешь, Джек? – и пожимал ему руку, прежде чем сесть к столу, а иногда добавлял: – Чаем тебя хоть напоили?
– Закипает, Гарри, – объявлял он, снова хлопал в ладоши и поглядывал на мать. – Жалко, что я не шахтер, честное слово. Сражаться на внутреннем фронте, чего уж лучше.
– Да я с тобой хоть сейчас поменяюсь, – говорил отец. – Раскатываешь на грузовике и горя не знаешь. Покрышка лопнет – вот и весь твой риск.
– Не беспокойся. Они к нам на аэродром каждую ночь наведываются, – говорил дядя.
– Что-то не похоже, чтобы он беспокоился, а, папаша? – говорил отец, а дед качал головой и спрашивал:
– Ты нам чего-нибудь привез, Джек? Что там у тебя в грузовике?
Они шли к грузовику и заглядывали внутрь. Иногда дядя говорил:
– Давай, Колин, лезь сюда. – И они усаживались на широком сиденье, пахнущем бензином и автолом. Стивен пристраивался у Колина между коленями, а мать говорила:
– Ты далеко их не вози, Джек. Скоро обед.
– Только по поселку прокачу, – отвечал дядя, перекрикивая рев мотора, и газовал, чтобы он скорей прогрелся, будоража обитателей соседних домов.
Он всегда гнал машину. Они трогались рывком под визг шин и точно так же останавливались. Из-за маленького роста дядю снаружи почти не было видно. Он подкладывал под себя подушку, но все равно привставал, чтобы лучше видеть дорогу, подтягивался за руль и перед каждым поворотом говорил:
– Ну-ка, ну-ка, что там такое?
А если кто-нибудь оказывался на дороге, он кричал в окошко:
– Нет, вы только посмотрите, ходить не умеют, не то что ездить!
– Как он был Полоумный Джек, – говорил отец, когда они возвращались, – так полоумным и остался.
– Что есть, то есть, – говорил дядя, а если отец спускался вниз, вздремнув перед ночной сменой, говорил. – Только почему вы ложитесь и встаете не как люди? Я ведь к вам еду и думаю: ты на работе, а моя красавица-невестка одна скучает.
– Вот и хорошо, что я по ночам работаю, – говорил отец, помаргивая, садился за стол и смотрел на брата.
За несколько недель до экзаменов Колин опять начал писать по вечерам сочинения и решать примеры, и отец сидел за столом напротив, исправлял ошибки, а иногда, если уходил в ночную смену, оставлял листы на буфете и поправлял утром.
– Чему равна десятая часть трех десятых? – спрашивал он, когда Колин утром спускался в кухню. – Лишнего времени соображать у тебя не будет. Как пишется «гиппопотам»?
Накануне экзаменов ему и остальным ребятам, которые должны были их сдавать, выдали в школе новую ручку, новый карандаш и новую линейку, и они отнесли их домой. Колин лег спать пораньше, и мать зашла к нему в комнату и подоткнула одеяло, а отец заглянул к нему, собираясь на работу, и сказал:
– Думай о чем-нибудь приятном. Ну, о каникулах, что ли. И сразу заснешь. Лишний час сна до полуночи стоит четырех утром.
А когда отец вышел, пришел дед и сказал:
– Спишь, малый? Купи себе чего-нибудь, – и сунул ему в руку монету. Когда дверь закрылась, он зажег свет и увидел, что это полкроны.
Он никак не мог уснуть. Он слышал, как отец выкатил велосипед во двор и окликнул миссис Шоу, которая вышла взять угля. Потом, словно всего через несколько минут, он услышал, что дед ложится в постель, напевая, как он часто делал в последнее время, «Скала Веков, прими меня» – мало-помалу его голос перешел в неясное бормотание и оханье. Еще позже он услышал, как мать разгребает золу, задвигает засов черного хода, поднимается к себе в спальню, что-то говорит Стивену, которого на эту ночь она взяла к себе, и снова спускается, чтобы принести ему воды. Он не спал всю ночь – переводил пятые доли в десятые, а десятые доли фунта в шиллинги и пенсы, повторял про себя по буквам: «окружность», «кенгуру» – и все слова, которые отец заставил его выучить наизусть. Он все еще пытался перевести доли ярда в футы и дюймы, когда вдруг почувствовал, что мать трясет его за плечо. Она говорила:
– Пора вставать, Колин. Я сейчас согрею тебе воды умыться.
Когда он сошел вниз, его одежда висела на ручке кресла у огня – брюки выглажены, носки аккуратно заштопаны. На краю очага стояли начищенные ботинки. Мать поднялась пораньше, чтобы выгладить его рубашку, и она висела на плечиках перед очагом.
– Я почистила тебе ботинки, чтобы ты не запачкал рук ваксой, – сказала мать.
В раковине стоял тазик с горячей водой, и над ним поднимался пар.
Чуть позже вернулся с работы отец. Он вошел, катя перед собой велосипед. Плечи его пальто и кепка были мокрыми, за колесами велосипеда по полу протянулся темный след.
– Только сейчас начался, – сказал он. – Холодище такой, что вот-вот снег пойдет. – Он снял пальто, встряхнул его и добавил:
– А у тебя есть листок, чтобы положить в карман? Для черновика. – Он пошел к раковине, вымыл руки, потом вырвал листок из конторского блокнота и аккуратно сложил. – Его линейка и ручка тут? – спросил он у матери, взял их с полки, осмотрел перышко и сказал: – Хлипкое какое-то. Нажми разок, и сломается. У нас есть для него запасное, Элин?
– Им там все дадут, – сказала она. – Пусть себе спокойно собирается.
– Ну да, конечно, – сказал отец. Он стоял у стола, поглаживая ладонью спинку стула. Потом посмотрел на него, на мать и обвел кухню беспомощным взглядом.
– Помни, что я тебе говорил, – сказал он. – Сначала подумай, а уж потом пиши. Начеркаешь лишнего, и тебе снизят отметку.
В кухню вошел Стивен, отец подхватил его на руки и сказал:
– Ну вот. У нас что, еще один ученый в доме растет? – Стивен вырывался, тянулся к столу, где стояла его овсянка. – Если он будет решать примеры не хуже, чем ест кашу, все будет в порядке, – добавил отец. – Беспокоиться нам будет нечего.
Дед сошел вниз в пижаме и сказал:
– Где мой чай? Мне сегодня чаю никто не принес, Элин.
А когда мать ответила:
– У нас ведь сегодня есть дела поважнее, – он поглядел на стол и сказал:
– Овсянка! От нее мозги хорошо работают.
– Ты что же, не будешь ее есть, Колин? – спросила мать.
– Нет, – сказал он, – не хочется.
– Съешь чего-нибудь, – сказала мать. – На пустой желудок много не напишешь.
– Это у него нервы, – сказал отец. – У меня у самого такое чувство, когда я выхожу в ночную.
– Ну, пусть возьмет яблоко, – сказала мать. Она глядела на него и стискивала руки. – Как только кончится, он сразу захочет есть.
Он взял ручку, карандаш и линейку, сунул в один карман сложенный листок, а в другой положил яблоко, которое дала ему мать. Когда он надел свой черный габардиновый дождевик и кепку, мать сказала:
– Нет, не сюда. Сегодня тебе можно выйти через парадный ход.
Она пошла за своим пальто, говоря через плечо:
– Я тебя провожу до автобуса.
А он сказал:
– Нет, я лучше один.
– Ну, как хочешь, – сказала она.
Она открыла дверь, держа Стивена на руках, и сказала:
– Стив, а ты поцелуешь его на счастье?
Стивен замотал головой, брыкнул ее и отвернулся, а отец сказал:
– Ну, желаю удачи, малый. И помни, что я тебе говорил.
– Угу, – сказал Колин и потряс руку, которую ему протянул отец, смущенно, даже покраснев немного.
Было еще совсем темно. Моросил дождь. Дальше по улице миссис Блетчли и миссис Риген уже шли к автобусной остановке с Блетчли и Майклом Ригеном. Из их ранцев торчали оранжевые ручки и карандаши.
– Ты ничего не забыл? – спросила мать. – Деньги на обед?
– Нет, – сказал он, не глядя на нее.
– Не забывай про вчерашний день, – сказал дед. – Надо будет, и еще найдется.
Когда он обернулся на углу, мать стояла в дверях. Она помахала ему, и он помахал в ответ, а потом свернул за угол и быстро зашагал к остановке.
Там в полутьме стояли толпой ребята, их матери и двое-трое мужчин с лицами, еще измазанными угольной пылью. Повсюду виднелись оранжевые линейки, ручки и карандаши.
– А ластик у тебя есть? – спросил Блетчли.
– Нет, – сказал он.
– Без ластика нельзя. – Блетчли вынул из кармана резинку. – Этот вот для карандаша, а этот для чернил, – сказал он, показав сначала один конец, а потом второй. – А промокашка у тебя есть?
– Нет. – Он мотнул головой.
Блетчли открыл ранец и вынул сложенную пополам промокашку. У Ригена в ранце лежала такая же промокашка и такая же резинка. А кроме того, мешочек с конфетами, шоколадка, апельсин, яблоко и пузырек с чернилами.
– У тебя и чернил нету? – сказал Блетчли. – Ты же ничего написать не сумеешь!
Подъехал автобус, в мокром асфальте блеснуло отражение замаскированных фар. Первым влез Блетчли. Он поцеловал мать, и она стояла у двери, пока он поднимался по ступенькам. Их было двенадцать ребят, и, когда все сели, матери и двое-трое шахтеров встали у окон – женщины на цыпочках – и махали им. Впереди села учительница, и автобус тронулся.
Светало, и шофер выключил покрашенные синей краской лампочки. По стеклам ползли мелкие капли, Живые изгороди по обеим сторонам шоссе поникли от сырости, на краю луга жались друг к другу коровы. Стекла скоро запотели, и, чтобы смотреть наружу, надо было все время протирать их. Блетчли сидел впереди, поставив ранец на колени – белая мазь на внутренней их стороне еще не стерлась. Риген, который сидел на одной из задних скамей, заплакал. Его худое лицо сморщилось, лоб стал сине-белым, а щеки – малиновыми.
В конце концов учительница поднялась, прошла по проходу и наклонилась к нему, а когда они остановились в другом поселке и в автобус влезли еще ребята в мокрых от дождя пальто, учительница вышла и принесла Ригену кружку воды из соседнего дома. Когда они тронулись, он рыдал у себя на сиденье, так и не сняв ранца, его грудь содрогалась от внезапных спазм, в горле что-то булькало.
– Его отец говорил, что он получит хорошую трепку, если не сдаст, – сказал Блетчли, усаживаясь рядом с Колином. – А тем, кто ревет, сбавляют десять баллов. Они глаз с тебя не спускают. Ты это знаешь? – добавил он, наклоняясь через проход к Ригену. – Тебя, наверное, уже записали в несдавшие, Майк.
Школа, куда их привезли, была кирпичной, с высокими окнами в зеленых рамах и с асфальтовым двором. Напротив поднимались арки железнодорожного виадука, а по другую сторону двора бежал ручей, запруженный пустыми канистрами, рваными матрацами и ржавым железным ломом.
У стены здания укрывались от дождя кучки ребят, все с оранжевыми ручками и линейками. Двери школы еще не открыли. Их нижние филенки были испещрены отпечатками грязных подошв.
У ворот остановился еще один автобус, во двор вошли еще ребята, растерянно глядя вокруг – на школу, на арки виадука, по которому паровоз тащил товарные вагоны, выбрасывая черный дым и клубы белого пара, заволакивавшие двор.
– Чего им понравилось это место? – спросил Блетчли, и Риген помотал головой.
– Каждый год выбирают другую школу, – сказал кто-то. – На следующий год, может, придет очередь вашей школы, только тогда вы потеряете все льготы.
– Тоже мне льготы, – сказал Блетчли. – А уж для тех, кто тут живет, и подавно.
Светлые, коротко остриженные волосы мальчика, который заговорил с ними, были аккуратно причесаны на косой пробор. На нем была белоснежная рубашка и вязаный галстук в красную и синюю полоску. Авторучка торчала из нагрудного кармана куртки, на котором была нашита эмблема его школы – красная роза на белом фоне, а чуть ниже свиток с надписью «En Dieu Es Tout» [2]2
В боге – все (старофранц.).
[Закрыть].
Блетчли, не спуская глаз с серебряного колпачка авторучки, сказал:
– Значит, ты уже здесь бывал? – Он так и не поглядел на его лицо.
– Не здесь, – ответил мальчик. – А экзамен я уже один раз сдавал. Это мой последний шанс. – Он засмеялся и сунул руки в карманы.
– А как их сдают? – спросил Блетчли, и Риген тоже повернулся к нему – он все еще время от времени судорожно всхлипывал.
– Не в экзаменах дело, – сказал мальчик. – А просто их сдает очень много народу. И уж тут как кому повезет.
– Как повезет? – сказал Блетчли и кивнул, словно в этом отношении он мог быть совершенно спокоен. Его лицо начало надуваться, глаза выпучились.
Позади них открылась одна из зеленых дверей, и из нее вышла женщина с колокольчиком. Она посмотрела на небо, потом на виадук и начала звонить – почти одновременно с другой учительницей, которая вышла из второй двери.
– Мальчики в эту дверь, девочки в ту, – сказала она. – Идите в класс с вашим инициалом.
Школа была построена квадратом, и классы размещались вдоль каждой стороны. Он вошел в класс с надписью на двери: «Фамилии от С до У». Там между доской и партами стояли мальчики, один был из их школы, но он знал его только в лицо. Маленькая седая женщина сказала:
– К партам приколоты листки с вашими фамилиями и экзаменационными номерами. Найдите свою фамилию, сядьте, сложите руки на груди и не разговаривайте.
На доске за ее спиной было написано мелом: «Не разговаривать!»
Его фамилия и номер были приколоты к первой парте у двери. Рядом лежала розовая промокашка, чернильница в металлическом кольце была полна. Он поднял крышку парты, заглянул внутрь, потом разложил на парте линейку, ручку и карандаш и скрестил руки на груди.
Мальчик со светлыми волосами сел за парту у стены напротив, снял колпачок с авторучки, осмотрел перо, надел колпачок и поставил ручку в стаканчик на парте. Сбоку от него за тремя большими окнами виднелся двор и арки виадука. По стеклам ползли капли, оставляя змеящийся след.
Учительница прочла фамилии по списку, отмечая галочкой присутствующих, а потом прошла по классу, собирая записки, что им позволено сдавать экзамены. Его записку подписал отец.
Вернувшись к своему столу, она взяла печатный лист и прочитала вслух правила сдачи экзаменов. В класс принесли линованную бумагу. Перед ним на парту положили несколько двойных листов, вложенных один в другой, точно тетрадь. На первом было напечатано: «Фамилии не пишите. Поставьте свой экзаменационный номер и больше ничего на этой странице не пишите».
В классе наступила тишина. Ее нарушало только позвякиванье молочных бутылок в коридоре и шум грузовиков на шоссе. Иногда по виадуку проходил товарный поезд.
Некоторые мальчики писали быстро, не поднимая головы, наклоняясь над партой так низко, что почти касались лбом бумаги, другие смотрели на потолок и на сидящих вокруг, по нескольку раз макали ручки в чернильницу, водили пером по краю, чтобы сбросить лишние чернила, и начинали медленно писать, но через минуту снова выпрямлялись и глядели в окно.
У стены напротив мальчик со светлыми волосами писал, далеко отодвинув стул, небрежно вытянув руку, словно готовясь оттолкнуть парту, встать и выйти из класса. Он держал авторучку в левой руке, писал, слегка наклонив голову вправо, и время от времени взглядывал на вопросник. Колпачок авторучки, надетый теперь сверху, поблескивал, отражая свет из окна. Он слегка выпячивал губы, словно пожевывал щеки изнутри.
Мальчик рядом писал на промокашке свою фамилию, налегая грудью на парту и прижимаясь щекой к ее крышке. Он обмакивал перо в чернила и ставил точку над точкой, пока не получалась буква. Он приподнял голову, полюбовался результатом, снова прижался щекой к парте и начал окружать свою фамилию сложными завитушками.
Через некоторое время учительница сказала:
– Осталось полчаса. Сейчас вы должны отвечать на вопрос восьмой или девятый.
Девятый вопрос занимал целую страницу. Ему предлагалось переписать рассказ о кораблекрушении, расставляя знаки препинания и исправляя орфографические ошибки. Самый последний вопрос не занимал и двух строчек: «Сколько слов вы можете составить из слова „кинематограф“?»
Несколько мальчиков перестали писать, скрестили руки и смотрели на учительницу.
– Если вы уже кончили, – сказала учительница, – то не тратьте времени напрасно. Прочтите еще раз ответы и посмотрите, нет ли у вас ошибок. Я уверена, что не у всех все правильно.
Наконец она сказала:
– Через две минуты я попрошу вас положить ручки. Допишите фразу и промокните страницу.
Когда они положили ручки, она сказала:
– Пока я буду собирать листы, не разговаривайте. И не вставайте, пока я не разрешу.
На площадке для игр к нему подошел мальчик со светлыми волосами и спросил:
– Ты на сколько ответил?
– Почти на все, – сказал он.
– Я только чуть-чуть не успел, – сказал мальчик. – По-моему, они были труднее, чем в прошлом году. Ну, да все равно.
В другом конце площадки Риген ел апельсин, а Блетчли – яблоко. Риген так и не снял ранца.
– Как твоя фамилия? – сказал мальчик.
– Сэвилл, – сказал он.
– А моя Стэффорд, – сказал мальчик. – Обе на «эс»!
Подошел Блетчли и спросил:
– Сколько у тебя получилось слов из «кинематографа»?
Он ответил: «Девятнадцать», и Блетчли сказал:
– Только и всего? А у меня – двадцать семь. «Монета» у тебя есть?
– Нет, – сказал он.
– А у меня тридцать четыре, – сказал Стэффорд.








