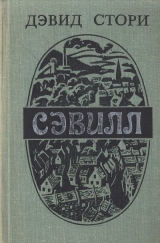
Текст книги "Сэвилл"
Автор книги: Дэвид Стори
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 35 страниц)
Колин стоял у стены, а директор, стуча кулаком по ладони, расхаживал по кабинету взад и вперед, словно вообще про него забыл.
– Ты идеалист, как и все мы в молодости. Ты хочешь изменить мир, да только мир-то меняться не хочет: ему требуется просто хлеб с маслом, и предпочтительно в первую очередь, хотя можно и наравне со всеми, лишь бы его получить. Понизь здесь заработную плату, и увидишь разницу! А немножко повышай ее каждый год, и все останется как есть. Потому-то у коммунистов здесь дело не ладится. Вот если бы они старались снижать шахтерские требования, тогда у них что-нибудь еще могло бы получиться: революция началась бы завтра утром. А вместо этого сентиментальные путаники вроде тебя думают, что раз они рабочие, то живут в таких же условиях, как в прежней России. Да у нас самый последний бродяга живет лучше, чем в любой другой стране, какую ни назови. У нас свобода, знаешь ли. Свобода ничего не делать, если не хочешь, и скажи спасибо, что они не хотят.
– Вы же один из них, – сказал он.
– А ты нет?
– Нет.
– Значит, выше всего этого?
– Нет, – сказал он. – Но я знаю, что все могло бы быть по-другому.
– В каком же это смысле?
– Люди могли бы быть другими. Дети могли бы быть другими.
– Так ведь им бы все равно пришлось работать в шахте, – сказал директор. – В шахте или на фабрике. И жениться, потому что так уж человек устроен. И все равно пришлось бы жить на гроши – так чем тут поможет музыка, или стихи, или книжки, хоть ты и любишь про них распинаться? Они у тебя до того утонченными станут, что вообще в шахту не пойдут.
– Ну и очень хорошо, – сказал он.
– Угу! Ты вот это повтори, когда дома топить будет нечем или в насквозь промерзшем классе. Навидался я таких идеалистов: чуть какая трудность, первыми визжать начинают.
– По-моему, подобное положение вещей можно изменить, – сказал он. – Пожалуй, нам всем следовало бы работать в шахте по очереди.
– По очереди?
– Три месяца в году вам вреда не принесли бы. И никому вреда не принесли бы, если уж на то пошло. А вот польза для нас всех, вероятно, была бы большая.
– Ты, никак, совсем ополоумел: тебе дать волю, так ты нас улицы мести пошлешь.
– А что?
– А то, что у меня квалификация другая. То, что я умею и могу, с неба не падает, знаете ли.
– Так преподавать же нетрудно, – сказал он. – И возможно, если вы три месяца пометете улицы, то преподавать будете даже лучше. – Теперь и он поглядел в окно. – А подмести ее не мешало бы, – добавил он.
– Ну, возможно, у вас есть время вести философские дискуссии, но у меня его нет, – сказал директор, быстро возвращаясь к столу.
– Если не в школе, то где же еще их вести? – сказал он. – И если не с главой педагогического учреждения, то с кем же? – добавил он.
– Ну, так как: музыки больше в классе не будет или вас?
– Это вам решать, – сказал он.
– Тогда боюсь, что вас, – сказал директор. – Хотя мне и жаль. С вашим приходом регби у нас в школе прямо расцвело. Да только, черт побери, жизнь состоит не из одного регби. Считайте, что вы получили предупреждение об увольнении через два месяца и уйдете по окончании триместра. Я уведомлю районный отдел.
– Ну, а рекомендация? – сказал он.
– Для чего?
– Для устройства на новое место.
– Ты, значит, думаешь и дальше преподавать? – спросил директор, уставившись на него.
– Меня научили только этому, – сказал он.
– С твоими идеями ты нигде не удержишься, – сказал он. – Я либеральный директор. А вот попадешь к такому, у которого свои идеи есть, и твой проигрыватель вместе с пластинками полетит в окно. – Он постучал по зубам колпачком ручки. – Рекомендацию я напишу, – добавил он. – Укажу на «идейную независимость, редкую в нашей профессии», а уж они пусть толкуют, как хотят.
– В общем-то, мне жаль уходить, – сказал он.
– Я упомяну, что вы уходите: пусть сложатся вам на подарок.
– Мне никакого подарка не надо, – сказал он.
– Так я же по-хорошему, – сказал директор. – Просто у меня есть мои обязанности. Выполняю я их, худо ли хорошо ли, уже сорок лет. Насколько помню, никто еще не жаловался. Вот исходя из этого опыта я считаю, что вы кругом неправы.
В конце коридора прозвенел звонок.
– Ну, я пойду в класс.
– Очень хорошо. – Директор снова взялся за бумаги и достал из ящика трубку. Вдруг он поднял голову. – Да, кстати, перед уходом внеси деньги за кофе. А то двое-трое взяли да и позабыли – они идут по статье мелких расходов, и в районном отделе с меня требуют отчета за каждый пенс. И на стену лезут, если хоть на полпенса не сойдется.
– Хорошо, – сказал он. – Я не забуду.
– Ладно, – сказал директор и, покраснев, когда Колин улыбнулся, разжег трубку.
– Тебе хорошо было? – сказала она.
– Да.
– Тебе трудно угодить.
– Ты думаешь?
– Я – да. А как другие, не знаю.
Была суббота. Она лежала на двуспальной кровати – ее сестра и зять собирались вернуться только к вечеру.
– В любом случае, – сказала она, – они больше не хотят, чтобы я жила у них.
– Почему?
– Им не нравится, что я вожу в дом мужчину.
– К себе я этого отнести не могу.
– Да, – сказала она. – Ты еще мальчик.
– Я имел в виду, – сказал он, – я не просто какой-то мужчина с улицы.
– Они считают, что, раз я хочу такой свободы, мне следует снять свою квартиру.
– И ты снимешь?
– Да, – сказала она. – Думаю, что да.
За несколько дней до этого к нему на улице подошел незнакомый человек.
Остановившись перед ним на тротуаре, он спросил, как его зовут, и, убедившись, что он действительно Колин Сэвилл, сунул ему в руку конверт.
В конверте, на котором его фамилия была написана печатными буквами, лежала записка, написанная опять-таки печатными буквами: «Оставите вы мою жену в покое или нет?»
И сегодня он показал ей эту записку.
Она глядела на нее довольно долго.
– Наверное, это Дерек, – сказала она. – Совершенно в его духе. – Она положила листок. – А он что-нибудь сказал? – добавила она.
– Просто спросил, как меня зовут, и дал мне конверт.
Теперь, вставая с постели, она сказала:
– Переехать мне надо в любом случае. Дерек вполне способен явиться сюда, если решит, что так для него лучше.
– А почему ты не хочешь вернуться к нему?
– Ты не знаешь Уолтонов. И его не знаешь. Это семейство пожирает все и вся. Если он не сумел вырваться, где уж мне? Их так много, и интересы их так тесно связаны!
Он смотрел, как она одевается. В ее движениях была привычная точность, словно она была здесь одна: она не пыталась прятать свою наготу.
– Ты бы тоже оделся. Они вернутся не позже чем через час.
– Они знают, что ты пользуешься их кроватью? – сказал он.
– Не думаю.
– И совесть тебя не мучит?
– Нет.
– Это для тебя как-то важно? Кровать твоей сестры?
– Ну и что?
– Я просто подумал.
Она поглядела на него с удивлением.
– У нас очень хорошие отношения.
– Она старше или моложе?
– Старше.
Они перешли в ее комнату. Окна выходили на луга за домом. Было как-то странно находиться в чьем-то доме, не имея никакого отношения к хозяевам. Внизу раздался шум подъезжающего автомобиля, и она пошла встретить сестру.
Когда она поднималась назад по лестнице, он услышал ее голос:
– У меня Колин. – Потом она добавила потише: – Я просто хочу тебя предупредить.
Ответа сестры он не услышал, но муж сказал что-то невнятное.
Она принесла на подносе чай. Они сели на узкую кровать.
– А почему мы не можем пить его внизу? – сказал он.
– Морин против всего этого, – сказала она. – Так зачем же навязываться.
Через некоторое время они вышли на улицу и свернули в парк. Какая-то вялость охватывала его теперь всякий раз, когда он гулял с ней. Вначале это ему нравилось – главным образом потому, что она была замужней женщиной. Странная галлюцинация больше не повторялась, и он не стал ничего объяснять. Увиделся он с ней только через две недели, и оба держались так, словно той сцены в спальне ее сестры не было вовсе. В школе Кэллоу избегал его. Почти каждый вечер он уезжал в город на мотоцикле позади Стивенса и встречался с Элизабет либо в доме ее сестры, либо в каком-нибудь условленном месте на центральной площади или возле аптеки ее отца.
Часто они уходили в поля и лежали, обнявшись, где-нибудь в тени живой изгороди.
– Дерек ищет доказательств твоей неверности, как ты думаешь?
– Зачем?
Они подошли к озеру и остановились напротив статуи. Она начала бросать уткам захваченный с собой хлеб.
– Для развода.
– Тебе не хочется фигурировать в бракоразводном процессе? – сказала она.
– Не знаю, – сказал он. – Я об этом не думал.
– Не беспокойся. Ты слишком поздно появился на сцене.
Однако ее голос стал жестким, и он не знал, адресована ли эта жесткость ему или ее мужу.
У нее были тонкие руки и матовая кожа, почти прозрачная, словно светящаяся изнутри, – ничего подобного он прежде ни у кого не видел. Иногда, когда они встречались, щеки у нее отливали легким румянцем, а иногда кожа становилась тусклой или нежно прозрачной.
– Поскольку ты анархист, я не думала, что для тебя это может иметь значение. То есть открытое нарушение условностей, – сказала она.
– А я анархист? – спросил он. О том, что его увольняют из школы, он рассказал ей в тот же день, когда это произошло. Она как будто испытала некоторое облегчение – потому что чувствовала себя неловко перед Кэллоу, решил он.
– Во всяком случая, ты не коммунист, что бы ты там ни наговорил своему мистеру Коркорану. – Немного погодя она сказала: – Уж скорее ты кальвинист. – А когда он засмеялся, добавила: – Но ведь это так? Чему, собственно, ты прилежишь? Я бы сказала, что психология у тебя средневековая, феодальная.
Она бросила уткам последнюю горсть крошек.
– Ты говоришь так, словно это преступление, – сказал он.
– Не знаю, – сказала она. – Возможно, это действительно преступление.
– А мне кажется, такого рода мироощущение не редкость, – сказал он. – Ты и сама им грешишь, – добавил он, – разве нет?
– Сомневаюсь, – сказала она. – Видишь ли, дорогу для меня проложили другие, а ты должен был пробиваться сам. – Секунду спустя, поглядев на него, она добавила: – Теми способами, какие были в твоем распоряжении.
Позади них, заложив руки в карманы, шел какой-то мужчина – когда они остановились покормить уток, он тоже остановился, разглядывая птиц, улыбаясь Элизабет и кивая головой.
Теперь, когда они пошли дальше, он снова пошел за ними.
В ее глазах опять появилось насмешливое, чуть нарочитое выражение. Опираясь на его руку, она внимательно на него поглядывала.
– В конечном счете любое достижение индивида идет на пользу всем, – сказал он.
– Да? – Она продолжала улыбаться. – Это похоже на кредо, сформулированное постфактум.
– Нет, – сказал он и мотнул головой. – Я бы так объяснил почти все, если не все, что произошло.
– С тобой? – спросила она.
– Да, – сказал он. – Или с любым, кто на меня похож.
Некоторое время они молча поднимались по узкой дорожке, которая вела на вершину холма.
Мужчина, который шел за ними, свернул на нижнюю тропу.
– В сущности, ты никуда не относишься, – сказала она. – Ты не настоящий учитель. Ты, в сущности, ничто. Ты не принадлежишь ни к какому классу, так как живешь среди членов одного класса, реагируешь на жизнь как представитель другого и не чувствуешь симпатии ни к одному.
– Тебе неприятно, что я тебя настолько моложе? – спросил он резко, убежденный, что именно это лежит в основе ее рассуждений.
– Не знаю, – сказала она. – Я ничего подобного не ожидала.
– От кого не ожидала?
– От себя. Я настолько тебя старше, что гожусь, то есть почти гожусь, тебе в матери.
– Да, – сказал он. – Пожалуй.
Они продолжали подниматься по склону. Внизу, в долине, блеснула излучина озаренной вечерним светом реки.
– Я рада, что ты уходишь из школы, – сказала она, когда они добрались до вершины.
– Почему?
– По-моему, так для тебя лучше.
Некоторое время спустя она добавила:
– Филип с тобой говорил? То есть в эти дни?
– Один раз, – сказал он.
Кэллоу действительно как-то вечером после конца уроков подошел к нему, словно прежде Стивенс, и сказал вымученно дружеским тоном:
– Из-за меня ради бога не уходите.
– Дело не в том, – сказал он. – Меня уволили.
– Кто? – спросил Кэллоу недоверчиво.
– Коркоран.
– Он? Неужели? – сказал Кэллоу так, словно заподозрил, что директор наделен проницательностью, в которой он прежде ему отказывал. Впервые он прямо выдал, насколько неприятны ему были отношения Колина с Элизабет.
– Спросите у него, – сказал Колин.
– Но почему?
– За музыку.
– За музыку?
– И за стихи. Он считает, что все это напрасный перевод времени.
– Ну, его взгляды я знаю, но их еще мало, чтобы вас уволить, – сказал Кэллоу.
– Зато моих вполне достаточно, – сказал он.
– Вы что, собрались в большевики? – сказал Кэллоу, успокаиваясь, едва выяснилось, что Колин получил по заслугам.
Элизабет засмеялась. Ее манерность всегда становилась особенно заметной, когда они гуляли. Манерность и некоторая чопорность – глядя на них издали, наблюдая непринужденность их общения, посторонний человек мог счесть их супружеской парой. Один раз в магазине его приняли за ее сына. «А вашему сыну нравится?» – спросила продавщица, которая показывала ей платье, и Элизабет засмеялась, но поглядела на него с некоторой тревогой. Хотя она никогда не отвечала на его вопросы о ее возрасте, он догадывался, что ей не меньше тридцати пяти.
– Я иногда вижусь с Филом, – сказала она.
– А как понимать это «иногда»? – сказал он.
– Всякий раз, когда он мне звонит. – Она поглядела на него.
– И часто это бывает?
– Всякий раз, когда у него появляется настроение. – Она добавила: – К тебе он относится так же, как к моему мужу.
Некоторое время она молчала и почти перестала опираться на его руку. Дорожка вилась среди деревьев, заслонивших вид на долину.
– Ты рассердился?
– Нет, – сказал он.
– Просто мне порой бывает страшно, – сказала она.
– Чего?
– Не знаю, – сказала она и покачала головой.
Мужчина, который пошел низом, появился теперь на дорожке впереди, где она выводила на широкую лужайку. Внизу лежала долина. Река, поворачивавшая здесь от парка, вероятно, выглядела точно так же из окон разрушенного дома позади них.
– То, что ты теперь называешь средневековым мироощущением, прежде ты называла отчуждением, – сказал он.
– Не я, а Филип.
– Это практически одно и то же, – сказал он.
– А как бы он определил это? – спросила она. – Связь с замужней женщиной?
– Наверно, назвал бы симптоматичным явлением.
Мужчина тоже остановился и начал смотреть на долину.
– В отличие от связи с женщиной соответствующего возраста.
– А что такое соответствующий возраст? – спросил он.
– Более близкий к твоему, – сказала она.
– Но ведь ты же не настолько стара, Лиз? – сказал он.
– Нет. Пожалуй, нет, – сказала она, но не сразу, точно он ее испугал.
Они начали спускаться в сторону города – он вставал перед ними на гребне своего холма.
– Мы гуляем или идем куда-нибудь? – спросил он.
– Ну, – сказала она, – пойдем в кино.
Позднее она проводила его до автобуса.
После войны на пустыре за центральной площадью построили автобусную станцию. Они стояли под бетонным навесом, где гулял ветер. Ее автобус отходил от соседней остановки.
– Я начинаю подыскивать квартиру, – сказала она. – Ты не хотел бы принять в этом участие?
– Каким образом?
– Помочь мне выбрать.
– Пожалуй, не стоит.
В этот поздний час на автобусной остановке почти никого не было. Время от времени подъезжал или отъезжал совсем пустой автобус. Под двумя-тремя навесами жались крохотные очереди.
– Мне кажется, тебе не следует на меня полагаться, – сказал он.
– Да, не стоит, – сказала она, а когда подъехал его автобус и из дверей начали выходить пассажиры, добавила: – Я поговорю с Дереком. Он не имеет ни малейшего права обращаться к тебе.
– Что ты ему скажешь?
– Чтобы он не вмешивался не в свое дело.
– Мне это, в общем-то, все равно, – сказал он. Она прижималась головой к его плечу, и прежде, чем войти в пустой автобус, он нагнулся и поцеловал ее.
Мистер Риген умер. Как-то под вечер он упал без сознания у себя в огороде. Последнее время его прогулки ограничивались двором позади дома и узкой полоской огорода, упиравшейся в пустырь. Каждый день в хорошую погоду соседи видели, как он бредет по заросшей дорожке к забору и смотрит на детей, бегающих по пустырю. В этот день отец, который после чая стоял в дверях кухни, вдруг крикнул:
– Брайен упал! – И побежал через двор.
Они с мистером Шоу внесли его в дом.
Больше он во дворе не появлялся и через два дня умер.
– Редкий был человек, – сказал отец. – С качествами, какие тут мало у кого есть, – добавил он. – И с сыном такая трагедия.
Майкл теперь прятался от людей. Если он и появлялся на улице, то лишь по вечерам – шел один в кино или шагал до станции и обратно, словно куда-то уезжал и откуда-то возвращался.
– Он хотел сделать из Майкла настоящего бойца. Чтобы взял мир за глотку.
– Нельзя заставить человека стать таким, каким он не родился, – сказала мать.
– По-твоему, я этого не знаю! Уж кому это знать, как не мне, – сказал отец.
На похоронах он шел за гробом рядом с миссис Риген – у нее не было родственников. Он вернулся красный от выпитого и сказал:
– Нет, он все-таки не совсем бесхребетный. Знаете, что он учудил в «Розе и короне»? Влез на стол и давай играть на скрипке.
– Да кто он? – спросила мать.
– Майкл.
А несколько дней спустя в заднюю дверь постучала миссис Риген и, когда Колин открыл, протянула ему пакетик, туго завязанный бечевкой.
– Мистер Риген хотел, чтобы это было у вас, Колин, – сказала она.
– Я очень тронут, – сказал он.
– Он всегда выделял вас, – сказала она почти торжественно. Ее узкое лицо покраснело, темные, близко посаженные глаза смотрели на него, сойдясь к самой переносице. – «Единственный самородок во всей этой трухе», – добавила она, и в ее голосе появилось что-то от интонации мистера Ригена.
Он смотрел, как она, сгорбившись, идет к своему крыльцу странной семенящей походкой.
– Нет, вы только поглядите! – сказал отец, протянувший ему ножницы, когда он вернулся с пакетом к столу.
Внутри была золотая цепочка, которая неизменно украшала жилет мистера Ригена.
– Значит, это все-таки был не булыжник, – добавил отец, глядя на плоскую золотую звездочку, прикрепленную к концу цепочки.
На ней была выгравирована латинская надпись.
– Aut vincere aut mori [6]6
Победить или умереть (лат.).
[Закрыть],– прочел он.
– Выходит, он тебя высоко ставил, – сказал отец, глядя на цепочку. – Отличный он был человек. Родись он в мире получше нашего, как бы он жизнь прожил!
– И мы бы все тоже, – сказала мать.
– Угу, – сказал отец. – Но только уж он – особенно. Он умел узнать поэта. У него был глаз. И он всегда отстаивал свое мнение.
– Да, сосед он был хороший, – сказала мать и достала платок, чтобы утереть глаза.
Через две педели миссис Риген заболела. Ее положили в больницу. Мать поехала навестить ее, по миссис Риген там уже не было – ее перевели в психиатрическую клинику.
– Не понимаю, – сказал отец, которого это потрясло даже больше, чем смерть Ригена. – Ведь она же вот тут стояла всего несколько дней назад. А потом я с ней на улице разговаривал. Я же на похоронах все время возле нее был. И еще подумал тогда, что она молодцом держится.
– Да, но ведь она его обожала, – сказала мать. – Вознесла на пьедестал и верила, что он всегда все делает правильно.
– Ну, значит, нам тут такая опасность не грозит, – сказал отец. – Да уж, совсем не грозит.
Несколько дней Майкла никто не видел. Затем как-то вечером во всех окнах его дома вспыхнул свет. У дверей стояла машина. Изнутри доносились звуки музыки и хохот.
На другой день занавески оставались задернутыми, но часа в два на заднее крыльцо вышли трое мужчин. Они постояли в крохотном огороде, жмурясь от солнца, потом перелезли через забор и расположились на пустыре. Немного погодя к ним присоединился Майкл, совсем бледный, словно он только что проснулся. Он неуклюже перевалился через забор и под хохот остальных упал на траву по ту его сторону.
– Хулиганье какое-то, – сказала мать. – Бедный Майкл. Если бы его матери довелось это увидеть, она бы с ума сошла.
– Так она ведь уже сошла, – сказал отец. Он стоял в дверях и с интересом наблюдал за шумной компанией на пустыре: они боролись, и Майкл, засучив рукава на худых белых руках, пытался бороться наравне с остальными.
В следующую субботу эти трое опять приехали. Приезжали они и по будням, иногда их бывало четверо. Четвертой была женщина. Мистер и миссис Шоу пожаловались на шум. Майкл вышел во двор без пиджака, с бутылкой в руке и пытался извиняться, а в дверях хохотала остальная компания.
По вечерам, кроме того, приезжали двое-трое других мужчин, а иногда та же женщина. Потом Майкл исчез на две недели. По слухам, его видели в соседних городках. Говорили, что его забрали в полицию.
Однако когда он в конце концов вернулся, на нем был костюм и шляпа, шея небрежно обмотана шарфом.
– Наверно, ему кое-что от матери осталось, – сказал отец. – Сбережения, которые она по грошам скопила. Только рановато они к нему в руки попали. Может, мне сходить поговорить с ним?
– И не думай! – сказала мать.
– Так в память Брайена. Он был мне хорошим другом, – сказал отец и как-то вечером, когда Майкл был дома, пошел к нему.
Он вернулся через час.
– А ведь я прежде никогда у них дома не бывал, – сказал он. – И теперь жалею, что зашел.
Отец сидел у огня бледный, сдерживая дрожь.
– Он всю мебель продал, – добавил он. – В доме только кровать да один стул. Наверно, ночью вывез. «Что же ты, Майкл, – говорю я, – разве твоей матери это приятно будет увидеть?» И ты знаешь, что он сказал? «Моя мать, – говорит, – никогда этого не увидит». А я говорю: «Даже если так, хотя, надеюсь, она еще поправится, ей все равно неприятно было бы узнать, что ты здесь вот так живешь». – «А мне, – говорит, – нравится вот так здесь жить. И вам, – говорит, – не надо беспокоиться». Не надо беспокоиться! – Отец покачал головой. – «Нет, Майкл, – говорю я ему, – мы беспокоимся, как ты живешь, потому что знали твоего отца и тебя знали, – говорю я ему, – чуть ли не с рождения». – «Я, – говорит, – мистер Сэвилл, могу прожить самостоятельно. В конце-то концов у меня такая возможность впервые». – Отец вытер глаза. – Ты знаешь, в какой чистоте его мать дом держала: чище, чем у миссис Блетчли, даже чище, чем у миссис Шоу.
– Ну, этот дом грязным тоже никогда не был, – сказала мать.
– Да не грязным, но всегда было видно, что тут люди живут, – сказал отец.
– Этот дом чистый, с каким его ни сравни, – сказала мать.
– Так ведь ненормально чистым его все же не назовешь, верно? – сказал отец, расстроенный этим ненужным спором.
– Ну, мне, конечно, жалко слышать, что он его в такой вид привел, – сказала мать, все еще огорченная, что ее собственные усилия остались неоцененными.
– И черт меня туда понес! – сказал отец. – Нечего было нос совать не в свое дело.
Как-то вечером Колин встретил Ригена на улице: он был в костюме с галстуком-бабочкой в крупную горошину, а в руке держал трость, но шляпа исчезла, и волосы, отросшие еще больше, падали на шею напомаженной волной.
– Привет, Колин, – сказал он, перейдя с противоположного тротуара, и небрежно взмахнул тростью. От него разило духами. Его глаза, совсем темные, впивались в Колина со странным напряжением, лоб блестел, щеки отливали болезненной желтизной, между передними зубами зияла дыра. – Как живешь? – добавил он. – Я слышал, ты бросил учительствовать.
– Не совсем, – сказал он.
– Приезжай как-нибудь вечером в город, выпьем.
– Куда ты обычно ходишь? – сказал он.
– Да куда угодно. Но не в Дом собраний, могу тебя заверить. – Он небрежно похлопывал тростью по ноге. Его одежда выглядела как нелепая пародия, как гротескная карикатура на изощренную щеголеватость его отца.
– Ты где-нибудь работаешь? – спросил он.
– Кое-чем занимаюсь, – сказал Риген. – Поступил в оркестр на чисто добровольных началах. Особенно себя не перегружаю.
– На что же ты живешь? – сказал он.
– А! – беззаботно сказал Майкл. – И так и эдак. – И, повернувшись к своему темному дому, добавил: – Значит, договорились: встречаемся в городе и идем куда-нибудь выпить. Не забудь!
И действительно, несколько дней спустя Риген нагнал его, когда он шел от автобусной станции к центральной площади. Майкл, по-видимому, ехал наверху и уже сидел там, когда он влез в автобус в поселке.
– Послушай, – сказал Риген, – ты сюда на весь вечер?
– Меня ждет друг, – сказал он и кивнул на горбатую фигуру Стивенса у магазина.
Майкл взглянул на Стивенса и отвел глаза.
– Ну, бывай, – сказал он небрежно и помахал рукой. Он был без трости, в дождевике с поднятым воротником. В шляпе его затылок казался еще более выпуклым. – Ты с Брюханом видишься? – добавил он.
– Нет, – сказал он.
– Надо бы нам как-нибудь встретиться всем… – Но он уже пошел через дорогу, и Колин не расслышал конца фразы.
– Что это за поразительный субъект? – спросил Стивенс.
– Один мой друг.
– Хэмфри Богарт, растянутый по вертикали, – добавил Стивенс с высоты собственного крохотного роста и продолжал с изумлением глядеть вслед исчезающей вдали фигуре, которая даже на таком расстоянии выделялась в вечерней толпе. – А чем он занимается?
– В настоящее время ничем.
– Боже великий, – сказал Стивенс. – Еще один вроде тебя.
– Ну, у меня в запасе не меньше недели, а то и двух.
– Но на вольных хлебах, на вольных хлебах, – сказал Стивенс.
А позже, когда он провожал Стивенса домой вниз под обрыв, в сторону реки, его друг, который весь вечер был в праздничном настроении, вдруг добавил:
– Я и сам, конечно, скоро все это брошу. Вырвусь из этого гнилого городишки, покину эти берега забвения. Я уже предупредил, что после конца триместра ухожу. Через два месяца я отбываю в Лондон. Поехали со мной.
– Мы все это уже обсудили, – сказал он. – И не один раз.
– У вас в запасе другие козыри, юный Сэвилл?
– Насколько мне известно, нет. Никаких, – сказал он.
– Все еще прикован условностями, благочестием, дурацкой покладистостью к семье, тебя породившей, отрок.
– Не думаю, чтобы я был к кому-нибудь прикован, – сказал он.
Стивенс несколько секунд напевал себе под нос. Сгорбленный, с втянутой в плечи головой, он в полумраке улицы напоминал черепаху, нюхающую воздух в поисках корма.
– Меня ты не обманешь, – сказал он наконец и добавил: – Я тебя насквозь видел с самого начала. Ты Паломник, увязший в трясине у врат Града. Взгляни на юг, Колин. Земля светла.
И правда, в ясном небе над ними сияла луна. Было начало лета.
В голубоватом сумраке улиц двигались фигуры прохожих. Город казался чистым и сверкающим.
– И что ты намерен делать? – спросил Колин.
– Сначала осмотрюсь. Наведу справки. У меня есть рекомендательное письмо к одному человеку на телевидении.
Колин засмеялся.
– Не презирай оружия пророков, – сказал Стивенс. – За телевидением будущее.
– Какое будущее?
– Мое, – сказал Стивенс. – Я намерен внести свою лепту в какую-нибудь программу, как в зрительной, так и в словесной форме излагая свои взгляды на темы дня. Например, новое появление Германии на мировой арене в качестве ведущей державы и сближение ее целей с целями Америки; возрождение Японии; неофилистерство послевоенной интеллигенции; соблазнение пролетариата вещизмом, еще более отталкивающим, чем тот, на который он поддался прежде; постепенный неосознаваемый упадок Запада и приближение неизбежной войны с Россией.
– Все это звучит крайне неправдоподобно.
– Таковы темы современности, – сказал Стивенс. – Вопросы, теснящие нас со всех сторон каждый божий день: распад личности; унификация восприятия; опошление человеческих взаимоотношений и побуждений; метемпсихоз буржуазии повсюду в мире; расплодившееся невежество, которое идет на смену века элитизма и еще при жизни нашего поколения будет править миром. А какую позицию занимаешь ты, – добавил он, – в отношении всего этого?
Колин шел, сунув руки в карманы. Стивенс, лицо которого было все в поту после вечерних возлияний, смотрел на него с улыбкой.
Они вышли на мост. Дом Стивенса стоял почти напротив, в узкой улице новых коттеджей на две семьи.
Луна отражалась в реке.
– Ну? Во что же веришь ты? – добавил Стивенс. Он оперся на парапет и посмотрел вниз: река изгибалась, как широкая, прихотливо подсвеченная магистраль между бесформенностью фабрик по берегам.
– Я верю в то, что надо поступать хорошо, – сказал Колин.
– Значит, ты-таки сентиментален.
– «Хорошо» совсем не в том смысле, какой ты вкладываешь в это слово. Совсем не в том, – сказал он.
– Да неужто ты не только идеалист, но вдобавок еще религиозный маньяк?
– Я вовсе не идеалист, – сказал он.
Наконец они расстались на углу улицы, где жил Стивенс – в одном из палисадников он увидел укрытый брезентом мотоцикл своего друга.
– Перед отъездом в Лондон я к тебе загляну, – сказал Стивенс. – Я утоплю тебя в письмах. «Я пришел поднять детей на их родителей» – говорит Христос в одном из наименее сенсационных Евангелий, и я, будь уверен, сделаю то же.
Колин перешел у моста на ту сторону шоссе и подождал своего автобуса. В верхнем салоне сидел Майкл.
– А, – сказал Риген и кивнул. – Я так и подумал, что это ты. Я тебя еще на шоссе увидел.
Они сидели рядом на длинном сиденье у ветрового стекла.
– Ты там разговаривал со своим другом?
– Да, – сказал он.
– А чем он занимается?
– Пока преподает в школе, – сказал он. – Но кажется, скоро уедет в Лондон.
– Я подумывал, не поехать ли туда в не слишком отдаленном будущем, – сказал Риген. – Для музыканта там может найтись что-нибудь подходящее, – добавил он. Воротник у него был расстегнут, и он снял шляпу, чтобы не задевать низкий потолок. – А к тому же у меня есть кое-какие связи.
– Ну, может, вы там встретитесь, – сказал он.
– О, не в тех кругах, в которых вращаюсь я, – сказал Майкл, сжимая и разжимая длинные пальцы маленьких рук, которые лежали на закрытых дождевиком коленях.
Небо потемнело – автобусные фары бросали широкие полукружия света на поблескивающее под луной шоссе впереди.
– Если бы я знал, что смогу найти подходящую квартиру, я бы сразу уехал из поселка, – добавил он. – Ты представить себе не можешь, до чего мне невыносимо там жить. Невозможно укрыться от соседей. Я, конечно, не про тебя. Ну, да ты всегда был исключением.
Колин молчал. Риген водил пальцами по шляпе, которую положил к себе на колени.
– Дело в том, что дом принадлежит шахте, и они не могут меня выселить, раз мой отец работал там. Одно время я думал, не купить ли его. Но потом решил, что уже не смогу его продать. Мы столько лет вносили квартирную плату, что ее хватило бы, чтобы купить десять таких домов. Ну, да и вы тоже, наверное, – добавил он.
Автобус, погромыхивая, катил по шоссе. С вершины холма они различили смутное зарево огней поселка, пересеченное силуэтом лесистой гряды.








