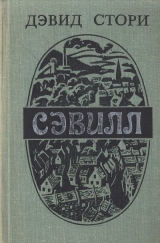
Текст книги "Сэвилл"
Автор книги: Дэвид Стори
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 35 страниц)
Сменный мастер отправил его в больницу на подводе с углем. Он пролежал три недели.
– Еще день, и ногу пришлось бы отнять. Врачи понять не могли, как я столько времени продержался.
– А как ты продержался? – спросил Колин. Теперь каждый день, когда он возвращался из школы, отец рассказывал ему новые подробности этого происшествия или других таких же.
– Работай ты на моем месте, сам бы знал как, – говорил отец и смеялся. – Выписали меня, и я прямиком на шахту, так, мол, и так, готов заступить на смену. «А я думал, Гарри, что ты умер, – говорит мастер. – Мы на твое место другого взяли». – «Это кого же?» – спрашиваю я. «Того самого, – говорит, – кто пришел сказать, что ты умер». Нет, ты только подумай. Ну, вызвал он его наверх. Ирландец это был, ростом с дом.
– И что он сказал? – спросил Колин.
– А что ему было говорить? – ответил отец. – «Вас двое, а место одно, – сказал мастер. – Даю вам пять минут, разбирайтесь сами как знаете». – Отец помолчал. – Мы пошли за контору, а через пять минут вернулся один. – Он весело смотрел на Колина и улыбался.
– А кто вернулся?
– Сам догадайся, – сказал отец и засмеялся. – Только с тех пор я так там и работаю. – Он захохотал, а мать не спускала глаз с его лица.
В молодости отец все время с кем-нибудь дрался и любил выпить. Из драк он всегда выходил победителем и, как бы ни был пьян, соображения не терял.
– Когда я с ним познакомилась, – говорила мать, – он был сущий дьявол. При одном его имени люди бежали домой и запирали двери.
– Это ты напрасно, – говорил отец. – Я всегда умел за себя постоять. Конечно, ростом я не вышел, но зато брал быстротой.
– Вот-вот, – говорила мать. – Особенно когда видел, что дело плохо.
Отец стукал палкой по столу и багровел.
– Я в жизни ни от чего не бегал. Никогда.
– Да-да, я знаю, – добавляла она и наклонялась к нему, чтобы поцеловать.
Отец часто сердился, но легко успокаивался.
Возможно, из-за этого случая он задумал уйти со своей шахты и устроиться на шахту в поселке.
Колин не мог себе по-настоящему представить, что его отец в самом деле работает под землей. Он ни разу не видел его шахты, хотя наслушался много рассказов и про нее, и про шахтеров, которые работали с отцом. Уолтерс, Шоукрофт, Пикерсгил, Томас – каждая фамилия вызывала в его мозгу особый образ. Высоченные силачи, которые почему-то именно из-за своей силы признавали главенство его отца, если случалось что-то опасное или неожиданное.
– Просто удивительно, как это без тебя шахта еще работает, – говорила мать, когда неделю спустя его истории начали ей надоедать. Придерживая Стивена на плече, она меняла ему подгузник, а потом опускалась на колени перед очагом, клала малыша перед собой и с булавками во рту смотрела на отца. За эти дни она очень окрепла, да и Стивен теперь по ночам почти не просыпался.
Отец вставал и шел к окну, покачиваясь на металлических опорах, опираясь на палку. Возможно, ему было обидно, что о его подвигах на работе, об обвалах, о людях, которых он спас, об инстинкте, который подсказывал ему, куда бежать, когда рушилась кровля, она узнавала только от него самого: Уолтерс, Шоукрофт, Пикерсгил, Томас – все они жили в других поселках. Пожалуй, это решило дело: все-таки тут и мистер Стрингер, и мистер Шоу, а может быть, и мистер Батти смогут рассказывать ей о том, как он чуть ли не каждый день совершает что-то, спасая человеческие жизни или поднимая производительность шахты.
Через несколько дверей от них жил мистер Риген. Он служил в конторе шахты и каждое утро выходил из дома в темном костюме, желтых перчатках, в котелке и со свернутым зонтиком. Он был высокий, краснолицый и говорил с легким ирландским акцентом. Каждое утро, когда он уходил на работу, его жена стояла со скрещенными руками у открытой двери, глядя ему вслед, пока он не скрывался за углом. Он никогда не махал ей, даже не оглядывался, но она продолжала стоять там, пока он не заворачивал за угол. Незадолго до его возвращения со службы она вновь появлялась в дверях, словно вовсе не покидала этого места, и придерживала дверь, когда он входил, уже снимая котелок. У них был один сын. Его звали Майклом, и он играл на скрипке. Сложением он пошел в миссис Риген – большая голова луковицей, узкое туловище, тощие ноги. Его отец, мистер Риген, словно его не замечал. По вечерам, когда на пустыре играли в крикет, мистер Риген без белого воротничка, в расстегнутом жилете стоял у забора в конце своего огорода и кричал:
– Бей, черт побери! Бей сильнее! – А из открытого окна позади него доносились звуки скрипки.
Его отцу мистер Риген очень правился. Он единственный на их улице работал не посменно, а в определенные часы, одевался, точно джентльмен, и как будто не обращал на свою жену ни малейшего внимания. Вечером в субботу он шел в Клуб все в том же костюме, котелке и перчатках и стоял у стойки в баре, сохраняя полную невозмутимость, сколько бы спиртного ни выпил. Шахтеры его побаивались: он составлял ведомости на заработную плату, он объяснял причины и сумму вычетов, и он знал заработок всех шахтеров в поселке. Кроме того, он затевал драку со всяким, кто, по его мнению, сказал что-то обидное или просто не так на него посмотрел.
Отец подробно описывал драки мистера Ригена, которые обычно следовали одной схеме. Чаще всего они разыгрывались в баре Клуба и неизменно начинались с какого-нибудь замечания в адрес мистера Ригена – насчет его котелка, который он снимал только в конторе или на пороге своего дома, его желтых перчаток, которые он тоже никогда не снимал, или свернутого зонтика, который он не раскрывал даже в дождь.
Оскорбившись, мистер Риген сначала ничем этого не выдавал. Он продолжал говорить, улыбаться или благодушно оглядываться по сторонам, затем в какой-то момент, определявшийся только им самим, ставил рюмку на стойку, но еще несколько секунд продолжал ее придерживать, словно опасаясь, что она исчезнет, едва он разожмет пальцы. Потом с той же невозмутимостью снимал котелок и клал его возле рюмки, затем стягивал правую перчатку и клал ее в котелок, стягивал левую и клал ее на правую и, наконец, поддергивал манжеты.
– Не вы ли это минуту назад, – говорил он, неторопливо поворачиваясь к оскорбителю, – сделали замечание относительно моей наружности?
Чаще всего тот оглядывался с недоумением, так как для него эта минута уже давно прошла.
– В таком случае, – говорил мистер Риген, – сейчас ваши зубы влетят вам в глотку.
Иногда тот утверждал, что никаких замечаний о наружности мистера Ригена не делал и вообще молчал.
Или же с улыбкой кивал и говорил:
– Ах так? И кто же это за вас постарается?
– Да вот, – говорил мистер Риген, – есть тут один такой.
По словам отца, который наблюдал за драками мистера Ригена прямо-таки с благоговением, мистер Риген редко наносил своему противнику второй удар – таким молниеносным и сокрушительным был первый. Если одного удара оказывалось мало, он бил еще раз, но обычно, нанеся свой первый удар, он на том же движении поворачивался к стойке, одергивал манжеты, натягивал перчатки, надевал котелок, сдвигал его набок точно по своему вкусу, вновь брал рюмку и допивал ее одним глотком.
Отец, когда начал выходить, много времени проводил в обществе мистера Ригена. Под вечер он становился у окна и ждал, когда мистер Риген покажется в конце улицы. Тогда он спускался в кухню и пятнадцать минут изнывал от нетерпения, давая ему время выпить чай и поглядеть газету, а затем выходил через черный ход, брел через дворы, покачиваясь на опорах и налегая на палку, стучал в заднее окошко мистера Ригена и кричал:
– Вы тут, Брайен? Не могли же вас уже выпустить!
Иногда мистер Риген возвращался с ним до их крыльца, клал на приступку сложенную газету и садился. Он был без воротничка, в расстегнутом жилете, и, когда наклонялся вперед, сзади открывались подтяжки.
Отец спорил с ним о его работе.
– Если б я работал столько часов, сколько вы, и только заклеивал конверты, заполнял бланки да считал чужие деньги, я бы тут же засыпал.
– Ну как же, – говорил мистер Риген, – мне это чувство знакомо. Но с другой стороны, киркой и лопатой размахивать может любой дурак. А для того, чтобы весь день посиживать и получать за это деньги, требуются мозги.
Отец кивал и смеялся, поглядывая в открытую дверь кухни на Колина и жену, точно ждал именно такого ответа и хотел, чтобы они его оценили в полную меру.
– Да и сами-то вы, – говорил мистер Риген, – тоже сейчас больше посиживаете. Обе ноги в гипсе и рука. Еще чудо, что так обошлось.
– Да, – говорил отец грустно. – Валяюсь, как старая баба.
– Ну, послушайте! – говорил мистер Риген. – До такой скверности дело все-таки не дошло.
Если мать возмущалась, мистер Риген наклонял голову и добавлял:
– Да что вы, миссис Сэвилл, не о вас речь. – Его акцент становился особенно заметным, и, мотнув головой в сторону собственного дома, он продолжал: – Но знаете, есть такие, которые весь день егозят тряпками – чуть не так ступишь, и готово, сломал шею, а своих сыновей одевают, точно девчонок, и заставляют их весь день пилить кошачьи кишки, пока уж и не разберешь, на каком ты свете.
Однако мистер Риген то ли из равнодушия, то ли из лени даже не пробовал ничего изменить. Он сидел на приступке или стоял у забора, подбадривал игроков в крикет и все больше багровел, но в конце концов, болтая руками, шел к себе домой. Иногда он выходил во двор со скрипкой и рубил ее на мелкие куски.
– Я тебе покажу, что я с ней сделаю, – кричал он. – И сейчас покажу, что я сделаю с ним.
Иногда он разделывался с одеждой сына, которую его жена шила сама, – рвал во дворе аккуратные костюмчики и яркие блузы, а потом топтал их, и лицо у него так наливалось кровью, что, казалось, вот-вот лопнет.
– Но зачем, собственно, я это делаю? – говорил он отцу. – Ведь оплачивать всю эту дрянь в конечном счете приходится мне же самому.
Всякий раз, когда отец спрашивал мистера Ригена, нельзя ли ему устроиться к ним на шахту, мистер Риген удивленно смотрел на него и говорил:
– И чего это вы, Гарри? Да расскажи я вам хоть немного, что там творится, вы бы к ней и близко не подошли.
– А, – говорил отец, – все шахты на один лад.
– Вот именно, – говорил мистер Риген. – Потому я и держался бы за то, что у меня есть.
Быть может, мистер Риген все-таки замолвил слово в дирекции. Однако когда отец пошел туда вскоре после того, как ему сняли гипс, он вернулся бледный и приунывший. Колин смотрел, как он идет по улице, раскорячивая ноги, чтобы не опираться на палку. Он вошел в дом, даже не взглянув в его сторону. Колин пошел за ним. Отец сидел на кухне, ссутулившись, положив руки на стол перед собой.
– Ты им нужен на своем месте, – говорила мать. – Они знают, какой ты ценный работник.
– Ценный? Никакой я не ценный. Вот завтра меня придавит, и сразу найдется кто-нибудь на мое место.
– А ты ведь всегда другое говорил, – напомнила она.
– Другое? – сказал он. – Что я говорил?
– Какой ты ценный работник. Как нужен на своем месте.
– Угу, – кивнул он, не отрывая взгляда от стола. – Говорить-то я говорю. Иначе что я такое? Кусок шлака, и все.
В конце концов он вернулся на старую шахту. Он уже давно ходил без палки и совсем перестал хромать, но его движения оставались медлительными, точно какая-то часть его жизни отмерла.
7
Он начал ходить в воскресную школу. Он ходил туда с соседским мальчиком, фамилия которого была Блетчли.
Раньше его мать и миссис Блетчли не поддерживали знакомства. Миссис Блетчли чем-то напоминала миссис Шоу, их соседку с другой стороны. Хотя в комнатах у нее не висели медные тарелки, зато на полу были коврики и дорожки, на окнах – тюлевые занавески, а на том окне, которое выходило на улицу, стояло растение с плоскими зелеными листьями – оно никогда не цвело и как будто даже не росло. Мистер Блетчли не работал на шахте – таких в их домах было немного. Он служил на станции, и, приходя туда, Колин иногда видел, как мистер Блетчли с длинным шестом в руках руководит сортировкой товарных вагонов на боковых путях или расхаживает между рельсами. Он был маленького роста, с землистыми щеками и никогда ни с кем не разговаривал.
Миссис Блетчли тоже была маленькая и всегда улыбалась. Она сторонилась всех соседок, кроме миссис Маккормак, которая жила с другой стороны. Миссис Маккормак стояла, скрестив толстые руки, и кивала, когда миссис Блетчли окликала ее со своего крыльца. Выбора у миссис Блетчли не было: если она утром или вечером почему-нибудь не выходила на крыльцо, миссис Маккормак шла к ней сама, стучала в дверь, а потом стояла, как всегда молча, и слушала миссис Блетчли.
Их сына звали Йен. Он был толстый, и всю одежду ему шила мать. Короткие штаны из серой фланели при каждом шаге вздергивались, открывая колени. Он ничем не интересовался, только стоял на заднем крыльце, сосал большой палец и глядел, как ребята играют на пустыре.
Его жирное туловище завершала несоразмерно большая голова. Черты лица были словно собраны к линии носа, а по обе ее стороны лежали огромные складки жира. Ноги у него тоже были жирные – плоские сзади и плоские спереди, они только чуть-чуть закруглялись сбоку. При ходьбе его колени терлись друг о друга, и кожа с внутренней стороны всегда была воспаленной. Каждое утро перед тем, как он шел в школу, миссис Блетчли смазывала ему колени мазью.
Дважды в месяц по субботам, если погода была ясная, она выносила во двор жесткий стул, мистер Блетчли садился на приступку, а их сын на стул, и миссис Блетчли подстригала ему волосы, придерживая их над ушами гребенкой. Он часто плакал. Колин по утрам и по вечерам слышал, как он плачет, а когда его стригли, он то и дело взвизгивал, вскакивал со стула и безуспешно пытался лягнуть мать.
– Ты меня порезала, ты меня порезала! – вопил он.
– Нет, миленький, – говорила миссис Блетчли. – Это тебе показалось.
– Порезала, порезала! Мне больно!
– Это тебе показалось, миленький. Дай я посмотрю.
– Не дам.
– Я же не могу тебя стричь не глядя.
– И не стриги!
Он убегал в дом – его колени уже пылали оттого, что он ерзал на стуле. Мистер Блетчли вставал, чтобы посторониться, и иногда садился на стул сам.
– Дадим ему минутку-другую, миленький, – говорила его жена и продолжала стоять в ожидании или сметала в кучку клочки волос.
– Будь он моим, – говорил отец Колина, глядя на них с крыльца или из окна, – я бы ему всю задницу разукрасил.
– Так ведь он не твой, – отвечала мать.
– Еще как расписал бы. Он бы у меня знал!
Как-то раз, когда отец работал в огороде, он крикнул миссис Блетчли:
– Чокнутая вы, хозяйка, как лошадь на бечевнике.
– Что? – спросила миссис Блетчли.
– Нашлепали бы вы его как следует.
Мистер Блетчли смотрел в сторону.
– Да что же, – сказала она. – Надо терпение иметь.
– Надо-то надо, – сказал отец и покачал головой. – Да только до каких пор?
Но его мать решила, что ему следует ходить в воскресную школу с Блетчли. Она несколько раз видела, как он после обеда в воскресенье уходит в церковь – серый костюмчик с галстуком в красную полоску, аккуратно смазанные коленки, – и как-то вечером сказала:
– Что бы ты про Йена ни говорил, а он всегда такой чистенький!
– И свиной хлев тоже чистый, – сказал отец, – пока он стоит пустой.
– Ну, – сказала она, – от церкви только польза может быть.
– Кому? – сказал отец. – Мне или ему?
– Колину, – сказала она.
Они оба посмотрели на него. И сразу отвели глаза.
– Не хочу я туда ходить, – сказал он.
– Конечно, – сказал отец. – Только ведь ты много чего не хочешь.
– Это тебе полезно будет, – сказал мать. – Пойдешь с Йеном. Я поговорю с его матерью.
Через два воскресенья он отправился в церковь с Блетчли в своем праздничном костюмчике, который после рождения Стивена ни разу не надевал.
Почти всю дорогу Блетчли молчал. На ходу его ноги мягко терлись друг о друга и штанины тихо шуршали. Он пыхтел, иногда шмыгал носом, словно его заложило, и все время держался чуть впереди, как будто не хотел, чтобы его видели рядом с кем-то. С родителями по улице он ходил точно так же.
Когда Блетчли увидел, что Колин ждет его у крыльца, он очень удивился. Спрятанные в складках жира глаза были полны угрюмого раздражения. Только когда они прошли шахту и начали подниматься на холм мимо Парка к церкви, Блетчли обернулся и сказал отдуваясь:
– Ты в бога веришь?
– Да, – сказал он и кивнул.
– А какой он с виду? – сказал Блетчли, остановился и поглядел на него.
По ту сторону дороги, в Парке, который мало чем отличался от пустыря, на площадке для игр качался на качелях Батти – одной ногой он отталкивался от земли, а другой пинал Стрингера, который качался рядом.
– Ну, старый такой, – сказал Колин.
Блетчли смерил его взглядом и сказал:
– А ты его видел?
– Нет, – сказал он.
– Если ты не веришь в бога, тебя туда и на порог не пустят.
– Угу, – сказал он и добавил: – Так я ведь скажу, что верю.
– Тебя пошлют к священнику, и он у тебя все выведает.
Блетчли еще раз смерил его взглядом, повернулся и молча пошел дальше.
Стрингер крикнул с качелей:
– Ты куда?
– В церковь, – крикнул он в ответ.
Стрингер кивнул, поглядел на Батти, но больше ничего не сказал.
Ученики воскресной школы были разделены на два класса. «Христовы воины», одиннадцати лет и старше, сидели в церкви под сенью знамен, прибитых по сторонам скамей. На каждом знамени была эмблема либо святого, либо апостола: птичка означала святого Франциска, а две рыбы с глазами как шарики – святого Петра. Младшие занимались в церковном зале, маленьком каменном здании позади церкви, бывшем сарае с дощатым полом и неоштукатуренными стенами. В глубине зала в большом очаге пылал огонь, и, пока шли занятия, щуплая женщина с красными глазами подсыпала в него совком уголь, в лицо ей клубами валил дым, и она утирала платком глаза и нос, точно плакала.
Дети сидели на деревянных стульчиках, расставленных кругами. Каждый круг находился под надзором молодого человека или молодой женщины, а за ними самими надзирала жена священника, низенькая полная женщина, почти такая же бесформенная, как Блетчли, и в очках с толстыми стеклами, прятавшими глаза. Их учителем был мистер Моррисон, высокий и худой, с длинной худой шеей и длинным худым лицом. На щеках у него багровели россыпи прыщей. Справа от него сидел Блетчли, держал его Библию и молитвенник и подавал их ему в нужную минуту с сосредоточенным, почти торжественным видом. Сначала они под присмотром жены священника пропели духовный гимн, а потом взялись за руки и прочитали хором несколько молитв, кое-кто даже наизусть. Потом спели еще один гимн, сели, и мистер Моррисон рассказал им историю про человека, который пошел ловить рыбу.
Учителя в остальных группах тоже рассказывали истории. Некоторые дети поглядывали на Колина, другие сидели, подсунув под себя ладони, и смотрели на стены или на потолок.
Старые балки там были такими темными и корявыми, что казались стволами деревьев с неободранной корой. Они сохранились со времен сарая, и с некоторых свисали веревки, точно оставшиеся от каких-то украшений. Время от времени дети по одному или по двое выходили в уборную, а вернувшись, садились, чинно складывали руки и смотрели в потолок. На всех были праздничные костюмчики или платьица и начищенные ботинки.
Блетчли внимательно слушал мистера Моррисона, вывернув шею в тугом воротничке, чтобы следить за его губами. Едва мистер Моррисон задавал вопрос, Блетчли поднимал руку, и хотя некоторое время мистер Моррисон не замечал ее, как ни шептал Блетчли: «Сэр, сэр!», но в конце концов он все-таки поворачивался к нему и слегка кивал, старательно глядя мимо Блетчли, а тот опускал руку, откашливался и отвечал, обращаясь к полукругу лиц перед собой.
Когда мистер Моррисон кончил говорить, он посмотрел на свои часы, на жену священника, которая беседовала со своей группой у очага, потом взял у Блетчли Библию, раскрыл на заложенном месте и отдал назад.
Блетчли положил Библию на воспаленные колени, нагнулся и начал читать, водя по строчкам пухлым пальцем. Запнувшись на каком-нибудь слове, он несколько раз быстро наклонял голову, прочитывал его и с улыбкой глядел на мистера Моррисона.
Наконец жена священника поднялась со стула в своем конце зала, и был объявлен последний гимн. Блетчли обошел круг, открывая нужную страницу для тех, кто не умел читать, и тыкая пальцем в номер. Мистер Моррисон стоял рядом со своим стулом, сморкался, прижимал платок к прыщам, а потом смотрел, остался на платке след или нет.
Когда раздались звуки рояля, Блетчли запел громким голосом, почти завопил, задирая голову, чтобы показать, что знает гимн наизусть. Те, кто не умел читать и наизусть гимна не знал, просто смотрели на страницу и иногда открывали рот, без слов подпевая музыке.
После окончания гимна им велели положить книги. Блетчли уже закрыл свою перед последней строфой, повернулся, пока все еще пели, положил ее на стул, повернулся обратно, продолжая петь, и до конца стоял с полузакрытыми глазами, тупо глядя в потолок.
Прочли заключительную молитву, жена священника подождала, пока все закрыли глаза и сложили ладони, затем их благословили, женщина у рояля заиграла медленную мелодию, каждый взял свой стул и отнес его к стене. Блетчли и еще двое мальчиков постарше начали складывать сборники гимнов и Библии, а учителя отошли в конец зала и стояли там спиной к огню, грея руки.
Когда Колин вышел наружу, сияло солнце и ветер дул с полей ему в лицо. Одни дети столпились у дверей церкви, ожидая старших братьев и сестер и подбирая конфетти, оставшиеся после свадьбы накануне, другие побежали вниз по склону мимо Парка к поселку.
Батти все еще сидел на качелях, а Стрингер стоял сзади и раскачивал его.
– Эй! – крикнул Батти, и Колин вошел в калитку. Несколько учеников воскресной школы уже стояли возле качелей и карусели, дожидаясь разрешения Батти.
– Эй, – сказал Батти. – И часто ты туда ходишь?
– Сегодня в первый раз, – сказал он.
– А кто тебе велел? Твой старик?
– Нет, – сказал он.
Батти кивнул и сказал:
– Ладно, Стрингер, хватит.
Стрингер схватил цепи и остановил качели.
Батти спрыгнул на землю, а Стрингер сел, снял башмак и сунул руку внутрь. Его босая подошва чуть ниже большого пальца была вся в крови.
– А что вы там делаете? – спросил Батти. – Про бога разговариваете?
– Да, – сказал он.
– Мой старик, – сказал Батти, внимательно в него вглядываясь, – верит в бога. – Он продолжал смотреть на него, но ничем не подкрепил своего утверждения, а потом повернулся к детям у карусели. – Кататься пришли?
– Да, – сказали они.
– Ладно, – сказал он. – Пять минут.
Стрингер надел башмак и снял другой. На скамье в дальнем конце Парка сидел сторож, старый шахтер с деревянной ногой, и читал газету, положив деревяшку на соседнюю скамью.
– Эй, Жирный! – крикнул Батти, увидев Блетчли. Он шел чуть позади мистера Моррисона и пес его Библию. Рядом с мистером Моррисоном шла красноглазая женщина.
Блетчли не обернулся и по-прежнему смотрел на мистера Моррисона и на женщину.
– Эй, Стрингер, – сказал Батти. – Ты же собирался вздуть Жирнягу Блетчли.
– Да, – сказал Стрингер и, сморщившись, натянул второй башмак.
Теперь по воскресеньям у Колина совсем не оставалось свободного времени. Отцу выдали форму, когда ноги у него были еще в гипсе, и хотя он тогда с горьким смешком говорил матери, что формой-то его снабдили, но надеть ее ему уже никогда не доведется, и, разложив ее на кухонном столе, поглаживал, точно собаку, теперь утром по воскресеньям он в форме шел через поселок бодрым шагом, совсем не прихрамывая, и на рукаве у него красовалась нашивка, которую он недавно получил, возможно, из-за своих переломов. Колин шел рядом с ним или чуть позади и катил перед собой коляску. Исполнение этого долга соединялось с двумя несомненными удовольствиями – он смотрел, как отец участвует в учениях, и исследовал старый дом. После обеда он шел в воскресную школу, и только после чая у него выпадал свободный час.
Он почти не замечал малыша, который уже научился сидеть и во время прогулок невозмутимо смотрел по сторонам большими голубыми глазами, а иногда махал ручонками. Дома он сидел на полу, переворачивал игрушки, тянулся к какой-нибудь, пытался встать, падал и принимался плакать, лежа на животе. Мать теперь приучала его держать ложку, и каждое утро его торжественно сажали на горшок.
Отец с тех пор, как снова начал работать, как-то приутих. По вечерам он иногда еще выходил на пустырь играть в крикет, но чаще сидел в кухне у стола и рисовал.
Он принес домой большой блокнот в клеточку, черный карандаш, деревянную линейку и резинку. Когда он раскладывал листы на кухонном столе и начинал рисовать, его щеки надувались и краснели, особенно если он ошибался, и, прикусив язык, стирал неверные линии, а потом смахивал ребром ладони бумажные катышки.
Сначала было неизвестно, что он рисует. Кончив, он убирал листы в ящик и каждый раз напоминал матери, чтобы без него к ним никто не прикасался. Однако потом, когда он стал стирать гораздо меньше и уже надписывал рисунки, иногда спрашивая, как пишется то или иное слово, и чертил жирные стрелки от одной стороны листа до другой, он объяснил им, что это – изобретение, которое он придумал на работе. Наклонив голову набок, он оглядывал листы, прищурившись и медленно облизывая нижнюю губу, потом разложил их на столе, осторожно нагнулся и поставил на каждом в верхнем левом углу номер – от первого до шестого.
Первый рисунок изображал стоящий на земле самолет. Это был бомбардировщик; и на правом и на левом крыле было тщательно нарисовано по мотору. Под самолетом лежала большая бомба, а рядом – свернутая кольцами толстая цепь.
На втором рисунке тот же самый самолет взлетал. Жирные штрихи по краям листа показывали, что это происходило ночью, и между штрихами были аккуратно размещены звезды и большой месяц, словно прищуренный глаз. Отец рисовал не очень умело: одно крыло довольно беспомощно задиралось от фюзеляжа вверх, несмотря на множество полустертых попыток исправить эту несообразность, а крутящийся пропеллер одного из моторов был почти таким же большим, как само крыло.
На третьем рисунке летела эскадрилья самолетов. На каждом фюзеляже и на каждом хвосте были тщательно выведены свастики. Эскадрилья занимала правую сторону рисунка, и ряд черных точек за ней указывал, что там летит еще много самолетов. На левой половине рисунка, несравненно превосходя величиной все остальные детали, располагался бомбардировщик. Он, как показывала большая отретушированная стрела, летел чуть выше самолетов, приближавшихся справа. На его хвосте, на фюзеляже и на обоих крыльях была нарисована круглая эмблема Королевских военно-воздушных сил, а над нижним краем листа, точно травинки, торчали лучи прожекторов.
Под самолетом на цепи свисала бомба с круглой эмблемой Королевских военно-воздушных сил и надписью печатными буквами: «ЭТО ТЕБЕ, АДОЛЬФ». Несколько пометок и стрелок показывали, что бомба спущена точно на высоту приближающейся эскадрильи.
Четвертый рисунок пострадал от исправлений значительно больше других – бомба изображалась в разных положениях, пока наконец она не заняла заключительную позицию прямо перед носом ближайшего самолета, из которого выглядывали встревоженные лица нескольких немцев со свастикой на рукавах.
Пятый рисунок был весь занят изображением последовавшего взрыва. Языки пламени и зазубренные куски металла разметались по листу, а по краям на землю падали обломки хвостов, крыльев и выпотрошенных фюзеляжей. Пометки на полях подтверждали эффективность взрыва и сообщали не только число уничтоженных самолетов, но также число погибших вражеских летчиков и бомб, взорвавшихся в бомбовых отсеках. Последний рисунок служил еще одним подтверждением: на нем с ясного неба на землю валились самолеты. Их было не меньше десятка, на них повсюду плясал огонь, и за каждым искореженным самолетом тщательно выведенными спиралями, клубами и завитушками тянулся дым. Над ними почти у верхнего края листа летел творец этого хаоса разрушения и смерти, одинокий бомбардировщик с эмблемой Королевских военно-воздушных сил на фюзеляже и хвосте: под ним все еще болталась цепь, а из кабины высовывалась рука величиной с хвостовое оперение, поднимая вверх среди множества стертых вариантов указательный и средний пальцы в знаке V – победа.
Отец отослал рисунки в большом конверте из оберточной бумаги, тем же черным карандашом написав адрес печатными буквами на обеих его сторонах. Вверху он вывел: «Частное», но перед тем как отнести письмо на почту, зачеркнул это слово и вместо него написал: «Величайшей важности», предварительно попрактиковавшись на черновом листке.
Через некоторое время, когда он уже перестал надеяться на ответ и начал рисовать заново, намного увеличив размеры бомбы и число падающих самолетов, и заранее приготовил конверт с надписью красными чернилами «Срочное!!», ему пришло письмо с официальным грифом, под которым сообщалось, что его рисунки «рассматриваются».
День за днем он захватывал письмо с собой на работу и каждое утро приносил его обратно чуть более грязным и потертым на сгибах, а по вечерам брал письмо и копии рисунков, шел через дворы, останавливался у каждой двери и объяснял мистеру Шоу, мистеру Стрингеру, мистеру Ригену, мистеру Блетчли, а один раз даже мистеру Батти принцип своего изобретения. На следующей неделе он принес из конторы новый блокнот и начал рисовать второе изобретение, на этот раз подвешивая под самолетом не одну, а несколько бомб на разной высоте, точно приманку на перемете.
Кульминацией этой серии стал рисунок, занявший весь кухонный стол. Несколько листов клетчатой бумаги он склеил в один – склеенные края бугрились и были украшены отпечатками большого пальца, – и на нем, чертыхаясь и охая, совсем багровый, чуть не откусив себе язык, он нарисовал целую тучу самолетов. Под каждым были подвешены разнообразные бомбы, некоторые настолько большие, что их тащили два, а то и три самолета, и на боках у них надпись печатными буквами гласила: «ЭТО ТЕБЕ, ФРИЦ».
Он аккуратно сложил рисунок, запечатал красным сургучом, отослал и, ободренный признанием, взялся за другие изобретения. По мере того как время шло, а газеты продолжали молчать о нем, его идеи становились все сложнее и богаче, достигнув высшего взлета в пуле, которая, по его расчетам, могла огибать углы. Она имела форму шарика и выбрасывалась из нарезного ствола таким образом, что летела по кривой и при достаточной скорости должна была вернуться в исходную точку.
– Но ведь тогда она убьет того, кто выстрелил? – спросила мать.
– Это еще почему? – сказал он, раздражаясь, как всегда, когда ему приходилось защищать свои изобретения. – У нее же на пути что-нибудь да окажется. Ну, и в любом случае можно снизить дальнобойность – надо только уменьшить заряд в патроне.








