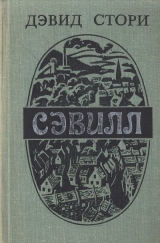
Текст книги "Сэвилл"
Автор книги: Дэвид Стори
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 35 страниц)
– Ах так, – сказала она, кивнула и поглядела на стреляющие за углы многочисленные фигуры, которые нарисовал отец.
Порой, когда поток идей иссякал, он откладывал карандаш, вставал из-за стола, потягивался перед огнем, откинув голову и сжимая над ней кулаки, потом проверял, приготовлена ли его рабочая одежда – рубашка, носки и башмаки разложены у очага, брюки и куртка висят рядом на гвозде, – выходил на крыльцо и закуривал сигарету.
Оттуда было всего несколько шагов до конца огорода, до пустыря, где шла игра в регби. Он стоял у забора, заложив руки в карманы, курил, иногда окликал игроков и наконец оглядывался на дом, перелезал через забор и пинал мяч, когда он падал рядом.
Через несколько минут он уже был на середине пустыря, махал руками, кричал, не выпуская сигареты изо рта, хохотал, а увидев мяч у своих ног, швырял сигарету, бежал, лавируя, к тем воротам, которые были ближе, бил по ним и вопил:
– Гол! Гол! Что я вам говорил?
Бегал он, чуть согнув ноги, и отчаянно вскидывал их, если терял мяч или его у него отбирали. Тогда он кричал: «Неправильно!», и его голос, воинственный и обиженный, выделялся среди всех остальных.
Потом, когда смеркалось, игроки усаживались посреди пустыря. Становилось совсем темно, и видны были только огоньки их сигарет, да время от времени вспыхивала спичка. В тишине их голоса доносились до домов, как неясный ропот. Мать выходила на крыльцо и звала негромко:
– Гарри! Гарри! На работу опоздаешь.
Он входил в кухню, еще ослепленный темнотой, с зелеными пятнами на локтях и коленях, нетерпеливо нагибался у огня, надевал рабочую одежду, зашнуровывал башмаки и ворчал:
– Нет, я полоумный, что работаю по ночам.
Он брал рюкзак, в который мать уже уложила бутылку с чаем и бутерброды, выводил велосипед, ощупывал шины, включал динамо фонарика и уезжал, окликая приятелей, которые все еще сидели в темноте на пустыре.
8
В воскресную школу с Блетчли и Колином начал ходить Майкл, сын мистера Ригена. Он был высокий, с длинным худым лицом и длинным носом. Глаза у него были белесо-голубые, как у мистера Ригена. Когда они вместе шли по улице, люди смеялись, такой один был толстый, а другой тощий. Риген этого как будто не замечал, но Блетчли нетерпеливо ускорял шаг, и от этого его колени становились все краснее. Когда они возвращались из воскресной школы, Риген шел по одну сторону мистера Моррисона, Блетчли – по другую, а красноглазая женщина держалась немного впереди или сзади.
На третье воскресенье Риген взял с собой скрипку. Так ему велела жена священника, и перед началом службы она объявила, что один мальчик принес свой инструмент; Риген вышел из-за своего стула и подал ей футляр, а она подняла его повыше, чтобы все видели.
Скрипка была похожа на большой красновато-коричневый глянцевитый орех в ложбинке из зеленой бязи. Риген две недели разучивал духовный мотив, и, когда был объявлен последний гимн, он встал рядом с роялем и вынул скрипку из футляра.
Дети молча смотрели на него. Он подложил под подбородок сложенный носовой платок, наклонил голову, чтобы его прижать, а потом уперся в него скрипкой.
Блетчли не спускал с него глаз. Когда они шли сюда, он вдруг пнул футляр ногой и сказал:
– Священник ее у тебя отберет. С такими вещами туда входить запрещается.
– Мне миссис Эндрюс велела, – сказал Риген, имея в виду жену священника.
– А она не священник, – сказал Блетчли. – И если она не делает того, что велено, он дает ей жару.
Однако теперь Блетчли смотрел на него с улыбкой. Потом он сморщился, сощурил глаза, поглядел на мистера Моррисона, снова сморщился и уставился в потолок.
Глаза Ригена раскрывались все шире, он скашивал их на скользящий по струнам смычок, вдруг останавливался и вздрагивал всем телом, если мелодия скрипки расходилась с роялем. А когда дети, а главное, Блетчли начинали петь, ее звуки замирали.
Блетчли пел, закрыв глаза, повернув лицо в сторону скрипки, задрав голову, точно обращался прямо к Ригену.
На обратном пути он снова пнул футляр.
– Будешь так ее таскать, она у тебя разобьется, – сказал он. – А спорим, на рояле ты все равно играть не умеешь!
– Нет, – сказал Риген.
– А мой двоюродный брат умеет, – сказал Блетчли.
Несколько дней спустя Колин увидел, что Блетчли и Риген играют на пустыре за домами. Риген вез Блетчли на спине. Его тощее тело сгибалось под тяжестью, подбородок почти касался колен. Блетчли бил его по ногам палкой, покрикивал «но-о! но-о!» и щелкал языком. Они обогнули яму с осыпавшимися краями.
Через несколько минут мистер Риген прошел через свой огород. Он только что вернулся с работы и был еще в желтых перчатках и котелке. Только расстегнутые пуговицы пиджака показывали, что он вернулся домой.
– Эй! – крикнул он и, когда Блетчли оглянулся, добавил: – Слезай с него.
– Что? – сказал Блетчли.
– Слезай с него, – крикнул мистер Риген.
Блетчли слез и остановился, глядя на мистера Ригена.
– Майкл, – крикнул мистер Риген. – Садись ему на спину.
Риген, нагнувшись, растирал ноги, побагровевшие от ударов палки.
– Садись ему на спину! – крикнул мистер Риген.
Блетчли стоял неподвижно, не спуская глаз с мистера Ригена, а Риген хватал его за плечи, пытался влезть ему на спину, но у него ничего не получалось.
– Присядь, – крикнул мистер Риген и махнул рукой.
– Что? – сказал Блетчли.
– Нагнись.
Блетчли немного пригнулся, по-прежнему глядя на мистера Ригена, и Риген кое-как взобрался ему на спину. Блетчли стоял, покачиваясь, ухватившись за ноги Ригена.
– Отдай ему палку, – крикнул мистер Риген и, когда Блетчли отдал палку, снова крикнул: – А ну, пошел.
Блетчли пошатнулся, вздернул Ригена повыше и, с трудом удерживая равновесие, побрел по кругу.
– Стукни его, – сказал мистер Риген.
Риген поднял голову, глаза у него были большие и круглые, словно он играл на скрипке.
– Стукни!
Риген махнул палкой позади себя и ударил Блетчли по ногам.
– Ой! – вскрикнул Блетчли и сморщился.
– Быстрей, – крикнул мистер Риген.
– Не могу, – сказал Блетчли и захныкал.
– Быстрей, не то я сам сейчас к вам выйду.
Блетчли побежал, щеки у него тряслись, колени терлись друг о друга.
– Ой! – вскрикивал он. Всякий раз, когда мистер Риген отдавал новую команду, он вскрикивал все громче, стараясь, чтобы его услышали дома.
– Быстрее, – командовал мистер Риген. Он весь покраснел, словно следил за игрой в крикет, и заложил большие пальцы в жилетные карманы. – Быстрее, не то я сам тебя огрею.
Блетчли упал.
Он испустил громкий вопль и свалился набок. Глаза его были зажмурены, рот открыт. Он стонал и держался за лодыжку.
– Ой, – сказал Блетчли. – Я сломал ногу.
– Я тебе и вторую сломаю, если ты еще хоть раз возьмешься за свое, – сказал мистер Риген. – Вставай, не то я сам тебя подниму.
Блетчли встал. Он снова застонал и зажмурил глаза, задрав голову.
– Я иду домой, – сказал он, добавив еще что-то, чего мистер Риген расслышать не мог, на всякий случай оглянулся и захромал к своему забору, раскинув руки для равновесия, испуская стоны и гримасничая.
– Если ты еще раз попробуешь его возить, – сказал мистер Риген сыну, – я сам тебя изукрашу. Он тебя бьет палкой, и ты его бей.
– Хорошо, папа, – сказал Риген.
Блетчли, старательно сохраняя страдальческий вид, перелез через забор, испустил стон, снова захромал и, морщась, словно от невыносимой боли, побрел через огород к дому.
– Мам! Мам! – закричал он, подходя к крыльцу. – Мам! – взвизгнул он в последний раз и, когда дверь открылась, рухнул на ступеньки.
Однако после этого Блетчли и Риген стали неразлучны. Каждое утро они вместе шли в школу одинаковым медленным шагом, на спинах у них были одинаковые ранцы, и в каждом лежали яблоко, пузырек чернил, который часто разбивался, и ручка. Иногда их матери стояли, разговаривая, на улице или одна из них шла к другой мимо палисадников. Некоторое время спустя они уже вместе ходили к утренней службе. Иногда их сопровождал мистер Блетчли в коричневом костюме, а потом с ними начали ходить и Блетчли с Ригеном. Порой было слышно, как мистер Риген кричит им что-то из окна спальни, когда они проходят мимо.
– Они в церковь пошли, Гарри, – говорил он, пройдя дворами до их заднего крыльца, на котором, читая газету, сидел отец. – Она каждый вечер ставит парня на колени перед кроватью.
– На колени? – сказал отец.
– Молиться заставляет.
– Ну что же, – сказал отец. – От молитвы вреда не бывает.
– И пользы тоже, – сказал мистер Риген. – Сама дура и из него дурака делает.
– Ну что же, – повторил отец, не отрывая взгляда от газеты. – Заранее ведь не угадаешь. – На этот раз он был не склонен вступать в разговоры.
– Вот-вот, – сказал мистер Риген. – Как ни крути, а будет то же самое.
По воскресеньям мистер Риген ходил без пиджака, расстегнув все пуговицы жилета, кроме последней, но в рубашке с крахмальным воротничком и в галстуке цветов школы, в которой он когда-то учился. Тонкая золотая цепочка тянулась от верхней пуговицы жилета до верхнего левого кармана.
– Только на конце-то просто кусок булыжника, – говорил отец. – Я точно знаю.
После того как ему не удалось устроиться на шахту в поселке, его восхищение мистером Ригеном поостыло.
– Риген человек хороший, – говорил он. – Только почему он жалуется, а делать ничего не сделает?
– Жены боится, – сказала мать. – Он всех женщин боится, в том-то и дело.
– Женщин? – Отец засмеялся и с недоумением поглядел на нее. – Да если бы он их боялся, – добавил он, все еще смеясь, – так перед мужчинами и вовсе хвост поджимал бы. А этого за ним не водится. Сколько лет я его знаю.
Мать кивнула, но ничего не ответила.
Услышав это объяснение, отец на некоторое время снова почувствовал к мистеру Ригену прежнее уважение и по утрам в воскресенье, когда миссис Риген и Майкл уходили в церковь, даже шел к нему через дворы, и они сидели рядом на крыльце, смеялись тому, что вычитывали из газеты, а иногда к ним присоединялся мистер Стрингер или мистер Батти, и чуть позже все они шумной компанией отправлялись в Клуб.
Именно мистер Риген подал мысль, что Колину следует готовиться к отборочным экзаменам. В случае успеха он сможет поступить в следующем году в городскую классическую школу, а если он не доберет баллов, то можно будет попробовать еще через год. Если же у него ничего не получится, то он поступит в обычную среднюю школу на другом конце поселка – кончавшие ее почти все шли работать на шахту.
– Риген верно говорит, – сказал отец. – Ты хочешь, чтобы он стал таким, как я или как Риген, получал бы деньги за то, что весь день просиживает задницу? Я бы знал, что выбрать.
– Мистер Риген работает, – сказала мать. – Просто это другая работа, вот и все.
– Ну ладно, – сказал отец. – Кому и судить, как не тебе. Ты же у нас образованная.
Мать в отличие от отца училась в школе до пятнадцати лет. В комоде наверху хранилось свидетельство, сообщавшее гравированным каллиграфическим почерком, что она преуспела в родном языке, естествознании и домоводстве.
– Однако задания для подготовки к экзаменам ему давал отец – едва мать предлагала какую-нибудь тему для сочинения, отец обходил стол со словами: «Это его ничему не научит», твердо клал на лист маленькую мозолистую руку, всю в ссадинах, с ногтями, черными от угля, и печатными буквами, фыркая и пыхтя, выводил у верхнего края: «ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ», «ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА», «ПОЕЗДКА НА АВТОБУСЕ». Часто он стоял позади его стула, дожидаясь, пока он начнет, а тогда слегка нагибался и смотрел, как на бумаге появляются слова. Или отходил в сторону, насвистывая сквозь зубы, и, подождав немного, кричал:
– Будешь столько времени раскачиваться, так, черт подери, экзамен кончится, прежде чем ты начнешь!
– Надо же ему подумать, – говорила мать. – А оттого, что ты стоишь у него над душой, толку все равно не будет.
– А если я не буду стоять у него над душой? Он и не начнет даже. – Но он все же отходил, подхватывал на руки Стивена, который уже умел бегать, поднимал его повыше и говорил: – Вот когда ты возьмешься за учебу, только искры полетят. Мы им еще покажем. Черт подери, так оно и будет.
У Стивена были отцовские голубые глаза, но лицо круглое, как у матери, с таким же вздернутым носом и таким же выражением – словно внутри пряталось застенчивое, почти немое существо и робко выглядывало наружу. Он начинал говорить, и мать, когда давала ему что-нибудь, несколько раз повторяла название предмета и кивала. А играя во дворе с малышами из соседних домов, Стивен разговаривал совсем свободно – он бегал, вскидывая короткие, чуть кривые ножонки, и кричал: «Моя! Моя!», или какому-нибудь мальчишке постарше: «Брось! Брось!»
– Скажи «Колин», – просила мать.
– Колин, – говорил он, задирая голову и сосредоточенно сдвигая брови.
Пока Колин дописывал сочинение, отец обычно уже начинал собираться на работу и, натягивая брюки или застегивая рубашку, заглядывал ему через плечо, чтобы проверить, много ли он написал, перевернул ли страницу. Он глядел на строчки ровных, неторопливо выведенных букв и говорил:
– Две страницы! За десяток слов тебе никто отметки не поставит.
– Да оставь его в покое, – говорила мать.
– Нет уж! – говорил отец. – Если человека оставлять в покое, он никакого образования не получит.
Он принес из конторы красный карандаш, чтобы проверять сочинения, и в ожидании нетерпеливо чинил его над огнем, оборачивался и спрашивал:
– Ну, кончил? Мне через полчаса на работу. – Он взглядывал ему через плечо, смотрел на часы и говорил: – Вот допишешь это предложение, и хватит!
Не успевал Колин встать, как он садился на его стул и добавлял:
– Ты не уходи. Будем разбирать ошибки.
Он читал, прищурившись, кривя губы, а когда сомневался, то оборачивался и спрашивал:
– Как пишется «шествие», Элин?
А когда мать, продолжая гладить или мыть посуду и даже не подняв головы, отвечала, он говорил:
– Разве там нет еще одного «вэ»? – и нетерпеливо добавлял, когда она начинала объяснять: – Да ладно, ладно. Я же просто спросил. Лекции мне слушать некогда.
– Так хочешь ты знать или нет?
– Ну, ладно, – говорил он и сильнее прижимал к бумаге кончик красного карандаша, старательно перечитывая каждое слово, которое написал сам, и в конце каждого предложения, если считал его правильным, ставил маленькую галочку. – Это правильно, – говорил он про себя, – и это.
Ему очень нравилось писать красным карандашом, и свободное место внизу он использовал для пометок: «Превосходно», «Можно было бы и лучше», «Не думаешь о том, что пишешь» или: «К экзаменам надо готовиться больше». Рядом он ставил отметку по десятибалльной системе. Из принципа он никогда не ставил ему ниже трех и лишь редко – выше семи. В заключение он выводил большую галочку, начиная ее в нижнем левом углу и доводя почти до верхнего правого, и с росчерком ставил свои инициалы: Г. Р. С. – Гарри Ричард Сэвилл.
Некоторое время спустя, когда ему надоело читать сочинения Колина, он принес домой учебники по математике, которые взял у приятеля на шахте. На внутренней стороне переплета каждой книги была карандашная надпись печатными буквами «КНИГА СЭМА ТЁРНЕРА», а в двух под надписью были нарисованы женские фигуры, которые отец попытался стереть, но безуспешно.
Простые и десятичные дроби, на которые было большинство задач, они в школе еще не проходили, и он растерянно смотрел на цифры, которые выглядели непривычно маленькими и стояли друг над другом. Отец тоже в них не разбирался и сначала брал книгу сам, садился в кресло у огня, списывал цифры, кашлял, осыпал их сигаретным пеплом, стирал, охал, и часто сердито притоптывал ногой и чесал в затылке.
– Дай-ка я погляжу, – говорила мать.
– Черт подери! – говорил он, отдергивал книгу или прикрывал ее ладонью. – Я этим занимаюсь или не я?
– Ну, ты, – говорила она.
– А тогда не мешай.
Она возвращалась к своей работе, а он охал, притоптывал, потом вскакивал, бежал к столу и переписывал для Колина примеры на клетчатую бумагу из блокнота, который когда-то принес с шахты, чтобы рисовать изобретения. При этом он чесал в затылке так, словно опасался, что их вообще решить нельзя.
Потом списывал тот же пример для себя и принимался решать его на краешке стола – шептал что-то, охал, стирал. Потом поднимал голову, спрашивал Колина, решил ли он, и услышав, что нет, с облегчением возвращался к своим вычислениям. Когда он подходил проверять пример, то ни на секунду не присаживался, точно ожидая, что его самого вот-вот поправят. Он то нагибался через плечо Колина, то возвращался к своему листку на другом конце стола, сверялся с ним, а потом ставил галочку или крестик.
Примеры становились все сложнее, терпение отца истощалось, а Колин после целого дня в школе уставал все больше, и мать начинала возражать против их занятий. Часто, когда Колин ложился спать и нерешенные примеры роились у него в голове, он слышал их раздраженные голоса на кухне. Отец говорил:
– Ладно, я больше палец о палец не ударю. Пусть идет работать в шахту, как все остальные. Чем он лучше-то?
А когда он утром спускался вниз, мать говорила, едва отец возвращался с работы:
– Вовсе ему не обязательно идти работать в шахту.
– А какую еще он тут работу найдет?
– Не знаю, – говорила она, а отец снимал башмаки, хватал красный карандаш и брался за примеры, не доделанные накануне, или вытаскивал из жилетного кармана решение, написанное для него кем-то на работе. – Что толку его заставлять, – добавляла она, если он не может.
– Нет, может, – говорил он. – А путается он потому, что ты кудахчешь вокруг него, как наседка.
– Нет, не может, потому что устает, – говорила она и брала на руки Стивена, который всегда начинал плакать, когда они ссорились, и цеплялся за ее юбку.
– Пусть лучше сейчас устает, зато потом не будет уставать, как я устаю.
– Так ты давай ему время подумать, не подгоняй его.
– Да кто его подгоняет, – говорил отец и топал ногами в носках, но никакого звука не получалось, и тогда он ударял кулаком по столу так, что дребезжали чашки. – Черт меня подери, – добавлял он, – если я не разберусь в какой-то там запятой и в числителях со знаменателями.
А в другие дни, когда Колин входил в кухню, отец поднимал голову от тарелки, мигал ресницами, еще мохнатыми от угольной пыли, и говорил:
– Умножь две целых пять десятых на семь. В уме. Так сколько это будет? – и смотрел на него светло-голубыми глазами в черных ободках. Потом, услышав его ответ, быстро опускал их, говорил: – Ну правильно. – И тут же. – Как пишется «география»? Побыстрей, побыстрей. Да разве же там «е», а не «и»! – Раздраженно мотал головой, когда мать его поправляла, и добавлял: – Я ж его просто хотел проверить! – и в ярости стучал кулаком по столу.
А потом у отца появилось другое занятие. Луг возле дороги, ведущей из поселка на юг мимо Клуба и Долинки, был разбит на огородные участки по пятьсот – тысяче квадратных ярдов, и по вечерам, а также утром в воскресенье мужчины отправлялись туда с лопатами и граблями вскапывать твердую землю бывшего коровьего пастбища. Отцу дали участок близко от дороги. Когда остальные приходили или уходили, он окликал их, и часто Колин, который помогал ему нести лопату, оставался копать один. Отец сидел у живой изгороди, курил и разговаривал с мистером Стрингером, или с мистером Батти, или с мистером Шоу.
– Э-эй, копай прямее, – покрикивал он и добавлял, поворачиваясь к своему собеседнику: – Да раньше, чем у нас тут что вырастет, война уже кончится.
Он покупал рассаду по дороге с работы и втыкал ее в грядки аккуратными рядами – бледно-зеленые листочки капусты на желтых стеблях, цветную капусту и спаржу. Колин переворачивал дерн и разбивал большие куски, а отец граблями разравнивал землю, выбирал камни и пучки травы. Присев на корточки у конца грядки, он доставал из жилетного кармана пестрый пакетик, отрывал уголок и высыпал на ладонь маленькую кучку семян. Зажав их в кулаке, он тряс его над грядкой, точно стаканчик с игральными костями, нагибаясь или приседая на корточки, а потом подошвой нагребал на них землю. Пройдя грядку, он подбирал прут, накалывал на него пустой пакетик и втыкал его там. Так он посеял морковь и свеклу. Горох и фасоль лежали в больших пакетиках в кармане пиджака, и он сажал их по-другому – делал пальцем ямку и опускал в нее одну горошину или одну фасолину. Наконец, когда все пакетики опустели, он нарезал прутьев с живой изгороди и принялся втыкать их над грядками крест-накрест. Иногда он отрывался, шел туда, где Колин продолжал копать, и говорил:
– Ну-ка, дай мне, а то мы здесь до полуночи проторчим! – Он глубоко загонял лопату в землю и переворачивал тяжелые куски дерна. – Могли бы прежде распахать луг, чем сразу распределять участки. Не земля, а камень.
Близость Клуба была соблазнительна, и многие, принеся с утра лопаты и грабли, уходили, едва приближался час его открытия, и возвращались только перед обедом, чтобы захватить свои инструменты, а отец Батти просто валился на траву под изгородью и спал, раскинув руки, раскрыв рот и громко храпя.
– Почему бы и не выпить, – говорил отец. – Но не люблю я, когда человек своей меры не знает.
Однако, разговаривая с мистером Батти, он стоял перед ним чуточку боком, смотрел на его багровое лицо снизу вверх с какой-то робостью, повторял: «Верно, Тревор, верно!», смеялся и прижимал ладони к пиджаку.
Отец работал на участке с большим усердием. Он ухаживал за грядками так же старательно, как шил или стряпал, когда мать болела. Когда по улице проезжала тележка молочника и на мостовой оставались конские яблоки, он говорил: «Ну-ка беги, собери их». Вечером Колин относил навоз в ведре на участок и разбрасывал его по грядкам, а отец уходил на соседний участок потолковать с мистером Батти или с мистером Шоу. Он говорил:
– Подергал бы ты сорняки. Оглянуться не успеешь, все уже заросло.
Мистер Риген не захотел взять участка, но он часто заглядывал к ним на луг в воскресенье или вечером, когда выходил из Клуба, помахивая тросточкой, которую обязательно брал с собой, если шел куда-нибудь дальше угла улицы или двора шахты. Он стоял в своем котелке у изгороди, опираясь на тросточку, и говорил:
– Нет-нет, я дальше не пойду, – и добавлял, указывая на свои ботинки, которые всегда сверкали: – Не хочу доставлять старухе лишних хлопот.
– Если они сами его не замечали, он окликал отца из-за изгороди, раздвигал ветки тросточкой и говорил:
– Ну, Гарри, отлично вы тут поработали.
А позднее, когда на грядках поднялись темные кустики свекольной ботвы и под зелеными пушистыми перышками проглянула ярко-оранжевая морковь, он говорил:
– Ну, Гарри, да их прямо хоть на выставку, – а потом добавлял, если отец выдергивал морковку, чтобы показать ему: – Ну, Гарри, я бы не отказался съесть завтра за обедом парочку-другую таких красоток, – и удивленно качал головой, когда отец выдергивал еще несколько.
– Да что тут, мы же всего сами не съедим, – говорил отец и обязательно выдергивал еще несколько для миссис Блетчли.
Мистера Блетчли совсем недавно призвали в армию. В отличие от тех, кто работал на шахте, у него не было брони, и вскоре после того, как миссис Блетчли и Блетчли в слезах проводили его с маленьким чемоданчиком до станции, там по путям между вагонами уже расхаживала с шестом какая-то женщина в линялом комбинезоне, а мистер Блетчли приехал потом домой в короткий отпуск уже в форме, загорелый и словно бы довольный, и после этого они его больше не видели. Новости о нем они узнавали только от Блетчли – по дороге в школу он перечислял, сколько человек его отец убил на прошлой неделе, сколько взял в плен и какую территорию единолично отбил у врага.
– Так сколько он их там убил? – спрашивал Батти, а услышав ответ, ошеломленно смотрел на Блетчли и говорил: – Чем же это он их?
– Голыми руками, – говорил Стрингер. – Чтоб столько поубивать, нужна армия, не меньше.
– Пулеметом можно, – объявлял Батти, почему-то кидаясь на защиту Блетчли, если его цифры и подвиги вызывали сомнение.
Иногда по воскресеньям они уходили погулять часок перед чаем. Прогулка требовала приготовлений. Отец чистил туфли матери и свои башмаки – тер их щеткой, а потом тряпкой так, словно хотел протереть насквозь, а Колин чистил свои и Стивена. Потом они умывались, и, пока мать натягивала на Стивена черные штанишки и курточку, Колин надевал праздничный костюм. Отец спускался тоже в костюме. Лицо его было красным и лоснилось. Он нагибался к Колину, осматривал его уши, шею, руки. Потом они ждали несколько минут, пока мать поднималась в спальню переодеться. Отец стоял перед зеркалом на кухне, вытряхивал на ладонь помаду из белого флакончика, втирал ее в волосы, разделял их на косой пробор и аккуратно зачесывал назад, покрикивая через плечо:
– Осторожнее! Не вертись! Не запачкайся! Стой смирно!
Наконец мать спускалась в своем лучшем пальто, темно-коричневом, доходившем ей почти до лодыжек, задвигала засов на задней двери и запирала ее изнутри, ключ опускала в карман отца и говорила: «Носовой платок ты взял? А деньги?», даже не обернувшись к зеркалу, в которое отец, хотя и кончил приглаживать волосы, все равно то и дело поглядывал. Потом они выходили через парадную дверь.
Парадной дверью они пользовались только в таких случаях, и отец, чувствуя на себе взгляды из окон по ту сторону улицы, тщательно ее запирал, дергал для проверки и прятал ключ в тот же карман, где уже лежал ключ от черного хода.
– Не понимаю, чего мы ее запираем? – говорил он матери. – Что у нас можно украсть?
– Просто удивительно, сколько всего могут отыскать воры, если уж войдут в дом, – отвечала мать, оглядывала окна, проверяя, все ли в порядке, и они выходили на улицу.
Колин вел Стивена, а мать под руку с отцом шла сзади. Время от времени они делали ему замечания: «Поднимай ноги выше! Не шаркай! Вынь руки из карманов. Пора тебя подстричь. Теперь понятно, почему на тебя ботинок не напасешься!» А если они старались идти аккуратнее, сзади слышалось: «Ну что ты еле ноги волочишь? Иди быстрее. Мы сейчас вам на пятки наступим».
Они неизменно шли через поселок к Парку, и отец обязательно окликал всех встречных, даже если знал их только в лицо: «Добрый день, Джек, добрый день, Майк!», – а они нередко глядели на него с недоумением, но кивали в ответ.
– Этого парня на прошлой неделе поймали в шахте со спичками, – объяснял он матери, а она говорила:
– Этого? Ты что-то путаешь. Он водит грузовик.
– Нет-нет, – говорил отец. – Он шахтер, я его хорошо знаю, – и оглядывался, но редко продолжал спорить.
В Парке они неторопливо гуляли по дорожкам, которые вели к качелям и декоративному пруду. Вокруг, нередко с детскими колясками, прогуливались другие семьи или, если день был сухой, располагались на траве – мужчины спали, женщины сидели выпрямившись, вязали и переговаривались друг с другом, а дети играли возле качелей.
– Никаких качелей в воскресенье, – говорил отец, стоило Стивену поглядеть в ту сторону. – Не сходи с дорожки и не пачкай ботинок.
Обычно на обратном пути Стивен начинал проситься на руки, он хныкал, дергал отца за руку и канючил:
– Пап! Возьми меня!
А отец говорил:
– Сам пойдешь. Какая же это прогулка, если тебя будут таскать на руках. Да я бы тогда не стал надевать хороший костюм.
Однако он брал его за руку, и Стивен повисал между ним и матерью, а Колин шел впереди всех или, если уставал, то сзади. Отец по временам оглядывался и покрикивал:
– Да иди же! Чего ты отстаешь, – и добавлял, обращаясь к матери: – Лошадь на поводу тащить и то легче.
Когда они подходили к двери, отец отпирал ее, мать входила первой, брала чайник, ставила его на очаг и только тогда снимала пальто. Отец разгребал золу, подкладывал уголь, а потом тоже снимал пальто, подходил к столу, на котором уже были расставлены чашки, и помогал заваривать чай.
9
Зимой воздушные налеты возобновились и к ним приехал пожить его дед. Это был невысокий щуплый человек с прямой спиной и густыми седыми волосами, которые он, как и отец, стриг по-мальчишески коротко. Глаза у него тоже были светло-голубые, и кожа вокруг них собиралась в смешливые морщины.
– Ну и большой же у тебя парень, Гарри, – говорил он, брал Колина за локоть, притягивал к себе и щупал его бицепсы.
Он сажал Стивена на колени и напевал дребезжащим голосом:
– Ну-ка, ну-ка, догони меня, у меня есть пенни для тебя.
– В каком кармане? – спрашивал Стивен и принимался его ощупывать.
– Э-эй, Стив, – говорил старик. – Да ты такой же шустрый, как твой отец.
Последнее время дед жил у брата отца, но брата призвали в армию, и он приехал к ним. Во рту у него было всего два зуба – один вверху, другой внизу, – и мать через несколько дней повела его к зубному врачу.
– В прошлый раз они мне весь рот изуродовали, – сказал он.
Вернулся он совсем без зубов.
– Будут готовы через полмесяца, – сообщил он отцу. – А как мне до тех пор обходиться?
– Ничего, папаша, – сказал отец. – Будем тебя пивом отпаивать.
– Пиво, – сказал он. – Сколько я на свете живу, пиво еще никому пользы не приносило.
Когда начинали выть сирены, он забирался под стол и сидел там, куря трубку. Старое бомбоубежище давно заменили другим – из кровельного железа. Такие бомбоубежища имелись теперь в каждом огороде, но многие были залиты водой или забиты мусором, и никто ими не пользовался.
– Да не боюсь я их, – отвечал он, когда отец уговаривал его пойти в чулан под лестницей. – Я никаких бомб не боюсь.
Он сидел под столом, вытянув ноги, пригнув голову, и посасывал трубку. А если отец и мать начинали уговаривать его вместе, он становился на четвереньки или ложился на бок и хватался за ножку стола.
– Вы идите, идите туда, – говорил он. – А мне и тут хорошо. Что я им за объект такой?
А позже, когда ему сделали зубы, он зажимал трубку между ними и сидел под столом с неподвижной улыбкой на лице.
Зубы были крупные и очень белые, и он теперь часто сидел на крыльце, чтобы не пропустить мистера Шоу, или миссис Шоу, или миссис Блетчли и улыбнуться им, чтобы они сказали:
– Да вы на двадцать лет помолодели, мистер Сэвилл.
– Так уж и помолодел, – отвечал он и в этот день, и на следующий, и на следующий.
Перед сном он вынимал зубы, чистил их под краном, опускал в банку с водой, уносил к себе в комнату и ставил на стул у кровати. Он спал в той же комнате, где прежде спал солдат, и на той же кровати, а Стивена оттуда перевели в комнату Колина.
Дед всегда ходил в костюме. Костюм был синим, он был великоват ему – рукава съезжали на пальцы, брюки складками ложились на башмаки. Каждый вечер он вешал его на плечики, брюки снизу, пиджак сверху, и иногда, прежде чем лечь, звал мать:
– Элин! Элин! Поди сюда, повесь мой костюм, – и нетерпеливо переминался с ноги на ногу, пока она не приходила и не вешала плечики на крюк, вбитый в стену.








