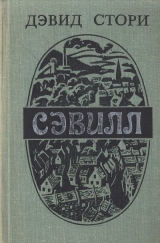
Текст книги "Сэвилл"
Автор книги: Дэвид Стори
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 35 страниц)
Но тут к Ригену вернулась его обычная застенчивость. Он пригладил волосы, и они пошли дальше.
Гулять на весь день с Ригеном его отправил отец. Возможно, он рассчитывал на благодарность мистера Ригена, который после национализации угольной промышленности пользовался, по слухам, особым влиянием на шахте в поселке. С тех пор как кончилась война, отец становился все неспокойнее. Одно время ввели карточки на хлеб. Не хватало одежды и продуктов. Он снова, как за три года до этого, попробовал перейти на шахту в поселке и подал заявление на место штейгера, но, насколько было известно Колину, ответа не получил. Вот почему, уступив настояниям отца, он и пригласил Ригена на эту прогулку. Сначала они отправились к озеру – главным образом потому, что, по сведениям Ригена, где-то там находилось кафе, принадлежащее знакомому его отца, и можно было рассчитывать на даровой обед. Однако сведения эти оказались на поверку если не ложными, то, во всяком случае, неточными. Кафе они нашли – деревянный домик у дороги, выкрашенный зеленой краской, но, когда они спросили хозяина, к ним вышла смуглая курчавая женщина, которая, когда Риген назвал себя, скосила глаза к орлиному носу и ядовито указала на доску с написанными мелом ценами. В конце концов они ушли, ничего не купив.
Ощущение ненужности и бесцельности становилось все сильнее. В павильоне у озера они купили себе поесть – самую малость, и мысль о том, чтобы вернуться в поселок новым, более коротким путем, была подсказана тайным желанием поскорее положить конец прогулке. Риген все больше уставал, и Колин ушел вперед в надежде найти какой-нибудь знакомый ориентир, но, так ничего и не увидев, уныло сел у обочины, дожидаясь своего спутника.
Однако теперь они шагали очень бодро. Риген насвистывал танцевальный мотив, а иногда что-то бормотал себе под нос, точно ему не терпелось признаться в чем-то, но он еще не знал точно в чем. Наконец он поглядел на Колина и сказал:
– А твои родители что для тебя наметили?
– Они считают, что мне лучше всего стать учителем. Да и какой у меня выбор?
– А чтобы ты в контору шел работать, они не хотят?
– Вроде бы нет. – Он мотнул головой.
– А что ты будешь преподавать?
– Язык и литературу. Может быть, географию. Все-таки самые интересные предметы.
– А меня ни один предмет не интересует, – сказал Риген. – Все они один другого стоят.
Они поднялись на холм.
Впереди протянулась равнина с перелесками, над которыми кое-где высились терриконы. Далеко справа, у самого горизонта, Колин увидел знакомый силуэт копра.
– По-моему, я знаю, где мы, – сказал он.
– И я знаю, – сказал Риген и, прищурившись, посмотрел туда же. – Мы совсем не в ту сторону пошли. И теперь до ночи не вернемся.
Но несколько минут спустя их догнал грузовик. Он остановился, и шофер спросил, не подвезти ли их.
– А, Риген! Брайен Риген. Я Брайена знаю, – сказал он, когда узнал, куда им нужно, и спросил, как их зовут. – Мне про твоего папашу кое-что известно, про что лучше не упоминать, – добавил он, повернувшись к Ригену. – Просто скажи, что тебя подвез Джек Хопкрофт, и погляди, какое у него будет лицо.
Полчаса спустя он высадил их у дороги, ведущей к поселку, и уехал, громко сигналя.
– Хороший был день, – сказал Риген, когда они вошли в поселок. С каждым шагом к нему возвращалась обычная неловкость. – Только ты не говори, про что я тебе рассказывал – про танцы и оркестр, ну, про все это.
– Конечно, – сказал он.
– Да я так, – сказал Риген. – Ведь, если отец узнает, на этом все кончится.
Зажглись фонари. На тротуары и стены домов легли круги желтоватого газового света. Из низины у шахты поднялся туман и медленно затягивал примыкающие к ней улицы. Их шаги громко отдавались в сгустившейся тьме. Из двери Ригена вырывался свет, озаряя фигуру его матери, костлявой, как он, но не такой высокой. Майкл, увидев мать, сразу замедлил шаг и, если бы она его не окликнула, наверное, перешел бы на другую сторону.
– Это ты?
– Мы сбились с дороги, мама, – сказал он, вступая в полосу света. Его голос, его ссутулившиеся плечи вдруг напомнили Колину тот вечер во время войны, когда они вернулись домой после экзаменов.
– Ничего, – сказала его мать и добавила: – Это ты, Колин, голубчик? – Она отошла от двери и пощупала одежду Ригена. – Ты не промок?
– Нет, – сказал Риген. – Мы почти все время ходили.
– Ты не зайдешь, Колин? – сказала миссис Риген. – Майкла кое-что дожидается в духовке, но ему одному много будет. Я не люблю, чтобы он наедался на ночь.
– А, пиликатель явился! – внезапно взревел голос внутри дома, проем двери на секунду закрыла огромная тень, и на крыльцо вышел мистер Риген. Однако, увидев Колина, он заговорил совсем другим тоном. – Ну что, ребятки, нагулялись? Мать понять не могла, куда он запропастился: то подогревала ужин, то остужала, чтобы он не перестоялся. Сами мы тоже без него не садились. Кто же знал, что он так задержится.
– Мы отлично погуляли, – сказал Риген, не скрывая облегчения. – Только заблудились на обратном пути. Вот поэтому и задержались. Нас грузовик подвез.
– Грузовик? – сказала миссис Риген и снова ухватилась за его рукав.
– Тебе просил передать привет Джек Хопкрофт, – сказал Риген.
– Хопкрофт? Хопкрофт? – сказал мистер Риген, поглаживая подбородок, и внимательно поглядел сначала на жену, потом на Ригена. – Хопкрофт. – По-видимому, ни сыну, ни матери эта фамилия ничего не говорила, и мистер Риген добавил: – Что же, можно наконец сесть за стол и поужинать.
Колин пошел дальше, к своему крыльцу.
– Ну и как? – спросил отец, словно он только что вышел.
– Ничего, – сказал он. – Домой нас подвез шофер грузовика. Мы в кабине ехали.
– Ну, Брайен будет доволен, – сказал отец, словно не услышав.
Пришло письмо с результатами экзаменов. Он получил примерно те отметки, каких ожидал, хотя мать удивилась, что отметка по языку и литературе относительно невысока.
– Я думала, это твой любимый предмет, голубчик.
– Просто самый легкий, – сказал он.
– Основу я ему дал хорошую, – сказал отец. – А почему он себя на экзамене показать не мог, этого я уж не понимаю.
– А что показывать? Когда тебя экзаменуют, все обессмысливается, – сказал Колин. – «Проиллюстрируйте на примерах роль природы в поэзии Вордсворта», – добавил он. – Неужели стихи читают для того, чтобы искать примеры?
– Ну, если это нужно для того, чтобы получить хорошую работу, – сказал отец, – так даже я набрал бы примеров, только держись. А ведь я книг не читаю, – добавил он. – Если б ты вкалывал в забое, живо что-нибудь придумал бы, не беспокойся.
– Но он же в забое не работает, – сказала мать.
– Сейчас нет, – сказал отец, – но при таком старании он скоро туда угодит.
– Ну, все-таки это неправда, – сказала она.
– Правда тут одна: кто-то в шахте работает, чтобы содержать его в роскоши, пока он соблаговолит выучить два-три примера. В этом-то и дело, – добавил он в сторону Колина.
Было решено, что он все-таки пойдет в шестой класс. Летом он опять работал на ферме, на той же самой, где когда-то копнил снопы с двумя военнопленными: вставал рано, возвращался каждый вечер поздно и в конце концов скопил деньги на велосипед. Как-то вечером он поехал к Стэффорду, но не застал его дома. В сентябре он вернулся в школу загорелый и окрепший.
Зимой заболел дед. Жил он в отдаленном городе, и отец только теперь узнал, что его взяли в муниципальный приют для престарелых. Как-то в субботу отец поехал туда с Колином. Они ехали на поезде по непривычным равнинам восточного побережья. Город стоял у устья реки – над крышами однообразных кирпичных домов виднелись подъемные краны порта. Приют был на окраине, и они сели в автобус. Они увидели старинное серое здание и несколько новых сборных домиков. Спальня его деда была на верхнем этаже – длинная голая казарма с железными кроватями у стен. Когда они вошли туда вслед за сестрой, там не было никого, кроме его деда и еще одного человека, но вскоре вернулись другие старики. Они сидели сгорбившись на своих кроватях, курили, вяло разговаривали.
Дед, казалось, спал. Он очень одряхлел с тех пор, как Колин видел его в последний раз. Крупный крючковатый нос торчал между провалами глаз, точно костяная перемычка, щеки запали, беззубый рот ввалился. Колин физически ощутил, как потрясен отец.
– Пап? – сказал отец, а сестра добавила:
– Мистер Сэвилл! К вам пришли, голубчик.
Молочно-голубые глаза деда медленно открылись, несколько секунд он тупо смотрел прямо перед собой, потом поглядел на сестру и с возрастающим недоумением уставился на отца и Колина.
– Пап? – сказал отец. – Ну как ты?
– Ничего, – сказал дед, словно отец уже давно был тут, а потом добавил: – Это ты, Гарри?
– Мы приехали, как только узнали, – сказал отец.
– А кто это? – сказал дед, растерянно глядя на Колина.
– Твой внук. Ты же его помнишь.
– Колин, – сказал дед неуверенно и опять поглядел на сестру.
– Почему ты не сообщил, где ты теперь живешь? – спросил отец.
– Не люблю я людей по пустякам затруднять.
– Пап, мы бы о тебе хорошо заботились, – сказал отец.
– Обо мне и тут неплохо заботятся.
– Но дома-то жить все-таки лучше.
– Мне и тут неплохо, не беспокойся, – сказал дед и добавил: – А где Джек? Он с тобой тут?
– Он завтра приедет или послезавтра, – сказал отец.
– А я подумал, может, он с тобой тут. – Дед закрыл глаза.
– Ему вредно утомляться, мистер Сэвилл, – сказала сестра, поговорила с двумя-тремя стариками и вышла.
Отец принес себе стул. Колин некоторое время стоял возле кровати и смотрел на голову деда. Отец сидел рядом. Сумку с едой, которую он привез ему, сестра велела оставить у дежурной.
– Вид у него не слишком хороший, – сказал отец, и дед, словно разбуженный его голосом, снова открыл глаза.
– Ты еще тут?
Колин принес стул для себя. Некоторое время он сидел по другую сторону кровати. Потом отец поднял голову и сказал:
– Если хочешь, Колин, подожди снаружи. Чего тебе тут делать?
Лицо у него сразу осунулось, глаза покраснели.
Колин прошел по каменным плитам коридора мимо зарешеченных окон и по бетонной лестнице спустился в вестибюль. Сумка с едой, которую привез отец, все еще стояла на столе дежурной. Он немного подождал, а потом вышел на улицу и начал ходить взад и вперед, поглядывая на окна верхнего этажа и стараясь определить, за которым из них лежит его дед.
Минут через двадцать из дверей вышел отец.
Он, по-видимому, плакал и на секунду, пока спускался по ступенькам подъезда, вдруг словно преобразился в копию того, кто лежал там, наверху. Рассеянно кивнув Колину, он повернулся и пошел к автобусной остановке.
– Он не хочет отсюда переезжать, – сказал отец, когда Колин нагнал его. – И они считают, что тут ему будет лучше, чем в домашних условиях.
Они шли молча, замкнутые теснотой серых улочек. Вдалеке раздавались пароходные гудки, а где-то близко играл оркестр и слышался отрывистый рокот барабана.
Отец вытер нос. Вытер глаза. Когда они подошли к остановке, он немного успокоился.
– Тяжело это. – Он поглядел по сторонам. – Жизнь его не баловала. Я все вспоминаю, каким он был раньше. Знаешь, мы с ним на одной ферме работали. Его тогда уволили, а я нашел ему место, и так мы вдвоем туда и приходили. Вот прямо вижу его. Точно сейчас это было.
В автобусе он умолк, погрузившись в свои мысли. Даже потом, в поезде, он почти ничего не говорил, а когда через два часа они добрались до дома, он присел к столу и на расспросы матери только качал головой и говорил:
– Не могу я. Так это тяжело.
Глаза у него были красные, кожа на щеках и лбу казалась воспаленной.
Две недели спустя пришла телеграмма. Отец был в дневной смене и вернулся домой поздно вечером. Он вошел в кухню, глаза у него были обведены черными кругами. И тут мать сказала:
– Тебе телеграмма.
Отец, возможно, не был готов к тому, что она могла содержать, или слишком устал, чтобы думать. Он небрежно ее распечатал, начал медленно читать, вдруг по-детски вскрикнул, повернулся, точно теряя равновесие, и прислонился к стене напротив двери, закрыв лицо рукой.
– Гарри… – сказала мать, взяла телеграмму и прочла ее, а отец как-то рассеянно сел на стул, снял башмаки и пошел к раковине умываться. Потом, когда мать поставила на стол ужин для него, он все так же рассеянно пошел к двери. Они услышали, как заскрипели половицы в спальне. Мать сразу начала хлопотать у очага, словно ничего не произошло.
– Ну же, Колин. Разве тебе нечем заняться? Уроки ты кончил? Если не станешь копаться, у тебя хватит времени почистить ботинки, – говорила и говорила она и даже почти не остановилась, когда минуту спустя они услышали у себя над головой всхлипывания отца, пугающие, леденящие.
Зима кончилась. В пасхальные каникулы для школьников была устроена экскурсия. Их поселили в пансионате у подножия горы. Как-то вечером он и Стэффорд пошли пройтись до соседней деревушки. С горбатого мостика над устьем ручья открывалась ширь озера. Из домиков позади них доносилось пение.
Стэффорд остановился.
На таком расстоянии казалось, что несколько мужчин и женщин поют песню без слов. Только она нарушала тишину, окутывавшую деревню. Вверх в светлое небо поднимались струйки дыма, темные силуэты домов казались валунами, разбросанными под склоном. На вершине горы, встающей над деревней и мерцающей гладью озера, в лунном свете поблескивал снег.
Стэффорд прислонился спиной к парапету. По дороге он закурил и теперь с легкой улыбкой выпустил облако дыма. Голова его была откинута, локти упирались в парапет.
– Знаешь что? – сказал он. – Меня прочат в Оксфорд.
– Кто? – спросил он.
– Гэннен. Это значит дополнительные занятия латынью. Меня внесли в список сдающих на стипендию.
– А сам ты разве не хочешь? – сказал он.
Стэффорд покачал головой.
– Зачем мы, собственно, живем, как по-твоему?
Возможно, он не слышал пения, потому что погасил сигарету, перегнулся через парапет и бросил ее в укрытый мглой ручей. Из черной тени иногда вдруг поднимались почти светящиеся пенистые гребни. Стэффорд ударил носком ботинка в каменную кладку.
– Наверное, все-таки стоит постараться, – сказал он.
Стэффорд пожал плечами, посмотрел вверх, в холодную безоблачную бездонность неба, с какой-то злостью покосился на луну.
– По-моему, таких усилий это, в сущности, не стоит. А что стоит? Ты знаешь?
– Нет.
– А и знал бы, так мне не сказал бы. Уж очень ты трудолюбивый. И наверное, тебя вполне удовлетворит хорошее место, собственный дом, машина, жена и все такое прочее.
– Нет, – сказал он и отвернулся.
Возможно, Стэффорд и слышал пение, но считал, что это радио: он поглядел на домики с той же злостью, с какой смотрел на луну. Где-то открылась дверь, и тут же залаяла собака.
– Какая это все-таки дыра! Наверное, здесь даже бара нет. – Он медленно отодвинулся от парапета, еще раз стукнул носком по камню и, сунув руки в карманы, зашагал к домикам. – Что мы, в сущности, такое, если уж на то пошло? – сказал он. – Нечто летящее сквозь ничто в никуда, насколько я могу судить. – Он остановился, поджидая Колина. – Через миллиард лет Солнце сожжет Землю, и все, что люди когда-либо делали, думали, чувствовали, рассеется с облаком дыма. – Он засмеялся. – Впрочем, нам этого увидеть не придется. Но вот в воображении… По правде говоря, я это все время ношу в себе. – Он шел в темноте, постукивая носком ботинка по бордюрному камню, и от стен отдавалось эхо. – Тебе-то легко, – добавил он. – Ты явился из ничего, тебя поманили морковкой образования, и ты рвешься к ней, как взбесившийся бык. Никакого труда не жалеешь. Где мне до тебя! Ведь я способен видеть, – продолжал он медленно, – что лежит по ту сторону.
– И что же лежит по ту сторону? – сказал Колин. Теперь он шел рядом с ним, сунув руки в карманы.
– Ровным счетом ничего, старик, – сказал Стэффорд и засмеялся. – Убери морковку, и не останется ровным счетом ничего. Только такие, как ты, выползают из грязи и верят. Погоди, вот добьешься своего, тогда увидишь. Сядешь и задумаешься: «Неужто это все?» – Он снова засмеялся и посмотрел на него в темноте.
Дома остались позади, и они вышли на каменную дамбу, совсем рядом блестело озеро.
– Что нам рассказывал Хепуорт об этих горах? Вот это озеро и эта У-образная долина. Их десять тысяч лет назад прокопал ледник. Сейчас на берегу стоит десяток домишек, в них живет горстка людей, которые испытывают бог знает какие лишения, беды и экстазы, а через десять тысяч лет новый ледник сотрет все это без следа. Ледник или атомная бомба. Так какой же смысл страдать и терпеть?
Колин молчал. У их ног волны озера бились о каменный скат с глухим, почти свинцовым звуком.
– Наверное, ты веришь в божественный промысел и во все эти сказочки, – сказал Стэффорд. Он нагнулся и смотрел на воду так, словно внезапно забыл, что рядом с ним кто-то есть.
– Я не знаю, во что я верю, – сказал Колин.
– В материальный прогресс, подкрепленный малой толикой религиозных суеверий. Это я читаю по твоему лицу, – сказал Стэффорд. – Ты даже в регби играешь всерьез. А уж что может быть бесцельнее спортивной игры? Нет, правда, мне иной раз хочется просто кинуться на землю и хохотать.
– По-моему, это и есть самое трогательное.
– Трогательное? – Стэффорд поглядел на него и покачал головой.
– Если ничто не имеет смысла, а мы тем не менее продолжаем находить в этом смысл.
Стэффорд засмеялся. Он откинул голову, и в лунном свете его волосы внезапно засияли светлым ореолом.
– Трогательное? Я бы сказал, жалкое.
Он достал сигарету, закурил, бросил горящую спичку в озеро, поежился и, поглядев, добавил:
– Пошли назад. Дальше идти некуда. Забавно, насколько это символизирует то, о чем я говорил. – Однако позднее, когда они уже лежали в постелях, Хопкинс храпел, а Уокер постанывал во сне, он добавил:
– Так, значит, ты видишь во всем этом какую-то цель, Колин?
Стэффорд лежал на спине, подложив ладони под голову. Сквозь тонкие занавески просвечивала луна, и по комнате разливалось слабое холодное сияние.
– Я, собственно, никогда не пытался ее определять, – сказал он.
– Ты что, неспособное мыслить животное? – Стэффорд наклонил голову в его сторону, но только чтобы лучше расслышать ответ.
– Нет, – сказал он.
– Боишься сознаться, что веришь в божественный промысел? – сказал Стэффорд.
– Нет, – сказал он.
– Значит, сознаешься?
Колин помолчал. Он смотрел на Стэффорда, который так и не повернулся к нему, но по-прежнему наклонял голову в его сторону.
– Только когда все теряет смысл, этот смысл наконец становится нам ясен, – сказал он.
– Да неужели?
Теперь Стэффорд посмотрел на него – почти с бешенством.
– Например, от этой поездки я получаю большое удовольствие, – сказал он.
– А, и я тоже! – сказал Стэффорд. – То есть, наверное, получаю. Я этого не анализировал. Во всяком случае, не так, как ты. – Он выжидающе умолк. – Но если божественного промысла не существует, не кажется ли тебе, что все это – довольно-таки жуткая шутка? Если наш мир, как все миры, рано или поздно взорвется, разлетится космической пылью, так какой же смысл хоть в чем-нибудь? Словно человек, не жалея времени и сил, до мелочей продумывает собственные похороны. Я не в состоянии понять, зачем это. Если бог намерен допустить, чтобы этот мир исчез, как исчезают все миры, зачем же было населять его нами? Чтобы было кому его восхвалять? Неужели ты искренне веришь, что он ищет аплодисментов? Или его вообще не существует – во всяком случае, в форме, которая подходит под определение, ограничивающееся сферой химических реакций?
Хопкинс охнул во сне, Уокер снова свистнул сквозь заложенные ноздри.
– Ты погляди на Хоппи. Послушай его. Ты считаешь, что вот это – воплощение божественной цели?
Подействовала ли на него поздняя прогулка и свежий ночной воздух или убаюкивающее журчание этого голоса, но Колин почувствовал, что проваливается в сон. Он приоткрыл глаза, увидел, что замолкший Стэффорд, вновь заложив руки за голову, смотрит в потолок, и больше уже ничего не сознавал, пока его не разбудили голоса Хопкинса и Уокера и доносящиеся снизу удары гонга.
Они подходили к границе снегов. Внизу простирались хвойные леса и поросшие дроком холмы, отливали ртутью узкие озера. Прямо под ними с уступа на уступ падал ручей, убегая к деревне, и вот здесь, на подъеме, Стэффорд задержался, оглянулся на Колина и с небрежной улыбкой сказал:
– По-твоему, в этом заключена божественная цель или мы – муравьи, функционирующие механически, ползающие по изъеденному эрозией камню? – Не дожидаясь ответа, он посмотрел вверх, туда, где за круглым озерком плоский, вытянутый треугольник вершины терялся в клубящемся тумане. Гэннен, в башмаках с шипами и бриджах, с палкой в руке и маленьким рюкзаком за спиной, оглянулся и сказал:
– Кажется, я слышу голос скептика?
Мальчики, поднимавшиеся впереди, обернулись.
– Вы так оцениваете открывающийся внизу вид, Стэффорд?
– Просто, сэр, он навел меня на некоторые размышления, – сказал Стэффорд.
– Я не возьму на себя смелость приписывать чему-нибудь божественную цель, тем более сейчас, взирая на море хитрых физиономий ниже по тропе, – сказал Гэннен. – И все же, взирая на пейзаж вокруг, даже я, историк, хорошо знакомый со всеми самыми темными сторонами человеческой натуры, испытываю подъем духа, радостное упоение и чуть ли не готов усмотреть в этом нечто неземное. Ведь все мы, как может сказать нам мистер Макриди, биолог, – конечный результат эволюции, длившейся несколько миллионов лет, и, стоя лишь на пороге существования человека, кто может решить, какое значение вложено в человеческую жизнь? В грядущие годы человечество, возможно, протянет свои щупальца к Луне, за пределы солнечной системы, а то и к другим галактикам. Мы с вами стоим сейчас перед вершиной горы, и кому дано предугадать, где будет стоять человек, например, через тысячу лет? Бог, Стэффорд, как мог бы сказать философ, есть состояние непрерывного становления, а мы, как могли бы сказать психологи, суть элементы его сознания.
Стэффорд улыбнулся. Он поглядел мимо Гэннена и мальчиков, растянувшихся по тропе туда, где по склону к ним поднимался маленький седой Хепуорт со второй, отставшей группой.
– Стэффорду, разумеется, ни философы, ни психологи не нужны, – сказал Гэннен. – Он принадлежит к современной школе, к скептикам, которые видят в человечестве случайный плод биологического детерминизма. Муравьев, ползающих по изъеденному эрозией камню, если я правильно его цитирую. Хопкинсу, конечно, все равно, что мы такое, как и Уокеру – лишь бы ему елико возможно скорее добраться до удобного сиденья и погреться у огня.
Макриди достал из рюкзака небольшую фляжку и приложился к ней. Он откинул голову, закрыл глаза, а потом, сунув фляжку обратно, с тупым недоумением уставился на вздымающийся перед ним пик.
В пансионат они вернулись совсем уже вечером. Шел дождь. В дверях стоял Плэтт с ребятами, которые не ходили на гору. Едва увидев Гэннена, он замахал рукой и закричал:
– Мы уже собрались идти вас разыскивать.
– Самое обычное восхождение, Плэтт, – сказал Гэннен, сбрасывая рюкзак и обводя взглядом измученных мальчиков. – Если не считать момента, когда мы чуть не посыпались в пропасть, день, можно утверждать, прошел без происшествий. Хотя, – добавил он, – нам пришлось просить Стэффорда, чтобы он призвал на нас благословение божье. Дело в том, что, спустившись с вершины – с которой, кстати, мы ровно ничего не увидели. – Мак и я было заблудились. Если бы солнце, механически функционируя, как мог бы выразиться Стэффорд, не выглянуло на минуту из-за туч, мы бы еще долго не вернулись.
Позже, когда горячий пар заполнил коридоры, Стэффорд, обмотанный полотенцем, багровый после ванны, вошел в их комнату и сказал:
– Раньше я как-то не замечал, что Гэннен сентиментален. Пожалуй, я брошу историю: теперь уж ни одному его слову верить нельзя. – Он улегся на кровать, нащупал сигареты в кармане куртки и добавил: – Нет, правда, с таким преподавателем какой у меня шанс получить университетскую стипендию?
21
Отец с помощью Ригена все-таки устроился на шахту в поселке. Однако ни к чему хорошему это не привело. Теперь, работая рядом с соседями и знакомыми, он терялся, чувствовал себя незащищенным. Он был назначен штейгером и во время смены отвечал за весь забой, но получал теперь меньше, чем прежде, когда подрабатывал сверхурочно, и даже меньше, чем простые шахтеры в его смене. Домой он возвращался куда более измученным, хотя ему уже не нужно было после конца работы проезжать шесть миль. Он задремывал в кухне, уронив голову на спинку кресла, бессильно раскинув руки. Вокруг глаз еще чернела угольная пыль, рот был открыт, он постанывал во сне. Мать боялась его потревожить: Стивен и Ричард ходили в доме на цыпочках, и стоило им стукнуть или скрипнуть чем-нибудь, как она расстроенно шикала на них.
На доме эта перемена тоже сказалась к худшему. Словно каждый день в него вносилась частица шахты – ее пыль, ее мгла, ее чернота заполняли комнаты, и осью всему служила скорченная, обессиленная фигура отца, а мать, братья и он сам опасливо двигались вокруг, буквально отчужденные друг от друга. Тишину нарушало только шиканье матери, усталое дыхание отца, переходившее в храп, и боязливый шепот братьев: испуганно раскрыв глаза, они неслышно шли к лестнице или выскальзывали за дверь, и тут же со двора доносились их голоса, полные облегчения.
– Да мне-то что, чего он там думал? – сказал отец, когда в конце года они обсуждали, сдавать ли ему на университетскую стипендию. – Но если он думает о колледже, так ведь ему надо проучиться лишний год.
– В колледж он может поступить в будущем году, – сказала мать. – Чтобы выйти учителем. Еще год ему надо учиться, если он будет поступать в университет, – добавила она.
– Пусть так выбирает, чтобы побыстрее начать работать, – сказал отец. – Только, конечно, не в шахте.
Как-то вечером Гэннен приехал поговорить с родителями. Колин высчитал, когда примерно он доберется до поселка, и предложил пойти встретить его на автобусной остановке, но отец воспротивился:
– Мы ж не принца какого ждем. Сам дойдет, как все прочие.
– Какие прочие? – сказала мать. – Если бы нас почаще люди навещали, хоть порядку было бы больше.
– Порядку? А чем тебе тут не порядок? – сказал отец, обводя взглядом голые половицы, кресла с торчащими пружинами, вылинявшую скатерть на столе, закопченные стены. – Он ведь не инспектировать нас придет, а дать совет.
Но когда Гэннен пришел, дверь ему открыла мать, а отец стоял на кухне, наклонив голову, выжидая, чтобы его позвали, и только потом пошел в нижнюю комнату, куда мать пригласила Гэннена. Комната выглядела даже более убогой, чем кухня, там было холодно и дула. Через несколько минут Гэннен сам предложил им перейти на кухню.
– Давайте лучше посидим в столовой, – сказал он, и это тактичное определение успокоило мать: она быстро вышла в коридор и широко распахнула дверь.
– Ну зачем, пускай остаются, – сказал Гэннен, когда она погнала Стивена и Ричарда из кухни назад в комнату.
Гэннен грузно опустился в кресло, его руки легли на торчащие пружины, и казалось, будто его крупное тело схвачено капканом.
– А я не знал, что тут подрастают еще два Сэвилла, – сказал он. – Свежее пополнение для первой команды, – добавил он и поглядел на Колина.
– Чего-чего, а силенки у них хватает, – сказал отец, севший на стул у стола. Лицо у него раскраснелось.
Мать собрала чай. Однако только час спустя, когда Гэннен уже начал прощаться, отец наконец сказал:
– Ну, так что же, мистер Гэннен? Как вы считаете?
– Я считаю, что Колину следует поступить в университет, – сказал учитель. Он стоял на пороге парадной двери и смотрел назад, в освещенный коридор.
– Угу, – сказал отец неопределенно, словно учителя вовсе здесь не было, а он прислушивался к голосу, доносящемуся из другой комнаты.
– Если я как-то могу помочь, – сказал Гэннен, – дайте мне знать. – Он шагнул назад в коридор и пожал руку матери, а потом отцу.
– Я провожу вас до остановки, если хотите. Я покажу ему дорогу, – добавил Колин, обращаясь к отцу.
– Если нетрудно, – сказал Гэннен, который остановился на крыльце, видимо довольный, что пойдет не один. – Я ведь далеко не сразу нашел ваш дом, – добавил он.
Уже стемнело. Над шахтой висела желтая луна, и на фоне облачной гряды вырисовывалась вершина террикона. Некоторое время они шли молча. Улицу затягивал легкий туман. Их шаги звонко отдавались между домами.
– По-вашему, они согласятся? – сказал Гэннен.
– Не знаю, – сказал он. – Представления не имею.
– Конечно, я отдаю себе отчет, с какими это связано трудностями, – сказал учитель, словно уже не сомневался, что потерпел неудачу. – Уже то, что они довели вас до шестого класса, большая их заслуга, – добавил он.
Свет фонарей падал на укутанные фигуры встречных.
– Кем вы хотели бы стать в идеале? – спросил учитель.
– Не знаю, – сказал он и добавил: – Поэтом.
Гэннен улыбнулся. И посмотрел на него.
– А вы пишете стихи?
– Немного.
– Но все-таки.
– Очень мало.
– Вы не похожи на поэта, – сказал Гэннен примерно так же, как говорил с ними в классе. – Мне всегда казалось, что поэты – худосочный народ. Во всяком случае, все мои знакомые поэты были такие. Впрочем, у меня на них никогда не хватало времени. – Затем, словно решив, что был слишком резок, он добавил: – Насколько я понимаю, они просто проходили определенную стадию. Во всяком случае, каждый раз это подтверждалось. В большинстве неплохие были ребята. И вскоре так или иначе начинали преподавать, как и все мы, грешные. – Он засмеялся. Его голос далеко разносился по улице. – В любом случае поэзией много не заработаешь. Это вообще не профессия. А чем бы вы хотели заняться, чтобы зарабатывать себе на жизнь?
– В конце концов буду преподавать, – сказал он.
– А на поле во время схватки вы сочиняете? – спросил Гэннен, явно довольный его признанием.
– Нет, – сказал он. – Там уж не до этого.
– Иногда, насколько помнится, я замечал у вас определенную апатичность, – сказал учитель, посмотрел вперед и добавил: – Это уже остановка? Я бы ее не нашел. – Он указал дальше по улице. – По-моему, я слез где-то там.
Когда наконец появился автобус, Гэннен протянул ему руку.
– Надеюсь, вы объясните родителям, какие это даст вам преимущества, – сказал он, – не упоминая про поэтическое призвание. На вашем месте я бы ограничился перечислением профессий, доступ к которым открывает университет, – добавил он, влез в автобус, не оглянувшись, прошел вперед и сел там, словно уже забыв о том, куда он ездил и зачем.
В этом году он постоянно играл в первой команде, выступал за школу на легкоатлетических соревнованиях, а в пасхальные каникулы нанялся на ферму и начал готовиться к июньским экзаменам. Это было чуть не самое счастливое время в его жизни. Даже регби его увлекало, потому что игру приходили посмотреть девочки – Одри, и Мэрион, и сдержанная тихая Маргарет, которая всегда стояла чуть в стороне от их шумной компании. Даже тренировки два раза в неделю доставляли ему теперь удовольствие: с нападающими занимался Гэннен, а с остальными – Картер, преподаватель физкультуры. Нападающие играли между собой, строили схватку с игроками второй команды, отрабатывали отражение захвата, прорывы, вбрасывание, а также позиции в схватке, часами, как им казалось, толкая металлический тренажер. Гэннен командовал: «Ниже, ниже, спину не прогибать, нажим вверх», просовывал мускулистую руку между торсами, пригибал головы, ставил бьющие по мячу ноги в правильное положение, а с другого конца поля доносились выкрики Картера – Стэффорд передавал мяч или с другим игроком разучивал удары по воротам издалека.








