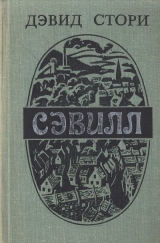
Текст книги "Сэвилл"
Автор книги: Дэвид Стори
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 35 страниц)
– Мисс! Мисс!! – повторяли несколько мальчиков.
– Две трети, выраженные в десятичных дробях, составляют?..
Она подождала.
– Уокер?
Уокер благоразумно убрал руку на более безопасное место почти у самой парты, но тем не менее что-то – возможно, его красный носик – привлекло внимание мисс Вудсон.
– Не знаю, мисс, – сказал он и мотнул головой.
– Уокер не знает. Интересно, – добавила она, – относится ли это… – она помолчала, – и ко всем остальным?
– Мисс, мисс! – повторяли чуть ли не все мальчики.
– Сэвилл!
– Ноль целых, шесть, шесть, – сказал он, – в периоде.
– Ну что же, – сказала она. – Надеюсь, вы все это слышали. – Очки в толстой оправе были медленно сдвинуты вниз. – Уокер!
– Ноль целых, шесть, шесть в периоде, – сказал Уокер.
Поднятые руки опустились.
– А чему равна одна треть, выраженная в десятичных дробях, Уокер?
– Ноль целых, три, три в периоде, – сказал Уокер.
– А если бы я попросила вас дать мне две трети фунта, Уокер, сколько вы мне дали бы?
– Две трети, мисс? – сказал он. Его глаза расширились, нос стал еще краснее. Ноги под партой переминались.
– Две трети, Уокер, – сказала мисс Вудсон.
– Две трети фунта – это будет… – сказал Уокер, лихорадочно шевеля сплетенными пальцами. – Две трети…
– Стивенс!
– Да, мисс?
– Что это за «да, мисс»? Две трети фунта, Стивенс, в шиллингах и пенсах.
Голова Стивенса задергалась, его лицо просветлело от ужаса, даже волосы затрепетали, и он сгорбился еще больше обычного, словно стараясь соскользнуть под нарту.
– Мисс, мисс! – повторяли двое-трое мальчиков.
И вновь дружным защитным жестом почти все подняли руки.
– Две трети фунта, Стивенс.
Взгляд Стивенса оторвался от глаз мисс Вудсон, медленно перешел на дверь позади нее, потом безнадежно скользнул по стене и примерно на полпути задержался на низком прямоугольном окне, которое выходило на подпорную стенку подъездной дороги. Сквозь частую проволочную сетку не было видно ничего, кроме изъеденных временем камней.
– Двенадцать шиллингов, мисс. Примерно, – сказал он.
– Двенадцать шиллингов, Стивенс. Примерно, – сказала мисс Вудсон. Ее губы растянулись, внезапно стали видны два ряда крупных неровных зубов. – Если двенадцать шиллингов равны двум третям фунта, чему равен остаток? – сказала она.
– Мисс, мисс! – повторяли несколько мальчиков.
– Восемь шиллингов, мисс Вудсон, – сказал Стивенс.
У него дрожали уже и губы. В глазах стояли слезы.
– Равен, Стивенс, равен. Если двенадцать шиллингов соответствуют двум третям, чему соответствует остаток?
– Одной трети, мисс.
– А одна треть, по вашему расчету, Стивенс, равна восьми шиллингам. В таком случае чему равны три трети?
– Мисс! – сказали несколько мальчиков.
– Двадцати четырем шиллингам, – сказал Стивенс.
– А сколько шиллингов в фунте, Стивенс?
– Двадцать шиллингов, мисс, – сказал он.
– Так сколько же шиллингов и пенсов составляют две трети фунта, Уокер?
– Вы мне, мисс? – сказал Уокер.
– Что это за «вы мне, мисс?», Уокер? Или я стенку спрашиваю? – сказала она. – Отвечайте, не то я вас выдеру.
Она медленно поднялась из-за стола и пошла по проходу между партами, глядя в окно в глубине класса. За ним виднелась площадка для игр: между кирпичными бомбоубежищами трусила черная собачонка.
– Не знаю, мисс, – сказал Уокер.
– Идите к столу, Уокер, – сказала мисс Вудсон.
Уокер встал. Чуть наклонив голову набок, он осторожно проскользнул между своей партой и мисс Вудсон.
– Станьте лицом к доске, Уокер, – сказала мисс Вудсон.
Он повернулся к доске, заложив руки за спину, расставив ноги.
– Возьмите лежащий перед вами кусок мела.
Уокер взял мел из деревянного желобка под доской.
– Напишите на доске «один фунт», Уокер.
Уокер, вытянув руку вверх, написал: «один фунт».
– Теперь, Уокер, разделите один фунт, – сказала мисс Вудсон, – на три. Четко и подробно. Мы все хотим убедиться в вашем невежестве, – добавила она.
– Единица на три не делится, мисс, – сказал Уокер. Он стоял, крепко сжимая белую палочку в поднятой руке.
– О господи! А что мы делаем в подобных случаях, Уокер? – сказала мисс Вудсон.
Она осталась у задней стены и смотрела на Уокера и доску через весь класс.
– Превращаем фунт в шиллинги, мисс Вудсон, – сказал Уокер.
– Так покажите нам, как действует ваша блистательная логика, Уокер, – сказала она. – Двадцать шиллингов, разделенные на три.
– Двадцать, деленное на три, дает шесть, – сказал Уокер. – И два в остатке.
– Два чего, Уокер? Два уха, два глаза, два локтя?
– Два шиллинга, мисс.
– А как мы делим их, Уокер?
– Превращаем их в пенсы и делим на три, мисс, – сказал Уокер.
– И каков же ответ, математический гений?
– Восемь пенсов, мисс.
– Так чему же равна одна треть фунта, Уокер?
– Шести шиллингам восьми пенсам, мисс Вудсон, – сказал Уокер.
– Идите на место, гений, – сказала мисс Вудсон.
Она медленно пошла по проходу.
– Когда я задам вам следующий вопрос, чтоб я не видела опущенных рук. Чему равны две трети фунта?
Все, кроме Стивенса, мгновенно подняли руки.
– Так чему же равны две трети фунта, Стивенс?
Он что-то быстро писал пальцем на крышке парты.
– Вы моете парту, Стивенс? – сказала мисс Вудсон. – Или стараетесь ее отполировать?
– Нет, мисс, – сказал Стивенс и мотнул головой.
Несколько мальчиков засмеялись.
– Я не дам вам больше ни секунды, Стивенс. Две трети фунта – отвечайте сразу же!
– Шестнадцать шиллингов восемь пенсов, мисс.
Мисс Вудсон сняла очки и с неожиданным, не свойственным ей раздражением ударила ладонью по парте.
– Что это за ответ, Стивенс? – сказала она, глядя ему прямо в глаза.
Темноволосый мальчик помотал головой. Казалось, эти двое заняты каким-то своим разговором: Стивенс еще больше сгорбился, мисс Вудсон наклонялась к нему, их разделяли какие-то дюймы.
– Так чему же равны две трети фунта, Стивенс?
– Я не знаю, мисс, – сказал Стивенс и снова мотнул головой. Он всхлипнул, сжал голову обеими руками и стукнулся лбом о парту.
Секунду мисс Вудсон смотрела на его волосы, потом с чем-то похожим на стон, на самозабвенный, придушенный вопль, она медленно выпрямилась.
– Кто в этом классе не знает, чему равны две трети фунта? – сказала она.
Все руки были подняты.
– Две трети фунта, – повторила она почти нараспев.
– Мисс! Мисс! – выкрикивали почти все.
– Ну, Уокер?
– Тринадцать шиллингов четыре пенса, мисс, – сказал он.
– Тринадцать шиллингов четыре пенса, – сказала мисс Вудсон. – А чему это равно в десятичных дробях?
– Ноль целых, шесть, шесть в периоде, мисс, – сказал он.
– А чему равны в десятичных дробях шесть шиллингов восемь пенсов?
– Ноль целых, три, три в периоде, – сказал Уокер.
– А теперь весь класс – чему это равно?
– Ноль целых, три, три в периоде, – сказал весь класс.
– А какую часть фунта составляет ноль целых, три, три в периоде?
– Одну треть фунта, мисс Вудсон, – сказал класс.
Она опустилась на стул. Стивенс упирался в парту лбом и тихо всхлипывал, сжимая голову руками. Его горб торчал, точно упрекая класс.
– Никто не знает, где-нибудь требуется судомойка? – сказала мисс Вудсон.
– Левой, левой. Левой, – говорил Картер. – Левой, мальчик. Левой. Левой. Правую поднять к щеке, мальчик. Нельзя открываться.
Он ткнул правой перчаткой в лицо Колина.
– Выше, выше! К подбородку, мальчик, – говорил Картер.
Он поднял перчатку к подбородку и получил более сильный удар по ребрам. Хотя Картер был почти одного с ним роста, его руки вдруг стали словно вдвое длиннее. Левая ткнула его в лицо, правая под ребра, и секунду спустя он ударился о канат, и зал – то есть та его часть, которую он мог видеть, лежа на спине, – медленно закружился у него над головой.
– Вставайте, Сэвилл, – сказал Картер. – Это еще не нокаут.
Холодная вода пролилась на его макушку, сбоку приплясывали фигуры в белых майках и с большими пухлыми перчатками коричневого цвета на руках. Преподаватель физкультуры протащил его под канатом, вызвал другого мальчика и вернулся на ринг.
Он сидел на скамье возле ринга и ждал, когда опять придет его очередь.
Картер был в красных тренировочных брюках и в майке. Маленький рост, лицо с почти точеными чертами – кукольные глаза, крохотный носик. Длинные волосы он аккуратно зачесывал поперек головы, и при каждом ударе концы прядей подпрыгивали.
Он боксировал с мальчиком из старшего класса и держал левую руку вытянутой.
– Нанеся удар, не ждите, Томпсон, – говорил он. – Прощупайте левой и, если ничего больше делать не собираетесь, отступите. Не болтайтесь без толку на средней дистанции.
Он еще раз продемонстрировал, в чем заключалась ошибка Томпсона.
– Ну-ка, пригласим опять малыша Сэвилла, – сказал Картер. – Он хотя бы может показать вам, как избегать этого.
Колин поднырнул под канат.
Он обмял одну перчатку о ладонь, потом другую. Учитель подозвал старшеклассников, вытер полотенцем шею и руки, потом лицо и грудь. Полотенце он повесил на канат, протянутый между верхушками столбиков в мягких чехлах.
– Остерегайтесь встречного удара, Сэвилл. Я могу нанести его в голову или в корпус, а то и левой. Не делайте того, что делает Томпсон, – нанеся удар, не топчитесь на месте.
Колин стал в стойку. Картер пригнулся. Перед тем как продемонстрировать удар, он всегда поднимал голову, но теперь, сдвинув брови, он глядел на него между перчатками, точеное лицо угрожающе наклонилось – Колин словно вел бой с большой обезьяной, со свирепым шимпанзе.
Он ударил левой и отступил, потом снова ударил левой, но, как и в первый раз, даже не коснулся подпрыгивающей головы Картера. Едва он выбрасывал руку, как маленькая голова ускользала. Он ударил правой, промахнулся, ударил левой, примериваясь к дистанции. По лицу Картера словно бы скользнула улыбка.
Колин шагнул вперед. Ему казалось, что надо все время идти на сближение: самый стремительный встречный удар он успеет принять на перчатки. Он оттеснил Картера из одного угла ринга в другой, потом в третий. Теперь он непрерывно наносил удары левой и один раз с удовольствием почувствовал, как дернулась голова учителя, мельком заметил растерянность на его лице, а затем тоже пригнул голову, поднял правую руку к щеке и, входя в ближний бой, выбросил ее вперед. Левой он ударил Картера в голову, отступил, измеряя расстояние до подбородка учителя, отвел правую руку назад и тут же ощутил в груди острую жалящую боль. В глазах у него вспыхнули цветные искры, на секунду все утонуло в красноватой мгле, в синем тумане, и мгновение спустя он увидел над собой железные балки потолка, усеянные круглыми шляпками болтов.
– Первое правило в боксе, – сказал Картер, – никогда не терять головы.
Гимнастический зал был полон голосов, слышался привычный дробный стук тренировочной груши о металлическую стойку. Возле ринга подпрыгивали две фигуры. Может быть, они все-таки подумали, что он поскользнулся.
Он медленно поднялся с пола, почувствовал, что ему в руки сунули полотенце, вдохнул его запах, запах пота и пыли, и когда наконец поднял голову, то увидел Картера на ринге с одним из старшеклассников. Он парировал удары, давал указания, снова парировал.
– Можете идти переодеваться, Сэвилл, – сказал учитель через плечо и продолжал давать наставления своему противнику.
Он повесил полотенце на канат и прошел через зал в раздевалку. Лампочка в проволочной сетке тускло освещала пыльный пол.
Когда он кончил переодеваться, вошел Картер. На шее у него висело полотенце, только что приглаженные иссиня-черные волосы лежали поперек головы, точно ровный тонкий слой черного лака.
– Стараться меня уложить нет никакого смысла, – сказал он. – Моя обязанность – учить. Мне платят не за то, чтобы я изображал тренировочную грушу, и я не собираюсь ее изображать. Вы поняли?
– Да, – сказал он и добавил: – Сэр.
– Машите кулаками, сколько хотите, на площадке для игр или, например, у себя дома. А здесь вы выходите на ринг для того, чтобы кое-что узнать о боксе – не так уж много, но все-таки. Вы поняли?
– Да, – сказал он.
– Если вам захочется прийти еще раз, я буду рад. Если нет, расстанемся по-хорошему. – Картер протянул руку.
После некоторого колебания Колин пожал ее.
Уходя, он поглядел за раздвижные двери в зал. На полу лежала широкая полоса солнечного света, пригашенного матовым стеклом. Фигуры старшеклассников в белых майках, пританцовывая, то появлялись на свету, то ускользали в тень – они выпрямлялись, резко ныряли вниз, и, закрывая за собой дверь, он еще слышал их неровное, прерывистое дыхание.
Вечерело. Из контор начинали выходить служащие, и узкие улочки, ведущие к центральной площади, мало-помалу заполнялись людьми. Стайками шли девочки в зимней форме – синие юбки, белые блузки и синие пальто, достающие почти до щиколоток. Вместо соломенных шляпок на них теперь были береты. К ним присоединялись компании мальчиков из старших классов, они толпились на тротуарах вокруг площади, собирались перед большими окнами отеля, стояли, прислонясь к стене, уткнув носок ботинка в асфальт или расставив ноги, небрежно сунув руки в карманы, сдвинув фуражку на затылок.
Автобус был полон. Он сел наверху. Закрытые окна запотевали. Мимо проносились поля. Пассажиры вставали, снизу по узкой лестнице возле него поднимались другие. Когда он сошел в поселке, у него подгибались колени.
Задувал холодный ветер. Солнце зашло. Он шел по узким улочкам, испытывая странное ощущение, словно его подвесили в воздухе.
– Война кончится, еще и года не пройдет, это уж точно, – сказал отец.
Он сидел на крыльце с мистером Ригеном спиной к кухне. Тени на земле перед ними протянулись уже далеко.
Они сидели так почти час, и до Колина у кухонного стола время от времени доносился голос мистера Ригена, а иногда, прежде чем сказать что-нибудь, мистер Риген оглядывался, посмеивался и кивал:
– Вот наглядный урок нам всем – мальчик, который долго лямку тянуть не будет. Ему все дороги открыты, Гарри.
Отец смеялся, потом озабоченно оглядывался, проверяя, как он занимается.
– Шел бы ты в комнату, чтобы не отвлекаться, – посоветовал он.
Колин поглядел на него и помотал головой: матери не было дома, она поехала к своим родителям, и ему не хотелось сидеть взаперти.
– Стоит ей кончиться, все пойдет по-другому, – сказал мистер Риген. – Хватит жить нищими, точно тебя камнем придавило, выскребывать пропитание, как крысы.
– Навряд ли так уж все переменится, – сказал отец и снова оглянулся через плечо на истертые половички, на обветшалую мебель. – До войны жилось туго, так не думаю, чтобы после стало намного легче.
За последний год отец попритих; он уже не хватался за газету с прежней жадностью, не кричал, чтобы они замолчало, едва по радио начинали передавать последние сводки. Словно какой-то жизненно важный вопрос, которому он отдавал всю свою страсть, вдруг разрешился, и ему приходилось искать, чему теперь посвятить себя; словно чувства, которые прежде обуревали его, когда он читал в газете или слушал по радио сообщения о боях, о наступлениях, об оружии, захваченном у противника, искали теперь другого выхода, другого кипения событий, чтобы сосредоточиться на них. Теперь он был ответственным за противовоздушную оборону по их улице, и в чулане под лестницей хранился латунного цвета насос с деревянной ручкой и пожарный шланг. В большом заброшенном доме возле шахты был устроен пост противовоздушной обороны: две комнаты привели в жилой вид, и там сменные дежурные кипятили себе чай и спали, а когда начинали выть сирены, прислонялись к стене снаружи, курили и рассеянно поглядывали на двор шахты. Налеты теперь бывали редко. Как-то ночью два самолета бомбили город, и на следующее утро Колин по дороге в школу увидел из окна автобуса торчащий среди груды развалин дом со срезанным фасадом.
– Больше не будет безработицы, – говорил мистер Риген. – Не то что в прошлый раз: офицеры продают шнурки для ботинок, ни работы, ни крова над головой для тех, кто вернулся.
Каждый раз, когда он наклонялся вперед, открывались его подтяжки. Он пришел без пиджака, но поверх жилета надел джемпер. Подтяжки кончались петельками, и под ними виднелся верх подштанников.
– Да откуда же быть разнице, – сказал отец. – Те, у кого были деньги, так при них и остались, а у кого их не было, так и сейчас нет.
– А, дайте только ей кончиться, и будет большая перетряска, – сказал мистер Риген. Он курил трубку – недавнее приобретение, и запах ее чувствовался в самой глубине кухни. Дым голубоватым маревом повисал в воздухе над крыльцом. – Слишком много народу перебито, слишком много стран пострадало, чтобы все осталось, как прежде.
– Ну, может быть, кое-что и станет получше, – сказал отец со вздохом и без всякой убежденности в голосе.
Во дворе раздались шаги.
В прямоугольнике двери появилась миссис Шоу.
– И какие же великие проблемы вы решаете? – сказала она. – Привели мир в порядок или еще нет?
– Немножко его закруглили, миссис Шоу, – сказал мистер Риген. – Убрали острые углы.
– Вот те на! А я про них ничего не знала, – сказала миссис Шоу.
– Да уж не сомневайтесь, поглаже стал, – сказал отец. – Риген только рот раскроет, и все в ажуре.
– Ну, я себя таким уж замечательным философом не считаю, Гарри, – сказал мистер Риген. Он поднялся и поклонился миссис Шоу. Вновь мелькнули петли подтяжек и белые тесемочки. – Просто у меня есть общий взгляд на положение вещей, а именно что оно улучшается.
– Да, уж ухудшаться ему некуда, – сказала миссис Шоу.
– Что-то нынче вечером у нас во дворе грустно! – сказал мистер Риген. Он предложил свое место на крыльце миссис Шоу, но она, поблагодарив, отказалась, и, поддернув у колен брюки в узкую полоску, он снова сел. – Если не ошибаюсь, близко время весны, когда мысли молодых людей обращаются к любви. И мысли молодых женщин, если не ошибаюсь.
– Что-то я тут молодых людей не замечаю, да и молодых женщин тоже, если уж на то пошло, – сказала миссис Шоу, слегка взвизгнула и рассмеялась. – А вы как считаете, миссис Блетчли?
Сбоку донесся голос миссис Блетчли:
– Я стараюсь держаться подальше от этих двух кавалеров, миссис Шоу. Особенно когда они друг другу подыгрывают.
– Ах, дамы, дамы, да разве мы будем друг другу подыгрывать? – сказал мистер Риген. Он снова встал, на этот раз, по-видимому, для того, чтобы поклониться миссис Блетчли, которую заслонял косяк. – Неужто, видя двух столь очаровательных представительниц прекрасного пола, человек вроде меня или вроде мистера Сэвилла будет способен кому-то подыгрывать, даже если мы совсем голову потеряем? Каждый сам за себя в нашем мире, миссис Блетчли.
– Нет, вы только его послушайте! – сказала миссис Блетчли, взвизгнула, как миссис Шоу, а потом засмеялась, только не так громко. – У него не язык, а просто ложка с сахаром. Что угодно подсластит – проглотишь и не заметишь. Хорошо еще, что он живет через две двери, а не рядом, – добавила она. – А то не обобраться бы нам хлопот.
– Неужто я позволил бы кирпичным стенам, не говоря уж об окнах и дверях, разлучить меня с теми, кем я восхищаюсь, миссис Блетчли? – сказал мистер Риген.
Они обе снова засмеялись – слева и справа от открытой двери раздалось визгливое хихиканье.
– Нет, вы только его послушайте! – сказала миссис Шоу.
– Ах, красоте можно много лет поклоняться с почтительного расстояния, миссис Блетчли, – сказал мистер Риген. – Самые беззаботные из нас могут таить в груди страсть, на удивление ближайшим своим друзьям. Верно, Гарри? – добавил Риген.
– Он, конечно, может, что-то и скрывает ото всех, – сказал отец и тревожно оглянулся на дверь, точно ему не очень хотелось, чтобы Колин узнал про эту сторону жизни мистера Ригена.
– О, миссис Блетчли! Какие тайны самые незаметные из нас прячут подчас в сердце своем! – добавил мистер Риген. Его большая голова легким движением поворачивалась из стороны в сторону, худая шея покраснела, словно показывая всю меру чувств, которые вдруг преисполнили его при виде этих двух женщин. – Пусть каждый занят своим каждодневным трудом, но ведь наступает минута, когда он поднимает глаза и видит в какой-нибудь дальней двери, в каком-нибудь дальнем окне головку, личико, прелестную ручку или очаровательное ушко, миссис Блетчли. Как догадаться, чья прелестная ручка, чье прелестное ушко, чье личико, чей стан и так далее зажгли в нем этот огонь? И как догадаться, кто же тайно лелеет жаркое томление в своей груди?
– Сахару-то, сахару! – сказала миссис Блетчли и засмеялась даже еще пронзительнее.
– Будь я на пяток лет помоложе, пожалуй, я перескочил бы через ваш забор, заставил бы затрепетать ваше сердечко, – сказал мистер Риген и привстал.
– Мистер Риген! – сказала миссис Блетчли. – А что, если бы мистер Шоу был сейчас дома или мистер Блетчли?
– Да уж, не будь кому за ним приглядывать, он, пожалуй, такого натворил бы! – сказала миссис Шоу.
И снова по обеим сторонам двери раздалось визгливое хихиканье.
– Будь мистер Блетчли здесь, – сказал мистер Риген, – я бы напомнил ему, какое сокровище он покинул. Но пока он сражается за короля и родную страну, неужто я позволю себе приударить за его супругой?
– Вам только палец протяни, – сказала миссис Блетчли. Ее голос стал еще пронзительнее и вновь перешел в хихиканье.
– Это что, приглашение, миссис Блетчли, или всего лишь предположение? – спросил мистер Риген. Он встал и отвел назад локти, словно готовый перескочить через забор прямо с крыльца.
– Ох! – сказала миссис Блетчли и взвизгнула. Ее визг словно эхом отозвался по другую сторону двери.
– Держи меня, Гарри, держи меня! – сказал мистер Риген, опуская руку на плечо отца. – Перед такой женщиной разве устоишь!
– Ох! – снова сказала миссис Блетчли, но уже дальше от двери.
– Неужто, миссис Блетчли, вы закроете дверь на засов и оставите красавца вроде меня томиться снаружи? – сказал мистер Риген и, взмахнув рукой, вскинул ногу, точно уже перелетал через забор одним прыжком.
От соседней двери вновь донеслось пронзительное хихиканье, а затем что-то сказала миссис Маккормак со своего крыльца.
– Мистер Риген опять взялся за свое, миссис Маккормак, – сказала миссис Блетчли. – Говорит, что мне и у себя дома не укрыться, – добавила она.
С соседнего крыльца было дано несколько советов, и мистер Риген, словно укрощенный, опустил ногу, опустил руку и, не снимая ладони с плеча отца, медленно сел на приступку.
– Их три против одного! Мне ли спорить, что женщинам всегда достается все самое лучшее.
Со двора донесся общий визг.
– С каких это пор женщине достается хоть что-нибудь хорошее, мистер Риген? – сказала миссис Шоу.
– Хоть что-нибудь? – сказал мистер Риген. – Все самое лучшее только ей да ей, – добавил он. – Лучшие из нас, – он хлопнул себя по груди, – в самом соку. Лучшая часть нашей получки вечером в пятницу. И лучшая часть дня в полном ее распоряжении: лежи себе полеживай на диване с коробкой конфет под рукой. Разве вы видели женщину в шахте? Разве вы видели, чтобы женщина на передовой защищала родную страну?
– Кто бы говорил! – сказала миссис Блетчли. – Сидите себе спокойненько в конторе, в камине уголь горит, а передовую разве что в газете видели.
– Господи, да когда хоть один мужчина взял верх над женщиной? – сказал мистер Риген. Все еще держась за плечо отца, он посмотрел в кухню. – Берегись этих валькирий, парень, – добавил он. – Колдуньи они. Все до единой.
– Уж мы вас околдуем, не беспокойтесь! – сказала миссис Блетчли. – Фу-ты ну-ты, и петлица для гвоздички!
– Господи, навалились на меня со всех сторон! – сказал мистер Риген. – Не отступить ли нам на кухню? – добавил он. – Мужчине просто из дому выйти нельзя!
– И женщине тоже! Особенно когда вы близко или этот, другой красавчик, – сказала миссис Блетчли и захлебнулась хихиканьем.
– Господи, Гарри! Они и к тебе подбираются! – сказал мистер Риген и вскочил так стремительно, словно хлынул дождь. Он почти никогда не заходил к ним в дом и теперь только одернул жилет и джемпер, вежливо поклонился сперва в сторону миссис Блетчли, потом в сторону миссис Шоу и, все еще кланяясь, пошел через двор.
– Любит Риген чесать языком, – сказал отец, медленно поднимаясь на ноги и входя в кухню. – Если бы он хоть вполовину так работал, то давно разбогател бы, а не посиживал бы тут на крыльце для провождения времени.
Он подошел к очагу и поставил на него чайник. Однако его лицо все еще сохраняло оживление после разговора на крыльце. Он скрутил из газеты фитилек, сунул его в огонь, быстро выпрямился и прикурил от фитилька сигарету.
– Ну, да миссис Блетчли, когда даст себе волю, еще почище будет. Такого наговорит, что уши вянут, – добавил он.
Однако болтовня мистера Ригена, казалось, на него подействовала – он словно испытывал радостное возбуждение, по старался его не выдать.
– У твоей матери на это нет времени, – добавил он. – Можешь мне поверить. – Он как будто хотел принять меры предосторожности, чтобы она не узнала про этот разговор. – А они всегда рады языком трепать, и никакого соображения.
Он несколько секунд постоял у стола, рассеянно глядя на учебники и тетради, потом повернулся к огню.
– Тебе нравится жить тут? – сказал он, опершись рукой на полку, и оглянулся, потому что не услышал ответа. Чайник, придвинутый к самому огню, запел.
– В этом доме? – спросил он.
– В этом доме. В этом поселке. Я все думаю, не переехать ли нам, – сказал отец.
– А куда? – сказал он.
– Не знаю. – Отец покачал головой, словно разговор на крыльце заставил его задуматься. – Только подальше отсюда.
– Подальше не получится, – сказал он. – Тебе же все равно нужно будет ездить на шахту.
– Так я бы ушел.
– А какую другую работу ты найдешь? – сказал он.
– Пожалуй, что и никакую. – Отец покачал головой. – Только и гожусь, что рубить уголь. Вот и весь итог моей жизни, – добавил он.
Он отошел к раковине, вытряс чайничек для заварки, ополоснул его под краном и вернулся с ним к очагу.
– Мы могли бы в город переехать. Тебе бы в школу было ближе. – Он нагнулся, налил горячей воды в чайничек, опять пошел с ним к раковине и ополоснул его.
Потом насыпал в него чай и стал ждать, чтобы чайник закипел.
– Ты все-таки подумай, – сказал он. – Я ничего против твоего мнения делать не хочу. С матерью я говорил, только она и слушать не желает. Она из тех, кто к месту привыкает.
И несколько секунд спустя, словно вызванная мыслью отца, в кухню со двора вошла мать. Она держала на руках маленького. Стивен цеплялся за ее пальто. Лицо у нее было бледное.
– Ну, что вы двое тут без меня поделывали? – сказала она.
Они лежали на двуспальной кровати, как два каменные изваяния на могильной плите. Кровать с металлическими прутьями в изголовье и изножье, с латунными шарами на столбиках стояла в алькове, отделенном от остальной комнаты занавеской, подвешенной на толстой деревянной палке. Занавеска была отдернута. Комнату заполнял звук медленного, тяжелого дыхания, прерывистого, как пыхтение паровоза.
Их маленькие головы терялись в пухлости общей подушки. Он вспомнил, какими они были прежде – круглое румяное лицо бабушки, ее маленькие руки с короткими пальцами и тупыми ногтями, высокую костлявую фигуру деда, его темные печальные глаза и словно развинченные руки и ноги. Теперь их ничто не соединяло, кроме подушки под их головами и лоскутного одеяла, под которым почти не угадывались их тела. Кожа у них была желтой, рты раскрыты, веки опухли, щеки провалились.
– Они уснули, – сказала мать, стоя в ногах кровати, словно перед его приходом долго велась бесплодная битва. Мать захотела, чтобы он простился с дедушкой и бабушкой перед их смертью, и он приехал сюда прямо из школы на автобусе, на котором никогда прежде не ездил. Он уже не воспринимал их как живых людей, в этих лицах было что-то смутное, застывшее, неузнаваемое: в полумраке их белесоватая, как бумага, кожа словно светилась призрачно и жутко. Плечи матери непривычно сутулились: от усталости, схожей с раскаянием, а может быть, от растерянности – это было бы ему понятнее. Она смотрела на их головы так, словно открыла ящик и увидела какой-то загадочный предмет – непонятный, необъяснимый, будящий невнятные воспоминания.
– Все-таки лучше, что они вот так, вместе… – добавила она. – Через час придет моя сестра, и мы поедем домой.
У камина стояло ведро с водой, в нем плавала щетка. Ковер был свернут, каменный пол от камина до черного хода чисто вымыт. В комнате стоял запах мыла, но он не заглушал душного, почти смрадного запаха, исходившего от кровати. На окне была задернута только одна занавеска, и узкая полоска света пересекала кресло, в котором обычно сидела бабушка, и облезлую кушетку в глубине комнаты, на которой прежде всегда лежал дед и молча курил трубку.
– Они весь день ничего не ели, – сказала мать, все еще не отводя взгляда от кровати, словно рассыпанные по ее жизни отдельные части очень важного, очень нужного целого вдруг собрались воедино, по это ничего ей не открыло и ничем не помогло. Руки у нее покраснели после мытья пола, завернутые выше локтя рукава были мокры. Фартук, который она захватила из дома, тут почему-то казался непривычным. Он никогда еще не видел ее такой беззащитной; внезапно она заплакала и достала платок из кармана фартука. Приподняв очки, она утерла глаза.
– Жизнь им выпала такая тяжелая, такая тяжелая. У них никогда ничего не было. И я им одни заботы доставляла.
Она выжидательно умолкла. Он снова посмотрел на кровать. Теперь он не испытывал ничего, кроме ужаса, – страшные, совсем одинаковые головы, точно две головы одного тела, объединенные подушкой, объединенные симметричными зубчатыми полосами лоскутного одеяла.
– Они так хотели, чтобы ты у них почаще бывал, Колин, – сказала она, говоря уже от их имени, но ему вспомнились только отчужденные, почти хмурые взгляды. – Они так гордились, что ты сдал экзамены, – добавила она и посмотрела на головы, словно ожидая, что одна из них вот-вот приподнимется, подтвердит ее слова, разомкнет распухшие веки, прищурится на него, с возгласом одобрения или ликования упадет на подушку и опять задышит медленно, прерывисто, хрипло. Точно горло у них было чем-то забито, точно под лоскутным одеялом их стискивали невидимые руки и выдавливали из них жизнь.
– Бедная мама, – сказала мать, и он перевел взгляд на нее, потому что ему было странно слышать, как его мать называет кого-то мамой.
По ее лицу медленно расползался воспаленный румянец, в расширенных глазах блестели слезы. Она тоже смотрела на него, точно теперь искала у него защиты от этих фигур на кровати.
– Надо взять себя в руки, – сказала она и снова утерла платком слезы. – Ты чего-нибудь поешь? – добавила она почти спокойно, так, словно он только что вернулся домой, и повернулась к газовой горелке у камина.
– Нет, – сказал он и мотнул головой.
– Ты что-нибудь ел? – спросила она.








