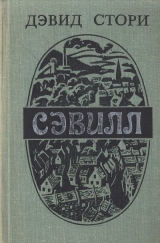
Текст книги "Сэвилл"
Автор книги: Дэвид Стори
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 35 страниц)
Один солдат поселился у них в доме. Ему отдали свободную комнату – тесную каморку рядом с комнатой Колина. Это был высокий, ладно сложенный человек – совсем такой, каким Колин представлял себе солдат – и куда выше его отца. Иногда он стоял на кухне перед огнем в рубашке и грубых форменных брюках, но чаще лежал на кровати у себя в комнате, смотрел в потолок, курил или жидким тенорком пел песни.
Он принес с собой винтовку. Она была прислонена у двери в его комнате. В узком пространстве между кроватью и стеной он разложил свою амуницию. Она вся потемнела от соли, а одежда, которую он вытряхнул из вещевого мешка, была мокрой.
Чуть не половину его занимали три большие жестянки. Две были до краев полны сахара, и солдат отдал их матери, а она поставила их в шкафчик у очага сохнуть. В третьей жестянке лежали медали, металлические пуговицы и деньги.
Вечером солдат возвращался из пивной, садился к кухонному столу и пересчитывал деньги, раскладывая их аккуратными кучками серебряного и медного цвета, а потом смеялся, откидывался на спинку стула и говорил:
– Будь я немцем, ходил бы я в богачах!
Он часто садился у очага и смотрел на огонь, а иногда сажал мальчика себе на колено, доставал из нагрудного кармана, где хранил бумажник, фотографию женщины с тремя детьми, указывал на них поочередно толстым пальцем, желтым от табака, и рассказывал ему, как их зовут и что они делали, когда он видел их в последний раз. Он был откуда-то издалека, и Колин не всегда понимал его выговор.
– Ничего не поделаешь, малыш, так уж я говорю, – смеялся солдат и поглядывал на Сэвилла. – Я ведь из такого места, где все расхаживают в чем мать родила.
Он часто уходил гулять с отцом, а иногда отец вел его посмотреть убежище, отпирал дверь, впускал внутрь, зажигал лампу, и солдат осматривался, по настоянию отца пробовал нары – ложился на них, раскинув ноги, подсунув руки под голову.
– Надежно, как в крепости, – говорил отец.
– Еще понадежней будет! – говорил солдат и смеялся.
Гулять они шли, заложив руки в карманы, исчезали в конце улицы и возвращались нескоро, с пучками цветов или пожевывая травинки.
– Да вы из-за меня не беспокойтесь, – говорил солдат, если они приходили поздно и ужин перестаивался. – По всем правам мне бы уж давно мертвым быть, так что для меня любое сгодится. Накладывайте, и дело с концом.
Каждое утро он выходил на улицу и вместе с другими солдатами маршировал взад и вперед. Дети бежали за ними по тротуарам. В воскресенье солдаты кучками уходили в луга или на станцию, рассаживались на кирпичной ограде у мостика, смотрели на пути и курили.
Однажды солдат позвал Колина к себе в комнату и достал из мешка патроны – пять штук, скрепленных у основания. Гильзы были медного цвета, а пули – серебряного.
– Валяй, забирай их, – сказал солдат. – У меня их много. – Он достал еще несколько штук и разложил на одеяле. – И винтовку бери, – сказал он. – Она мне не нужна.
Он протянул руку к двери, взял винтовку, открыл затвор и показал, куда надо вложить патроны.
– Ну вот, – сказал он. – Можешь застрелить кого захочешь.
Он смеялся, глядя, как Колин с трудом держит тяжелую винтовку.
– Нет уж, в меня не целься, – сказал он. – Я твой друг.
Когда Колин спустился в кухню, мать попятилась, прижала руку к щеке и нахмурилась.
– Это вы ему дали? – сказала она.
– Да, – сказал солдат. – А что? Мне она не нужна.
– Ну хорошо, – сказала она. – Подождем, пока отец вернется.
Отец, когда вернулся, тоже посмотрел на винтовку и сказал таким же голосом:
– Ты ведь ее отдать не можешь, верно?
А солдат смеялся и кивал головой.
– А я ее потерял, – сказал он. – Бери!
– Ладно, – сказал отец. – Я ее пока спрячу. А Колину она ни к чему.
Он запер винтовку в гардеробе в спальне, но по вечерам, когда солдат уже уехал, доставал ее, открывал затвор, вкладывал патроны, вынимал их и целился из окна во что ни попало. В конце концов он все-таки отнес ее в полицию и сказал, что нашел в поле под изгородью.
– Ты что же, не хочешь воевать? – спрашивал он у солдата и хмурился.
– А я уже воевал, – говорил солдат.
– Ну, а снова? – говорил отец.
– Чего ради? – спрашивал солдат. Он либо сидел, развалясь на стуле, либо стоял в одних носках у огня, улыбался отцу сверху вниз и кивал.
– Чтобы защищать свою страну, – говорил отец. – Чтобы защищать свободу. Чтобы твоя жена и дети не попали к ним в лапы.
– А какая разница? – говорил солдат. – Кто бы тут ни заправлял, мы ведь будем жить по-прежнему, как ни крути. Будут богатые, будут бедные и пара-другая счастливчиков, – добавил он, – посередке.
– Что-то я в толк не возьму, – говорил отец и поглаживал затылок, вдруг теряясь под взглядом солдата. – Ты что же, ни во что не веришь?
– Ни во что такое, – говорил солдат улыбаясь и закуривал (если уже не курил) новую сигарету.
– Он чуть не утонул. В море, – сказал отец, когда солдат уехал. – Его втащили в лодку, когда он в третий раз ушел под воду.
– Все из-за жестянок, – сказала мать. – Просто чудо, как это он хоть раз выплыл со всем своим сахаром.
– Ведь он же его отдал, – сказал отец.
– Да, – сказала она. – Ну и что тут такого? У него чуть не все было краденое.
Тем не менее еще долго после того, как солдат уехал, они пили чай с этим сахаром, а потом сварили варенье.
Когда солдат ушел на станцию, маршируя в длинной колонне, Сэвилл пошел его проводить и шагал рядом по обочине. Вернувшись, он сел у огня и смотрел на пуговицы и медали, которые солдат оставил на полке. А потом поднялся в комнату солдата и застелил постель.
Как-то вечером немного времени спустя Колина разбудил вой сирен, и он несколько минут лежал, ожидая, что вот-вот услышит рев самолетов и грохот бомб. Но кроме сирен, ничего слышно не было.
Затем он услышал торопливые шаги отца на лестнице.
– Идем, малый, – сказал отец. – Мы уже собрались.
– Это что, сирены? – сказал он.
– Да, сирены.
– А бомбить они уже начали?
– Нет. Если мы их дождемся, то никуда уже не дойдем, – сказал отец.
Мать была в пальто и держала его курточку.
– Идемте же! Идемте! – Отец приплясывал возле двери. Он уже выключил свет. Вой сирен стих, и до них донеслись голоса, перекликающиеся вдоль улицы.
– Нет, надо одеться потеплее, – сказала мать. – Уж минутку-то они нам дадут.
– Минутку? – Отец у двери зажигал шахтерскую лампу, загораживая ее ладонью. – Никаких минуток они тебе не дадут. Не беспокойся. Сейчас все на нас посыплется, и выйти из дома не успеем.
Они гуськом спустились с крыльца. Отец нетерпеливо оглянулся на мать, которая запирала дверь.
– Хороши мы будем, – сказала она. – Сидим там, а тут весь дом разграбят.
– Разграбят? – сказал отец. – По-твоему, у кого-то будет время?
– Я никаких самолетов не слышу.
– И не услышишь. Не беспокойся. Только когда они будут прямо у тебя над головой. – Ворча, он пошел вперед через двор, и лампа освещала землю у него под ногами. – Сейчас сюда все явятся, – сказал он. – Поняли теперь, что это такое.
От соседнего двора их кто-то окликнул, он остановился и поднял фонарь повыше.
– Что-что? – сказал он.
– Вы наших ребят к себе не возьмете? – спросил мужской голос.
– Ладно, – сказал отец. – У меня им нечего будет бояться.
Из темноты появилось несколько фигур. Они перелезали через заборы, разделявшие огороды. Четыре брата, все старше Колина, жившие дальше по улице. За ними возникла фигура их отца.
– Ты скольких можешь взять, Гарри? – спросил он.
– Как-нибудь разместимся, – сказал отец и оглядел небо. – Надо поторапливаться, – добавил он.
– А как насчет моей хозяйки?
– У нас вам бояться нечего, – сказал Сэвилл. – И для тебя места хватит.
Они столпились у ступенек. Сэвилл порылся в кармане, потом нагнулся к лампе и вынул ключ.
Со двора к бомбоубежищу подходили новые фигуры – Колин еле различал их на фоне неба. Они перелезали через забор, перекликались.
– Осторожней на ступеньках, – сказал отец. – Я сейчас отопру.
– Откуда они прилетят-то? – сказал кто-то, и все головы повернулись к небу.
– Да с любой стороны, – сказал Сэвилл. Он стоял ниже их, на последней ступеньке, наклонившись к двери. Лампа освещала его лицо. Щелкнул замок, скрипнул отодвинутый засов. – Я войду первым, – добавил он, – и зажгу вторую лампу.
Он открыл дверь, помедлил, потом шагнул внутрь.
– Женщины и дети первыми, – сказал кто-то.
Снизу донесся всплеск, затем крик Сэвилла, и свет в убежище внезапно погас.
– Так тебя и растак, – сказал Сэвилл.
Снова всплески, потом кто-то зажег фонарик, и тут же из двери внизу появился Сэвилл. Волосы у него прилипли к голове, одежда облепила тело.
– Затопило, – сказал он. В руке он все еще держал шахтерскую лампу.
– Что случилось, Гарри? – сказал кто-то.
– Да убежище, – сказал он.
– Затопило, что ли?
– Все эти чертовы дожди, – сказал он. – Мне бы последить.
– Ну что же, – сказала мать, – надо идти домой.
– Тут тебя простуда прикончит, а в кухне под столом – бомба, – сказал кто-то сзади, и еще кто-то засмеялся.
Колин пошел за отцом к дому.
– Не понимаю, – сказал Сэвилл. – Не должно было его затопить.
Элин отпирала дверь, а он дрожал и стучал зубами. – Да скорей же, – сказал он. – Чего ты возишься.
– Я ничего не вижу, – сказала она.
– А где лампа? – сказал он и тут же сообразил, что держит ее в руке, совсем мокрую.
Во дворе перекликались голоса, и кто-то смеялся на соседнем крыльце.
– Ну что же, налет был короткий, – сказала мать. – Наверное, скоро дадут отбой.
– Откуда все-таки взялась вода? – сказал Сэвилл. – Не понимаю.
– Столько работы, – сказала мать. – И все впустую.
– А, не беспокойся, – сказал Сэвилл. – Укроемся надежно, как в крепости.
– Где? На кухне?
– Нет. – Он, дрожа, мотнул головой и показал в сторону бомбоубежища. – Когда я ее откачаю.
– Откачаешь? – сказала она. – Сейчас?
– Не сейчас, – сказал он, – а завтра.
– Завтра будет поздно.
Сэвилл помотал головой. Он стоял перед огнем в мокрых трусах и рубашке.
– Не беспокойся, – сказал он. – Сегодня бомбежки не будет. А к тому времени я ее откачаю.
Несколько дней спустя он привез с работы насос. Насос был похож на форму для пудинга, но очень тяжелый. Колин поднял его, только когда ему помог отец. С одной стороны торчала металлическая труба длиной в ярд. Отец опустил ее в воду. Потом, пыхтя и раскрасневшись от напряжения, принялся качать ручку сбоку. Она была деревянная, и при каждом рывке внутри насоса что-то всхлипывало и из длинного шланга с другой стороны вылетала вода.
Она вылетала короткими струями и растекалась по огороду.
Так продолжалось больше часа.
– Всю откачал? – сказала мать, когда они вернулись домой.
– Всю? – отец сидел, положив руки на стол. – Ее ни на дюйм не убавилось.
– Я же говорила, что ведрами будет быстрее.
– Ведрами! – сказал он и стукнул кулаком по столу.
Тем не менее в конце недели Колин уже помогал таскать ведра. Отец стоял на коленях у двери бомбоубежища, нагибался внутрь и зачерпывал ведро, а он тащил его, расплескивая, через двор и выливал в канаву.
– В огороде не выливай, – сказал отец, когда он вылил там первое ведро. – Она назад стекает. Так ее и раз-эдак, нам и за месяц не управиться.
Когда в следующий раз завыли сирены, они забрались в чулан под лестницей. И снова не слышали ни звука. Некоторое время спустя отец встал, собираясь на работу.
– Нет, – сказал он, – не выходите. Сидите здесь, пока не услышите отбоя. – Он осторожно притворил дверь, пошел на цыпочках через кухню и, тяжело дыша, выкатил велосипед во двор. Они услышали, как захрустела зола под шинами, потом стук подошвы, когда он оттолкнулся от земли. Они продолжали сидеть в полной тишине.
Наконец мать встала.
– Ну что же, – сказала она, – больше я тут ждать не буду. – Она открыла дверь, но обернулась, когда он шагнул следом за ней, и добавила: – Нет, Колин, ты останься. Я тебе скажу, когда можно будет выйти.
И он сидел там один, только что заправленная лампа нагревала тесную каморку, а он смотрел на белые стенки чулана, на какие-то коробки, на запасную шину отцовского велосипеда, на гофрированную цинковую лохань с грудой недельной стирки.
Он слышал, как мать ходит снаружи. Она зажгла газ, потом споткнулась о стул.
– Хочешь чаю? – спросила она за дверью.
– Да, – сказал он.
Он услышал позвякиванье чашек и звук струи, льющейся в чайничек для заварки.
Когда мать открыла дверь чулана, он, прежде чем взять чашку, спросил:
– Можно я выйду?
– Лучше останься, – сказала она. – Если что, я успею прибежать.
Когда дверь снова закрылась, он начал следить, как поднимается над чашкой пар, и заметил, что шина словно колеблется в волнах теплого воздуха, выходящего из маленьких дырочек на верху лампы.
После отбоя мать открыла дверь чулана. Она постояла, наклонив голову набок, прислушиваясь, глядя в потолок, потом сказала:
– Ну, теперь все в порядке.
Он поднялся к себе, лег в постель, но все еще ощущал запах стирки и керосинового чада.
Через некоторое время они перестали прятаться в чулан. Когда раздавался вой сирен, он спускался в кухню и сидел там с матерью – и с отцом, если тот был дома. Дверь чулана стояла открытой, и иногда внутри на всякий случай горела лампа.
Потом, когда начались настоящие бомбежки, отец выходил на крыльцо посмотреть и брал его с собой.
Самолеты появлялись с востока и летели над домами так высоко, что их не было видно – только слышался неровный гул моторов, точно зудело в голове. Почти каждую ночь небо на западе озарялось огнем пожаров и дома поселков вставали вокруг темными силуэтами, совсем безжизненные, если бы не тихие оклики из дверей и окон. Казалось, горит горизонт – по небу разливалась тусклая воспаленная краснота. Поперек нее метались лучи прожекторов, а иногда слышно было, как рвутся снаряды зенитных орудий – словно вверху кто-то постукивал.
Как-то отец повез Колина на автобусе в город. Они добирались туда почти час, петляя по узким проселкам между фермами и крохотными деревушками. Потом автобус влез на гребень холма, и они увидели – все еще в отдалении – город на крутом каменном обрыве. Его шпили и башни сверкали в солнечных лучах.
Разрушения они заметили, только когда миновали окраины и переехали через реку. Заводы были целы, их трубы все еще поднимались к небу. Пострадали одни жилые кварталы. Улица за улицей лежали в развалинах, и автобус часто останавливался, пережидая, пока рабочие с лопатами кончат разгребать мусор. А иногда они показывали объезд через какой-нибудь узкий пролом.
Из развалин поднимался дым. Кое-где кучками стояли люди, они смотрели на рухнувшие балки и провалы окон своих бывших жилищ.
В центре города собор и окружавшие его старинные кирпичные здания еще стояли. Высокий черный шпиль уходил в небо на самой вершине холма, открытый со всех сторон. Но он был цел, и только в черных от въевшейся сажи камнях желтели свежие щербины, точно собор поразила неизвестная болезнь и покрыла его желтой сыпью. Несколько окон было разбито, и какие-то женщины внутри подбирали стекло.
– Его не развалить, – сказал отец. – Надежно, как крепость. За него беспокоиться нечего.
Колин шел за отцом, пробираясь среди людей. Сэвилл иногда останавливался перед выпотрошенным магазином или домом, расспрашивал, кивал, и его невысокая коренастая фигура все больше наливалась негодованием.
– Когда доходит до того, что бомбят женщин и детей, это уж черт-те что. И даже хуже.
– Да ведь бомбы не разбирают, куда падают, – сказал какой-то человек. Оказалось, что его дом разбомбили.
– А в дом, куда меня переселили, на следующую ночь тоже попала бомба. Так и гоняют меня из одной дыры в другую.
Когда они вернулись домой, отец сидел в кухне, пил чай и рассказывал матери, что он видел.
– На одной улице дома стоят целехонькие. Все на своем месте. Только в окнах ни единого стекла. Взрывной волной выбило.
– Говорят, десять тысяч человек осталось без крова, – сказала мать.
– А по-моему, так еще больше, – сказал Сэвилл.
Иногда по утрам Колин привязывал к бечевке магнит и волок его по сточным канавам. Он редко находил что-нибудь, кроме ржавых гвоздей и болтов. Но один раз он подобрал обломок сероватого металла с краями, рваными, точно бумага, и слегка обгоревшими. Он положил его в коробку, где лежали военные медали, иностранные монеты, гильзы и пули калибра 7,7 миллиметра.
5
Поселок разделялся на две части. Старая, на вершине холма, к северу, состояла из нескольких обветшалых каменных домов, в которых еще жили, старинного помещичьего дома, давно пустого и обветшавшего, и каменной церкви около него. Дальше были усадьбы трех старых ферм – их поля, соединенные сложной сетью узких проселков, простирались во все стороны.
Новая часть поселка разместилась к югу, у подножья холма. Центром тут была шахта – два ее копра, ограда и террикон. Улицы с построенными для шахтеров блокированными домиками расходились от нее в три стороны, точно спицы в колесе, четвертую занимали отвалы – серые хребты пустой породы уже наступали на опушку ближнего леса, а один их отрог уходил вдоль узкоколейки в поля и терялся среди них.
Улицы были перенумерованы от первой до пятой. Они начинались с Первой авеню у самой шахты и разворачивались веером до Пятой авеню почти на девяносто градусов. Дальше шли улицы, носившие названия деревьев, – Буковая, Лиственничная, Ракитовая, Ивовая. Как-то он записал все названия и номера в блокнот, где уже были записаны номера машин, которые проезжали через поселок к городу, и номера паровозов, проходивших через станцию на юг. Между поселком и станцией располагались магазины, лавки, собранная из щитов католическая церковь, методистская молельня, собачьи бега – все то, что обслуживало материальные и духовные нужды поселка. Там, где шоссе ныряло в лощину, прятался газовый заводик, а за ним среди поросшего осокой болотца протянулась цепочка канализационных отстойников. Это место окрестные жители называли Долинкой.
Поселок окружали фермы, и расчерченные живыми изгородями поля поднимались к узкому, замкнутому холмами горизонту, где над полосой рощи или над голым гребнем плыли клубы дыма или торчала верхушка террикона, не позволяя забывать, что повсюду вокруг разбросаны шахты.
Вскоре после начала бомбежек мать уехала в больницу. Теперь он ночевал у миссис Шоу за стеной. Детей у нее не было, а муж работал на шахте в поселке. Дом блестел чистотой, порядка было больше, чем у них, и в спальне, где его положили, на полу был линолеум. Всюду по стенам, не только в комнатах, но и на лестнице, висели медные тарелки, дощечки и медальоны с выпуклыми фигурами. Чуть не каждый день миссис Шоу протирала их тряпочкой – дышала на них, чистила белой жидкостью из жестянки, разложив перед собой на столе аккуратными рядами. На большой перемене он оставался в школе и обедал там, а после занятий бежал домой к отцу, который обычно только-только просыпался. Отец торопился, чтобы успеть до начала работы заехать в больницу к матери. Он собирал то, что хотел захватить с собой, огонь не был разведен, и в раковине грудой лежали немытые тарелки и кастрюли. Занавески почти во всех комнатах так и оставались задернутыми.
– Не дождусь, когда она вернется, – говорил отец. – А тебе нравится у миссис Шоу?
– Можно, я дома останусь? – спрашивал он.
– Нет, – говорил отец. – Не спать же тебе здесь одному.
– Я не боюсь.
Отец наклонял голову и глядел на него с легкой улыбкой. Лицо у отца было землистое, глаза красные.
– Пока тебе лучше побыть там, Колин, – говорил он. – Мать скоро вернется, и все будет в порядке.
Он надевал свою рабочую одежду и выкатывал велосипед во двор.
– Иди-ка, иди, – говорил он. – Мне надо дверь запереть.
Иногда Колин стоял во дворе и держал велосипед, пока отец запирал дверь. Вынув ключ из замка, он нагибался, заворачивал брюки и перехватывал их снизу зажимами. А иногда Колин начинал подкачивать шины, и тогда приходилось ждать отцу. Он нетерпеливо вздыхал и говорил:
– Да скорей же, скорей! Я тут с тобой всю ночь проторчу. Пора бы тебе мускулы на руках понарастить.
Обычно Колин выходил на улицу и смотрел ему вслед. На отце было длинное пальто, а кепку он нахлобучивал на самые глаза. В корзине за седлом лежал пакет, предназначенный для матери, – фрукты или смена белья, которое он старательно выстирал и выгладил сам.
– Будь умником, – говорил отец. – Ну, до завтра.
– Спокойной ночи, пап, – говорил он.
– Спокойной ночи, малый, – говорил отец и, поставив ногу на педаль, толкал велосипед, а потом, когда велосипед набирал скорость, перекидывал вторую ногу через седло.
Миссис Шоу была высокая и худая, с большим подбородком, выступающими скулами и большими выпученными глазами, темными и словно полными влаги. Других соседей она сторонилась. Она часто стояла, сложив руки под фартуком, и смотрела на улицу.
Муж у нее был невысокий, с редкими рыжеватыми волосами и веснушчатым лицом. Он уходил на работу рано утром и возвращался домой, когда Колин был еще в школе. По вечерам он заходил к нему в комнату, иногда с книгой, и что-нибудь ему рассказывал или читал, а миссис Шоу внизу слушала радио. Однако пока мистер Шоу читал, Колин нередко начинал плакать, пряча лицо в ладонях.
– Что с тобой? – спрашивал мистер Шоу. – Что случилось?
Он мотал головой.
– Твоя мама скоро вернется, – говорил мистер Шоу. – А что скажет твой отец, когда я ему расскажу, как ты распускаешь нюни?
– Не знаю, – говорил он и мотал головой.
– А он скажет: «Мой-то парень? Не может быть».
– Угу, – говорил он.
– Ну, так чего же ты? – говорил мистер Шоу и спрашивал: – Дать тебе шоколадку?
Иногда Колин кивал, и, когда мистер Шоу уходил, поцеловав его на прощание, он лежал и сосал конфету, и ее сладость смешивалась у него во рту с соленым вкусом слез.
Каждое утро перед тем, как он шел в школу, миссис Шоу приглаживала ему волосы щеткой. Она осматривала его уши совсем так же, как отец осматривал велосипед, когда не мог найти поломку. Иногда она вела его назад на кухню к раковине и заново мыла ему уши, наклоняя его голову под самую струю. Она терла ему шею и говорила:
– Тебя не отмоешь. Можно подумать, что ты тоже на шахте работаешь.
В конце недели, в пятницу вечером, она ставила перед огнем лохань, а вокруг раскладывала газеты, чтобы брызги не попадали на пол.
– По-моему, ему не хочется лезть в нее, – сказал мистер Шоу в первую пятницу.
– Я сменила простыни, – сказала она. – Ему надо вымыться.
– Я хочу мыться дома, – сказал он.
– Сейчас твой дом тут, – сказала она. – А твой отец уехал на работу и запер дверь.
– Ну, так я завтра вымоюсь, – сказал он.
– Нельзя, – сказала она. – Я сменила простыни и не стану вытаскивать старые из грязного белья.
Глаза у нее выпучились еще больше, скулы покраснели.
– Не дури, – сказала она.
В конце концов он разделся и влез в лохань. Мистер Шоу вышел в соседнюю комнату.
Он сидел в воде совершенно неподвижно, упираясь скрюченными пальцами ног в цинковое дно.
– Вот и ладно, – сказала миссис Шоу. – А ты бы встал. Какое же это мытье сидя.
Она уже вымыла ему лицо и шею, спину и плечи.
– Я могу сам, – сказал он.
– Видела я, как ты сам моешься, – сказала она. – Только грязь размазываешь. – Она просунула ладонь ему под мышку. – Ну-ка, вставай!
Он стоял и смотрел вниз на огонь, а она его мыла. Угля на решетке было много, и он уже весь горел.
– Вот и ладно. Теперь уже на что-то похоже, – сказала миссис Шоу, когда кончила.
Она присела на пятки, зажав в коленях мокрый передник.
– Теперь вылезай, – сказала она, – и вытирайся. Стой на газете, – добавила она и дала ему полотенце.
Он повернулся к огню и начал тереть грудь и живот вверх-вниз, вверх-вниз.
– Разве так вытираются! – сказала она, взяла у него полотенце и начала растирать его с такой силой, что он зашатался. Она придерживала его одной рукой, а другой терла.
– Прежде чем надевать чистую пижаму, надо вытереться досуха.
Вошел мистер Шоу. Он взял лохань, открыл дверь черного хода, вынес лохань наружу и вылил ее в водосток.
Потом он вернулся, собрал мокрые газеты, а лохань поставил под раковину.
– Вот теперь он прямо блестит, – сказала его жена.
Мистер Шоу кивнул.
– Хочешь шоколадку? – сказал он.
Колин поднялся наверх и лег в постель с чистыми простынями. Они были как льдины. Он свернулся калачиком, съежился в комок, но они все равно леденили его насквозь.
Порой ночью, когда он не мог заснуть, он вставал с кровати и смотрел в окно на огород за забором, на черный холмик бомбоубежища, на грядки, заросшие сорняками, потому что у отца до них не доходили руки. Там все изменилось, словно перенеслось куда-то в другое место. Рано утром он слышал, как мистер Шоу встает и тяжело проходит по дому. Иногда звякала медная тарелка, которую он зацеплял рукавом. Потом его башмаки стучали по двору, стук их сливался со стуком других башмаков и затихал в направлении шахты.
Каждое утро, возвращаясь с работы, отец заходил на кухню, неловко наклонял голову в дверях и улыбался. Миссис Шоу иногда предлагала ему чашку чаю, но он всегда отказывался.
– Нет, вы уже столько для меня делаете, – говорил он. – Я не хочу вас еще затруднять.
– Ну, если так, – говорила она, словно все понимая.
– А как тут он? – спрашивал отец, все еще стоя в дверях с кепкой в руке.
– С ним никаких забот нет, – говорила она.
– И ест хорошо?
– За обе щеки уписывает.
– Вот, Колин, – говорил отец, – я тебе шоколадок принес. – Он входил в кухню, клал их на стол и отступал назад к двери.
– Ну-ну, – говорила миссис Шоу. – А спасибо ты забыл сказать?
– Нет, – говорил он, поднимал голову и видел, что отец улыбается и кивает. – Спасибо, – говорил он.
– Да что там, – говорил отец и краснел.
Уж лучше было вовсе с отцом не видеться. Он хотел побыть с ним вдвоем дома. Но когда он забегал домой перед школой, отец уже спал, прикорнув в кресле. Огонь не горел, в очаге горкой лежала холодная зола, занавески были задернуты, на столе стояли немытые кастрюли.
Казалось, все прежнее вдруг исчезло. В школе он чувствовал себя теперь одиноким и потерянным.
Как-то он заплакал, заслонясь рукой.
– Что с тобой, Колин? В чем дело? – спросила учительница.
– Не знаю, – сказал он.
– Ну, перестань, – сказала она. – Ничего же плохого не случилось, верно?
– Нет, – сказал он.
Она прижала его голову к своему халату.
Он почувствовал запах мела и пыльной тряпки, которой она вытирала доску.
– Ну вот, – сказала она. – Все прошло, правда?
– Да, – сказал он, не поднимая головы, боясь посмотреть на ребят.
В конце концов она отвела его в учительскую. Он сидел там у окна, держа на коленях открытую книгу, которую она ему дала.
Он смотрел на шахту по ту сторону узкого проулка. В воздух столбом поднимался белый пар, более густой, чем облака, и медленно закручивался в клубы. Маленький паровозик тащил вагонетки через двор, а потом возвращался обратно.
Иногда в комнату входила какая-нибудь другая учительница, брала книгу, смотрела на него, улыбалась и уходила, притворив за собой дверь. Он сидел смирно, глядел на паровозик, косился на входящих и краснел, потому что они видели его тут.
Потом вернулась его учительница, налила воды в чайник и поставила чайник на газовую горелку возле двери.
– Ну, все в порядке? – спросила она.
– Да. – Он кивнул.
– Вот и хорошо, – сказала она. – А теперь беги играть. Через пять минут большая перемена.
Как-то утром он увидел, что у школьной ограды стоит отец, держится за решетку и смотрит на ребят.
Двери еще не открыли, и двор был полон. Когда он подбежал к отцу, он увидел, как вспыхнула голубизна в его глазах и снова поблекла.
Отец как будто стеснялся его, словно незнакомого.
– Я вот зачем пришел, – сказал он. – Вечером мы, наверное, не увидимся. Я хочу поехать к матери пораньше.
– А мне можно с тобой? – сказал он.
– Детей в больницу не пускают, – сказал отец. – А то бы я тебя взял.
– А когда ты приедешь? – спросил он.
– Я забегу утром. Ну, будь умником.
– Ладно, – сказал он.
Отец все смотрел на него через ограду.
– Поцеловать тебя? – сказал он.
– Да, – сказал он и подставил лицо, уцепившись за прутья.
Отец нагнулся через ограду.
– Ну, так ты будешь умником, верно? – сказал он.
– Да. – Он кивнул.
Хотя отец умылся, глаза у него все равно были обведены каймой угольной пыли.
– Ну, значит, так, – сказал отец. – Я, пожалуй, пойду.
Он повернулся и зашагал туда, где у края тротуара лежал его велосипед. На углу проулка между школой и двором шахты он помахал ему, задев козырек кепки.
Когда он пришел после школы, миссис Шоу стояла в дверях, заложив руки под фартук, и смотрела на улицу. Чай для него уже стоял на столе. Рядом с его тарелкой лежал кусок кекса.
– Ну вот, – сказала она. – Ты ведь проголодался.
Он съел все, что она перед ним поставила. И кекс, и бутерброды. Они были с мясом. Он словно отправлялся в путешествие и надо было наесться впрок.
– Хочешь еще кекса? – сказала миссис Шоу, принесла коробку из кладовки, переложила кекс на тарелку, отрезала кусок и собрала крошки ножом.
Он начал есть кекс, и тут вошел мистер Шоу. Он только что встал – подтяжки у него свисали по бокам, и он не заправил рубашку в брюки. Рыжеватые волосы торчали вокруг макушки, как трава.
– Столько умял, а? – сказал он. – Вот снимем с него ботинки, а в них хлеба полно.
Когда он лег, пришла миссис Шоу и укутала его получше.
– Вот и ладно, – сказала она. – Спи крепко. – И поцеловала его. Это было в первый раз, и он увидел, что она закрыла глаза, когда нагнулась к нему. – Вот и ладно, – сказала она, подтыкая одеяло.
Некоторое время он лежал, стараясь расслышать шаги отца у них дома. Но, как обычно, там все было тихо. От соседей за другой стеной доносились смутные звуки голосов.
Утром он услышал, как мистер Шоу, собираясь на работу, льет на кухне воду в чайник.
Потом его башмаки протопали по двору, и через некоторое время заревел гудок на шахте. Отец вернется с работы только через два часа. Он представил себе, как отец выходит из клети весь черный, проходит через двор, чтобы сдать лампу, идет в раздевалку, моется, надевает пальто, берет велосипед из станка. Потом попробовал вообразить, как он едет среди светлеющих полей через холмы и иногда слезает с велосипеда и ведет его до гребня. Повороты, переезд, а еще дальше – мост над железной дорогой.
Он заснул, смутно увидел мать, лежащую в постели, какую-то незнакомую, с круглым лицом, почему-то блестящим, как стекло, и вдруг уже мчался на отцовском велосипеде, перелетая через кусты и заборы, преграждавшие путь.
Разбудили его шаги миссис Шоу на лестнице, и он сразу сел на кровати, прислушиваясь. Из-за стены их дома не доносилось ни звука.
Когда он спустился в кухню, миссис Шоу разводила огонь.
Она стояла на коленях перед очагом и оглянулась, заслонив плечом длинный подбородок.
– Вот и ладно, сейчас разожжем огонь и будем завтракать, – сказала она.








