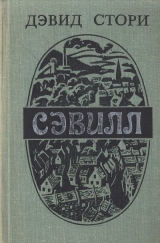
Текст книги "Сэвилл"
Автор книги: Дэвид Стори
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 35 страниц)
– Ты представить себе не можешь, до чего мне невыносимо туда возвращаться, – сказал Риген снова. Его потемневшие глаза были уныло устремлены на шоссе впереди.
– А как твоя мать? – спросил Колин.
– Полное сумасшествие. Она оттуда больше не выйдет. – Он все так же смотрел на шоссе. – Когда я ее навещаю, она меня не узнает. Может, это и к лучшему. Знаешь, она винила меня в смерти отца. Ну, не вслух, конечно.
Некоторое время они молчали. С каждой остановкой автобус пустел все больше.
Вскоре они остались наверху одни.
Невыразимая тоска овладела Колином. Словно все его прошлое слилось воедино, словно был подведен какой-то последний итог: будущее вдруг представилось ему таким же пустым и унылым, как шоссе впереди.
– Ну, что поделаешь, – сказал Майкл и, протиснувшись мимо него, быстро спустился по лестнице.
Они шли рядом по темным улицам.
На углу под фонарем стоял какой-то человек. При их приближении он отступил в тень.
– Может, зайдешь выпить, Колин? – сказал Майкл.
– Пожалуй, – сказал он.
– Если не хочешь, то не надо.
– Нет, я хочу, если тебя это не стеснит.
– Ну, все-таки общество, – сказал Майкл и словно нечаянно поглядел на дверь Блетчли.
В первый раз в жизни он вошел в дом Ригена.
Внутри стоял запах протухшей еды.
Как и рассказывал отец, в комнатах не было никакой мебели. Пустой очаг в кухне загораживала циновка. Напротив стоял жесткий стул со сломанной спинкой. В углу был прислонен скрипичный футляр.
Тщательно наклеенные обои со строгим узором, которые миссис Риген оберегала от каждого пятнышка, были теперь грязными и засаленными. Пол больше не сверкал линолеумом.
– Садись, – сказал Майкл, указывая на стул. – Я сейчас тебе налью.
Он открыл шкафчик и достал бутылку.
Потом поставил на пол две чашки, налил одну, потом другую.
– Ты ведь тут ни разу не был? – сказал он.
– Да, – сказал Колин.
– Твой отец заходил как-то вечером. Я был тронут, что он побеспокоился. И миссис Блетчли заходила. Раза два или три. Она любила мою мать. И даже ездила к ней в лечебницу, только мать ее не узнала. У нее еще что-то с ногой.
– Что? – спросил он.
– Не знаю, – сказал он. – Возможно, рак. Врачи не слишком обнадеживают. – Он отпил из чашки и добавил: – Я никогда не слышал, что бывает рак ноги.
Снаружи доносилось тихое попыхивание шахты. Тускло светила лампочка без абажура.
– А ты не хочешь сесть на стул? – сказал Колин.
– Нет-нет, – сказал Майкл и сел на пол. – Я не топлю, – сказал он. – Я тут бываю редко.
– А когда ты собираешься в Лондон? – спросил он.
– О, я сначала хочу кое-что попробовать, – сказал Майкл. – Видишь ли, весь стиль музыки изменился. Та, на которой я воспитывался, исчезла навсегда. История моей жизни. – Он допил чашку и налил в нее еще.
Колин не так быстро выпил свою.
– Ты заметил, что молодых людей тут почти нет? – добавил Майкл. – А в шахте и вовсе. Даже в крикет на пустыре больше никто не играет: Батти, Стрингер, твой отец, Шоу – все они уже слишком стары для этого. Но их, насколько я замечаю, никто не сменяет. Идут даже разговоры, что шахту придется закрыть.
– Да, – сказал он, потому что его отец как-то упоминал про это.
– Оборудование устарелое, да и запасы угля невелики, – сказал Майкл. – Ты только подумай: мой отец работал на ней всю жизнь. И Шоу. И твой отец несколько лет. – Он откинул голову. – Помнишь, как мы ходили в Брайерли и шофер подвез нас в кабине грузовика? Ах, как бы я хотел вернуться назад в те дни! Все казалось таким несомненным и гарантированным, хотя на самом-то деле только казалось, но тогда об этом не думалось. Я так и не узнал, что стояло за той фамилией. Ну, которую шофер велел назвать моему отцу. И уж теперь мы, наверное, никогда не узнаем, – добавил он.
Немного позже он начал тихо постанывать. Его голова упала на грудь. Дождевика он не снял. Шляпа, которую он повесил на гвоздь, слетела на пол.
Колин его окликнул, но он только затряс головой. По-видимому, он много пил весь вечер. Колин встал со стула, и тут Майкл опрокинулся на бок.
Он поднял его, удивляясь тому, каким легким он оказался. Но втащить его по лестнице было трудно из-за его роста.
Большая спальня была пуста, как и задняя у лестницы. Но во второй комнатушке стояла узкая кровать.
Колин уложил на нее Майкла и начал стаскивать с него дождевик.
– Это ты, Морис? – сказал Майкл и нерешительно протянул руки.
– Это Колин, – сказал он. – Сейчас я тебя укрою.
– А, Колин, – сказал Майкл, словно с трудом вспоминая, кто он такой.
Он снял с него дождевик, расшнуровал ботинки и укрыл его одеялом. Его ступни свисали с кровати. Носки были дырявыми. Воротничок рубашки, заметил он, был изнутри совсем черным.
Он погасил свет.
Майкл даже не пошевелился.
Колин вынул ключ из замка, вышел через парадную дверь, запер ее и бросил ключ в щель для писем.
Потом, сунув руки в карманы, он пошел по улице к своему дому.
29
– Ну, и что ты про нее скажешь? – спросила она. Комната выходила на крохотный двор. За открытым окном в боковой стене слышался шум уличного движения.
– Тебе не тягостно тут жить?
– Тягостно? – Она посмотрела на него с улыбкой. Казалось, она была довольна.
– Но ведь прежде ты всегда жила в отдельном доме. Пусть даже в доме сестры, – сказал он.
– Ты когда-нибудь жил один? – сказала она.
– Нет, – ответил он.
– А вот попробуй.
Она прошлась по комнате: выцветший ковер на полу, старая мебель, посеревшие обои с узором из бледно-коричневых цветов.
– Мне это было и остается не по карману.
– У тебя всегда все сводится к деньгам.
– Но ведь так оно и есть, – сказал он. – Во всяком случае, почти.
– Там, откуда ты, – сказала она. – Но не откуда я.
Однако ее расстроило, что комната ему не понравилась.
Возможно, она сама впервые попробовала жить одна. Тут не было ничего от солидной элегантности дома ее сестры с его паркетными полами, толстыми коврами, массивными креслами в светлых чехлах и мебелью красного дерева.
– А с мужем где вы жили? – спросил он.
– У нас был свой дом. Около одного из их магазинов. Купленный его родителями. Каменный, с асфальтовой подъездной дорогой, а вокруг маленький парк. В нем было восемь спален.
– Вы спали в разных комнатах? – спросил он.
– Нет. – Она засмеялась. Эти расспросы почему-то ее развеселили. – У нас жил племянник. Он учился в школе неподалеку.
Она стояла перед ним, маленькая, снова помрачневшая – из-за какого-то воспоминания о прошлом или о ее прежнем доме. Она отвела глаза и посмотрела на окно – возможно, вдруг осознав тоскливое одиночество подобной жизни в полной оторванности от всех. Его еще прежде удивило, что она выбрала такое неприглядное место: дом в ряду таких же запущенных викторианских домов стоял на улице, ответвлявшейся от центральной площади. Он много раз проходил мимо него по дороге в школу.
– А каким был твой муж?
– По-моему, я уже тебе рассказывала.
Теперь она стояла спиной к нему, словно он грубо оттолкнул ее.
– Просто мне приятней жить в маленькой квартире, – сказала она. – Снейтонский дом мне никогда не нравился. Темный, огромный, сырой, холодный и всегда какой-то пустой.
– Ты оставалась там одна весь день?
– Я работала в магазине.
– А кем?
– В моем ведении была конторская часть. Мы продавали ковры с нашей фабрики.
Он схватил ее за локоть. Она была очень легкая и тоненькая – казалось, он может поднять ее одной рукой. И все же по временам она выглядела грузной и тяжеловесной, словно ее вообще было невозможно физически сдвинуть с места. Он не знал больше никого, кто с каждой переменой настроения словно бы обретал другое строение тела. Даже кожа у нее становилась то нежной, то жесткой. И сама она как будто не была над этим властна.
Теперь она повернулась и прямо посмотрела на него.
– Почему ты не сделаешь выбора? – сказала она.
– Но какого?
– Какого угодно.
Она высвободила руку и отошла.
– Впрочем, я не должна об этом спрашивать. Мне тебя упрекнуть не в чем.
Как-то, когда они гуляли по городу, она показала ему дом своих родителей. Он стоял на обсаженной деревьями улице за школой короля Эдуарда, большой кирпичный особняк с садом, в котором работал мужчина в комбинезоне, сгорбленный, седой и, пожалуй, чем-то похожий на его отца.
Он не мог понять, почему, порвав с мужем, она не вернулась туда.
– Что думают твои родители? – сказал он теперь, обводя рукой комнату.
– О квартире? – сказала она. – Они ее не видели. – И секунду спустя добавила с легкой улыбкой: – Почему ты так или иначе все сводишь к родителям? Ты настолько нерасторжимо связан со своими?
– Нет, – сказал он. – Это чисто экономический момент.
– Да? – сказала она и добавила все еще с усмешкой: – Я начинаю сомневаться. – Через секунду, по-прежнему не спуская с него глаз, она вернулась к его вопросу. – Но как бы то ни было, они ее не видели. И, рада сказать, вряд ли увидят.
– Разве они не захотят побывать тут? – сказал он.
– Только если я их приглашу.
– А ты не пригласишь?
– Во всяком случае, не в ближайшее время. Нет, – сказала она.
Дважды, зная, когда она работает, он заходил в аптеку Беннета и заставал ее за прилавком. В юности она училась на фармацевта и часто, когда родители болели или уезжали отдохнуть, полностью заменяла отца. Аптека помещалась в старом кирпичном здании на углу переулка. В высоких окнах-фонарях стояли старинные банки с разноцветными жидкостями и черного дерева вращающиеся шкафчики прошлого века.
В первый раз он решил, что она смутилась: она стояла за прилавком в белом халате и обслуживала покупателя. Ее отец, маленький, с тонким лицом, белыми волосами и багровой кожей, отвернувшись к шкафчику, вынимал из ящика какие-то пакетики. По-видимому удивленный изменением ее тона, когда она здоровалась с Колином, он поглядел на него поверх очков с некоторым любопытством.
В тот раз она сослалась на что-то и ушла с ним. Они шли по улице к центральной площади, и она опиралась на его руку, словно для того, чтобы разуверить себя, убедить, что ничего нежданного не случилось, что она не потеряла его и не упала в его глазах, когда он вдруг увидел ее за прилавком, и для того, чтобы показать отцу, который, несомненно, следил за ними из окна, что это вовсе не случайная встреча. И Колин тогда почувствовал себя ближе к ней.
Во второй раз она отказалась уйти с ним. Аптека закрывалась через час; он приехал в город на заднем седле стивенсовского мотоцикла после конца занятий и вынужден был уйти и ждать в баре. Она пришла через час и поздоровалась с ним, привычно чмокнув его в щеку. Так, словно они уже несколько лет были женаты. В ней была какая-то особая непринужденность и прямота, уверенность в себе, рождавшаяся из странных периодов самоанализа, и эгоцентризм, который никак не ронял ее в его мнении. Все это только сильнее толкало ее к нему.
– Что сказал твой отец? – спросил он, после того как первый раз зашел в аптеку.
– Ничего, – сказала она, но после некоторого размышления добавила: – Он считает, что ты очень молод.
Теперь он сказал:
– А они знают, что ты сняла квартиру? Наверно, да.
– Я говорила им, что ищу квартиру, – сказала она. – Но в любом случае они узнают от Морин. То есть что я больше у нее не живу.
– Ты когда-нибудь бываешь дома?
– Иногда, – сказала она.
Она смотрела на него и хмурилась: он пытался разгадать загадку, которая для нее не существовала вовсе или Же не заслуживала таких стараний.
– Они заняты своим, – сказала она, а когда он спросил чем, она сказала: – Друг другом. Так было всегда. Они поженились совсем молодыми и, по-моему, вовсе не хотели иметь детей. Если не считать аптеки, отец, насколько я могу судить, ни о чем, кроме моей матери, никогда не думал. А она не думала ни о чем, кроме него. Они полностью поглощены друг другом. И это – прожив вместе почти сорок лет.
– А когда вы были маленькими? – сказал он.
– Держали нас на втором плане. Морин в девятнадцать лет сбежала и нашла себе жениха, но это кончилось ничем. Впрочем, она потом очень скоро вышла замуж. Короче говоря, мои родители никогда по-настоящему нами не интересовались. Они заботились о нас, бывали нам рады, когда мы приезжали на каникулы из школы, но меня не оставляло ощущение, что все это лишь незначительный придаток к их жизни.
В аптеке он заметил между отцом и дочерью своеобразную мягкую благожелательность: они работали вместе легко, без напряжения, с большой взаимной симпатией – словно старые друзья или брат с сестрой. И ни малейшего намека на то всепоглощающее, властное, требовательное, с чем он сталкивался у себя дома.
Он рассказывал ей про свою семью: она очень заинтересовалась его родителями, и был момент, когда он чуть не предложил познакомить ее с ними, но почему-то удержался и просто продолжал разговаривать о них, о Ричарде и Стивене.
– Отчего ты с такой ревностью относишься к Стивену? – спросила она. – В твоем описании он выглядит очень прямодушным и бесхитростным.
– Но что сделало его прямодушным и бесхитростным? – сказал он. – Ему была предоставлена свобода, в которой мне было отказано.
– Да? – сказала она улыбаясь. – А по-моему, и тебе ее тоже предоставляли. Ведь завидуешь ты его характеру, а не просто условиям, в которых он рос, разве не так?
– Нет, – сказал он. – Все дело в условиях. В них одних.
– Странно, – сказала она.
– Не думаю, – сказал он. – Мне кажется, так бывает почти во всех семьях.
– Разве? – Она смотрела на него с улыбкой. – Я никогда не завидовала Морин и не ревновала к ней. И она тоже, насколько я знаю. Мы ссорились, но не как соперницы, не потому, что нам надо было что-то делить.
– Но ведь ваши родители вышвырнули вас вон.
– Они нас не вышвыривали.
– Однако вы чувствовали себя отстраненными от них, и отстраняли вас они сами, в равной степени. Тогда как моя мать всегда занималась Стивеном гораздо больше, чем мной.
– И все-таки матери в твоей жизни принадлежит очень большое место.
– Разве?
– По-моему, да.
Он озлился: он не выносил, когда ему указывали какие-то мотивы его поведения, даже если он только что сам о них говорил. Его травмировало, что она их обсуждает: заговорив о них вслух, он надеялся их перечеркнуть.
– По-моему, ты очень наивен. Ведь за милю видно, почему ты завидуешь и ревнуешь.
Теперь в этой убогой комнате он смотрел на нее, испытывая безнадежную горечь поражения. И он и она попали в ловушку собственного прошлого: она – с ее странной отстраненностью, с ее обособленностью не только от родителей, но и от мужа, он – с его странной сосредоточенностью на семье, которая теперь, когда он так в этом нуждался, отказывалась освободить его.
Некоторое время они сидели молча. Вокруг стоял запах затхлости. Он принес цветы, по даже их краски и аромат не могли превозмочь этот запах, окружающую унылость, которую она, казалось, нарочно искала и обрела.
– Меня начинает угнетать, что она тебя так угнетает, – сказала она.
– А она меня угнетает?
– Собственно говоря, не комната. Ее я могу привести в порядок. Сменю мебель, и через неделю-другую она будет выглядеть совсем новой. Комната сама по себе никакой роли не играет.
– Так что же меня угнетает? – спросил он, потому что его настроение ухудшалось с каждой минутой, проведенной в этой комнате, за окнами которой шумел город.
– А то, что благодаря ей, – сказала она, – мы оказались лицом к лицу, наедине, и нет ни Фила, ни Морин и ее мужа, ни матери, – добавила она с ударением, – за которыми можно было бы спрятаться.
– Наверно, ты этого и хотела, – сказал он. – Наверно, ты это и подразумевала под выбором.
Она разгладила юбку на коленях. Ее фигура в тяжелом кресле снова казалась маленькой и беззащитной. Он начинал ненавидеть ее и бояться. Она воплощала что-то, в чем он не мог как следует разобраться: упорное цеплянье за прошлое, утверждение неприятного ему прошлого, решимость прибрать его к рукам. Ему все время хотелось причинять ей боль.
И, словно почувствовав, чем заняты его мысли, она сказала:
– Ну, а у тебя как? Твои родители знают про меня?
– Нет, – сказал он и добавил, сам не понимая зачем: – Вряд ли.
– А ты хочешь им сказать?
– Не вижу смысла. – Он добавил: – Они знают, что я с кем-то встречаюсь. Ведь я задерживаюсь допоздна чуть не каждый вечер.
– С кем-то, но не со мной.
– Нет, – сказал он.
– Я усложняю твою жизнь?
– Нет, – повторил он упрямо и мотнул головой.
– А ты мою усложняешь. Но это мне нравится, – сказала она, стараясь его успокоить.
Через некоторое время они пошли ужинать в кафе: в городе почти некуда было зайти поесть.
Когда позже они вернулись к ней, он почувствовал, что в нем снова поднимается протест, неясная злоба. Он стал безжалостно грубым: но боялся он сам – и себя больше, чем чего-либо внешнего, пришло ему в голову. Он ушел от нее за полночь, опоздав на последний автобус, но часть дороги до поселка его подвез грузовик. Домой он добрался в два часа ночи.
На следующее утро мать, спустившись в кухню, не поздоровалась с ним.
– Что-нибудь случилось? – спросил он хмуро, раздраженный ее молчанием и угрюмой тишиной в доме. Стивен и Ричард уже ушли в школу.
– В котором часу ты вернулся? – сказала она.
– Не знаю, – сказал он.
Мать кончила одеваться, загородившись спинкой стула. Он ненавидел эту ее привычку: она спускалась вниз в ветхой юбке и кофте или в линялом платье и, встав за стулом, натягивала чулки. Возможно, это были какие-то отголоски ее детства – вечером она обязательно снимала чулки у очага и вешала их на стул. Они всегда были дырявыми. Ему было мучительно смотреть на нее и столь же мучительно отворачиваться. Он не мог понять, почему она не может снимать и надевать чулки наверху. Теперь она продолжала машинально их натягивать, а потом одернула платье нелепо чопорным движением.
– Отец сказал, что было два.
– Ну и что? – сказал он.
Когда он лег, заперев заднюю дверь, от которой у него был ключ, он слышал, что отец встал, спустился на кухню, нарочито тяжело ступая, и вскипятил чай. А через три часа он снова встал, собираясь на работу.
Теперь мать сказала, выходя из-за стула:
– А то, что в доме никому, и особенно отцу, нет никакого покоя.
– Не понимаю почему.
– Потому что мы лежим и не можем уснуть, все думаем, куда ты пропал. Да и уснем – так просыпаемся, когда ты входишь. А отцу ведь надо вставать в половине шестого.
– Мог бы вставать и позже. До шахты ему идти меньше получаса. – Он продолжал есть завтрак.
– Он встает раньше, чтобы разжечь огонь. Чтобы мне было легче, когда я встану, – сказала она.
– Ну, так я буду вставать и разжигать огонь. Или пусть Ричард. Или Стив.
– А кто будет вставать, чтобы проверить, встали они или нет?
Он ничего не ответил.
– Если ты совсем дома не бываешь, так не понимаю, зачем тебе вообще тут жить, – сказала она, отходя к раковине и берясь за посуду.
– Я возвращаюсь сюда, потому что у меня нет денег, чтобы жить отдельно. То есть чтобы и тогда давать их вам, – добавил он.
– Ты бы больше о своей работе думал, – сказала она. – Не удивительно, что тебя попросили уйти. Если ты полночи гуляешь, то как же ты можешь хорошо учить? Ведь ты даже сосредоточиться толком не сумеешь, – добавила она.
– Меня уволили не за то, что я плохо сосредоточивался, – сказал он.
– Да, – сказала она. – А могли бы и за это.
Он оказался в тисках дилеммы, которую несколько лет назад и представить себе не мог. Он начал завистливо поглядывать на Ригена и даже прикидывал, не поселиться ли у него. Однако Майкл все чаще пропадал из дома. Как-то он отсутствовал неделю, и уже говорили, что он уехал навсегда, но потом поздно вечером окно в верхней комнате засветилось, и на следующее утро его длинная фигура мелькнула во дворе.
На другом конце поселка строились новые дома, и отец записался на один из них. Из окрестных поселков сюда переезжало все больше людей. По соседству с шахтой поднялось панельное здание швейной фабрики, где работали одни женщины. Открылся новый магазин, расширили перекресток, на автобусной остановке поставили навес, Шахтерский клуб приглашал гастролеров, чьи фамилии были известны по радиопередачам. Шоу купили телевизор, вслед за ними купили телевизор и Блетчли.
Йен еще на последнем курсе начал работать в лаборатории крупной текстильной фирмы в одном из соседних городов. Через несколько месяцев фирма послала его на практику в Америку. Он вернулся в светло-сером костюме, с маленькой трубкой в изящной металлической оправе и с легким американским акцентом. Местная газета напечатала его фотографию. Мистер Блетчли, которого повысили в должности и перевели в отдел управления дороги, купил подержанную машину. Она стояла на улице перед домом – первый собственный автомобиль на этом конце поселка.
Отец глядел на автомобиль с яростью. С тем же угрюмым бешенством он прислушивался к доносившимся из-за стены звукам телевизионных передач.
– Йен о своих родителях заботится, – говорил он, хотя Йена в поселке видели редко: иногда по субботам он приезжал домой на полдня, но ночевать почти никогда не оставался, и отец отвозил его к поезду на машине.
У поселка был захиревший вид. С центрального перекрестка он выглядел как городская окраина – новые дома расползались по склону холма и подступали к заброшенной усадьбе и заросшим развалинам господского дома. Сажа, более полувека ложившаяся на здания, на людей, на улицы, словно сравнивала поселок с землей, с темными полосами шлака между рядами блокированных домов, ископанного детьми, изрубцованного глубокими колеями, которые выбили колеса грузовиков. От яркости, запомнившейся ему с детских лет, не осталось почти ничего – столько было поглощено, разрушено, ободрано. Иногда, уходя вечером прогуляться, он оглядывался на поселок с соседнего холма и видел в сгущающихся сумерках былые его очертания – ровный склон, увенчанный господским домом и церковью, маленькое селение у подножия. Свет угасал, и эта безыскусственная простота линий почти становилась явью. Но тут вспыхивали фонари. Поперек склона и в глубоких ложбинах вновь вырисовывались бесформенные скопления домов, неряшливый конгломерат фабрики, шахты, складов, и видение сразу исчезало.
В течение трех лет он преподавал в разных школах, часто их меняя. Им владело непонятное беспокойство, стремление нигде подолгу не задерживаться. Его отношения с Элизабет переходили из одной крайности в другую. Одно время он вовсе перестал с ней видеться – когда квартира была уже давно преображена и обрела почти совсем такой же вид, как комнаты в доме ее сестры. Потом ему захотелось вернуться к ней, и он вернулся. В их отношениях было что-то тяготившее обоих, по он не понимал, что именно: она мучилась из-за его молодости, он все время ощущал ее возраст. Иногда она пыталась притворяться, будто собирается снова выйти замуж.
Вскоре после того, как она обновила квартиру, к нему домой пришел ее муж.
Он явился как-то под вечер – дверь открыла мать.
Она провела его в нижнюю комнату и вошла на кухню вся красная, по отблески в очках прятали ее взгляд.
– К тебе какой-то мистер Уолтон, – сказала она, и он вздрогнул, сразу сообразив, кто это.
Он был невысокий, светловолосый и выглядел как учитель вроде него или мелкий муниципальный чиновник.
Смущен он был даже больше Колина. От чая он отказался и растерянно стоял у пустого камина. Наконец по настоянию Колина он сел в кресло.
– Я пришел к вам поговорить об Элизабет, – сказал он, стискивая руки. – Полагаю, она упоминала про меня.
– Да, – сказал он.
– Мы ведь не развелись.
– Нет, – сказал он. Уолтон сообщил это с надеждой в голосе, словно подозревал, что Элизабет говорила ему совсем другое.
Он пытался понять, чем Уолтон привлек ее: возможно, его нервозность она приняла за чуткую впечатлительность, увидела в нем натуру, которую могла бы сформировать – может быть, наподобие своего деятельного отца.
– Я как-то прислал записку, – сказал Уолтон.
– Да, – сказал он, ощущая, что ничего нового не услышит.
– И не знаю почему, я нанял человека, чтобы собрать компрометирующие сведения.
– Да, – сказал он. – Мне так и показалось.
– Собственно говоря, я считаю этот разрыв временным. Мне кажется, ей было тяжело жить там. Но я планирую устроить все по-другому, уехать, – добавил он.
– Она говорила, что вы уже пробовали и в конце концов решили вернуться к прежнему.
– Нет-нет, – сказал он внезапно. – Тут она передергивает. – Однако он глядел на Колина с надеждой, словно ждал от него разрешения всех своих трудностей.
– Но чего вы хотите от меня? – спросил Колин.
Мать открыла дверь.
– Может быть, выпьете чаю? – сказала она, напряженно заглядывая в комнату, красная от собственной настойчивости.
– Мистер Уолтон уже отказался, – сказал он.
– Ну, тогда конечно. – Она посмотрела на Уолтона, ожидая от него подтверждения, но он ничего не сказал и сидел, напряженно выпрямившись, ожидая, чтобы она ушла. – А если передумаете, то пожалуйста, – добавила она.
Ее шаги затихли на кухне, потом оттуда донесся голос Ричарда: он что-то спросил.
– Я подумал, что было бы хорошо, если бы вы перестали с ней видеться и признали реальную ситуацию, – сказал Уолтон, подождав, пока дверь кухни не закрылась. Он добавил: – Видите ли, с моей точки зрения, вы просто используете конъюнктуру.
Казалось, кто-то другой убедил его прийти – он словно прислушивался к чьему-то голосу, но теперь настолько тихому, что он почти его не улавливал и не мог разобрать, какие же важные и неотложные соображения он должен изложить.
– Я не могу перестать с ней видеться, – сказал Колин. – Я не могу на это согласиться, – добавил он.
– Для вас, – быстро сказал Уолтон, – это все так, между прочим. Но вы играете с моей жизнью, с моим браком.
– Мне кажется, решать должна Элизабет.
– Лиз? – Его голос стал хриплым, лицо налилось кровью, пальцы судорожно переплелись; он словно подчинялся воздействию другого места, другого человека, заставлявшего его продолжать. – У Элизабет есть обязанности. И она бежала от них. У нее есть свои трудности. Как и у меня. А вы мешаете нам найти какое-то решение, – добавил он.
– Она может видеться с вами, если хочет, – сказал он. – А вы – с ней. Я этому не мешаю.
– Нет, мешаете. Вы отвлекаете ее. – Но это было явно не то слово, которое он искал. – Вы препятствуете нашему сближению и не даете разрешить проблему нашего брака, которая никак вас не касается.
– Теперь касается, – сказал он. – Я тоже в нее включен. – Он чуть было не заподозрил, что этого человека подослала Элизабет, что она снова пытается принудить его к «выбору», но тут же отмахнулся от этой мысли.
– Я хочу, чтобы вы оставили мою жену в покое. Я хочу, чтобы вы оставили ее в покое, – говорил Уолтон почти нараспев. Его маленькое личико совсем побагровело, глаза выпучились, зубы оскалились. Он рывком вскочил с кресла, точно полностью утратил власть над собой и не замечал того, что говорит. – Я хочу, чтобы вы оставили мою жену в покое.
По тишине за стеной он понял, что крики Уолтона донеслись до кухни.
– Я не хочу никаких обещаний. Я не хочу никаких условий. Я приказываю вам оставить мою жену в покое, Она – моя жена. Я женился на ней. Мы имеем право решать этот вопрос между собой.
– Но она оставила вас больше года назад, – сказал он.
– Мне все равно, когда она меня оставила. Она вернется. В конце концов она поймет, что это единственный выход. А до тех пор… – Он сжал кулак и взмахнул им у самого его лица. – Если вы попробуете хотя бы увидеться с ней, я вас убью.
– Ну, положим, меня-то не убьете, – сказал он невпопад. Его разбирал смех. Он тоже встал, чтобы припугнуть этого человечка.
– Мне все равно, что я сделаю и какое наказание понесу. Она увидит, как я ее люблю. Она увидит, как много она для меня значит, – сказал он и повернулся к двери.
Колин сделал шаг, словно собираясь открыть ее перед ним, но Уолтон вздрогнул, поспешно повернул ручку, выскочил в коридор и дернул дверь на улицу.
– Я вам все объяснил. Я вас предупредил. Больше я ничего сделать не могу.
Он распахнул дверь. Когда Колин вышел на крыльцо, напротив двери Ригена он увидел автомобиль. Вспыхнули фары, заработал мотор. Машина пронеслась мимо, лицо за стеклом повернулось. Красные огоньки исчезли по направлению к станции.
– Кто это? – спросила мать, когда он вошел в кухню. И она, и Ричард стояли возле двери.
– Его фамилия Уолтон.
– Да, – сказала она. – Это я поняла.
– Он просто хотел, чтобы я кое-что сделал.
– Он говорил про свою жену. – Мать смотрела на него с гневным удивлением.
– Да, – сказал он.
– Ты что, встречался с его женой?
– Да, – сказал он и добавил: – Они разводятся.
– Разводятся или развелись?
– Разводятся. Но они живут отдельно, – добавил он, – больше года.
Никогда еще он не видел мать в таком волнении.
Она несколько секунд смотрела на него, не отводя глаз. Ричард сел и уткнулся в книгу.
– Вот, значит, – сказала она, – каким способом ты отплачиваешь.
– Почему отплачиваю? – сказал он. – Я с ней познакомился совершенно случайно.
– Ну да, конечно, – сказала она и добавила: – Ничего другого ты придумать и не можешь, миленький.
Она присела к столу, изможденная, худая. Столько жизненной силы, которая могла бы поддержать ее теперь, было отнято у нее, вырвано с каждым из сыновей, вырвано вечными стараниями свести концы с концами. Он даже увидел кухню так, как мог бы увидеть ее Уолтон, загляни он в дверь: пятна на стенах, голый пол. Правда, мебель была новой, но безнадежно дешевой. Кухня была точно пещера, внутри которой они жили, – пробуравленная, выдолбленная, изъеденная нещадным пользованием.
Хрупкое лицо брата было повернуто к нему, живые внимательные глаза еще хранили недоуменный испуг, вызванный воплями Уолтона, щеки покраснели.
– Это дурно, – сказала мать. – Дурно отнимать у человека жену.
– Я ее не отнимал, – сказал он. – Она не собирается к нему возвращаться.
– Да?
Казалось, мать обрубила последние связывавшие их узы, еще теплившийся огонек привязанности угас. Она увидела в нем ожесточенность и безжалостность – тогда со Стивеном, теперь и в том споре о его работе. Торжество, которого они ждали от его жизни, так и не наступило.
– Это дурно, – говорила она, – это дурно. – Почти так же, как сам Уолтон повторял нараспев: «Я хочу, чтобы вы оставили мою жену в покое». Она ухватилась за стол, как когда-то в беде, болезни или в споре с отцом могла бы ухватиться за него. – Это дурно, – сказала она еще раз, уже беспощадно, не в силах справиться ни со своим раздражением, ни с самой собой.
– Ничего дурного в этом нет. Почему людей должно вечно связывать то, что они сделали в прошлом? Особенно если они сами с этим покончили.
– Но он же не покончил, – сказала она. – А он ее муж.
– Какое значение имеет брак, если для нее он больше не существует?
– А, Колин, – сказала она, – ты не понимаешь, что такое брак.
– Не понимаю?








