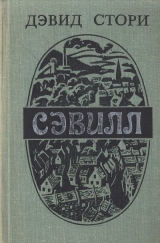
Текст книги "Сэвилл"
Автор книги: Дэвид Стори
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 35 страниц)
– Нет, – повторил он.
Он отталкивал от себя эту сторону жизни своей матери. Он смотрел, как мать домывает пол – на рваные чулки, на рваное платье и на воспаленные, в ссадинах руки, все в мыльной пене, смотрел, как щетка рывками движется взад и вперед.
– Дай я домою, мама, – сказал он.
– Не надо, – сказала она. – Ты же в форме.
Он сидел возле двери на стуле с прямой спинкой. Мать задернула занавеску алькова – теперь оттуда доносилось только приглушенное хрипение. Комнату вновь заполнило тикание часов на каминной полке.
Мать на время забыла про него. Он смотрел на ее спину, рыхлую и бесформенную, на склоненный затылок. Она стояла на коленях в другом углу, и он увидел, что подошвы ее ботинок протерты насквозь, до стелек. В середине каждой дыры, там, где протерлась и стелька, темнело пятно.
И опять безнадежность и усталость сковали все вокруг. Он хотел только одною: встать, уйти и увести с собой мать и больше никогда сюда не возвращаться. Дыхание по ту сторону занавески будет раздаваться и раздаваться – такая же неотъемлемая принадлежность комнаты, как тикание часов, как потрескивание огня и шуршание щетки, медленно разгоняющей по полу мыльную воду.
– Может, мне пойти погулять? – сказал он.
– Что, голубчик?
Мать вздрогнула и посмотрела на него через плечо, словно удивившись, что он тут.
– Я подумал: может, мне пойти погулять? – сказал он.
– Так ведь ты только сейчас пришел, милый.
Он увидел в ее глазах мольбу не оставлять ее одпу в этой комнате – не важно, пришел ли он сейчас или уже давно сидит здесь.
– Я просто подумал, что, может, тебе так удобнее будет. Ну, пока ты моешь пол, – добавил он.
– Нет, голубчик, там я уже кончила, – сказала она, взялась было за щетку, но тут же снова оглянулась на него. Она словно всматривалась в даль дороги. В ней даже было что-то от девочки: растерянность, пристыженность. – Жизнь их не жалела, – сказала она, и из ее глаз опять хлынули слезы. – Ты даже представить себе не можешь, какой тяжелой была тогда жизнь.
Он перевел взгляд с мокрого от слез лица на протертые ботинки, рваные чулки, обтрепанный подол платья. Перед ним словно была маленькая девочка, сестренка, и о чем-то просила, о чем-то отчаянно умоляла, прежде чем исчезнуть навсегда.
– Он три года не мог найти работы. Нам жить было не на что. А он бы много сделал, выпади ему случай. Да только он его так и не дождался. Не то что теперь, голубчик, – добавила она. – Теперь, если ты хоть чего-то стоишь, всегда найдутся люди, которые рады будут тебя взять. А тогда самый умный, самый старательный человек никому не был нужен, пусть он готов был работать хоть за троих.
Она отвернулась. Он слышал ее всхлипывания. Ее горе вторило хриплому дыханию в алькове и отрывистому тиканию часов. Он поглядел над ее головой на высокие прямоугольники картин над кушеткой: коровы по колено в воде, а позади них лиловатые горы со снежными вершинами, сельский домик с соломенной кровлей среди моря цветов под изломами пышных ветвей могучего дуба.
Мать уже снова терла пол, медленно водя щеткой взад и вперед, словно старательная девочка. Она глухо всхлипывала, почти с озлоблением, и вдруг захлебывалась рыданием; это было новое для него горе, тоскливое, безнадежное, которому нет утоления. Стоящая на коленях женщина была чужой, незнакомой: кто-то встреченный случайно, кто-то неведомый, захваченный за тем, чего он не мог понять. Потом пришла его тетка. Он ее почти не знал. Когда-то очень давно они были у нее в гостях – в старом доме, ютившемся в глухом переулке соседнего городка. И как-то он видел ее в этой самой комнате, когда они с матерью приехали навестить бабушку и деда, еще как будто здоровых. Она была сложена плотнее, чем его мать. Волосы у нее уже поседели, черты круглого лица были грубее и резче. Она отвернула занавеску и посмотрела на две фигуры в кровати с полным спокойствием, словно уборщица, вызванная навести порядок в доме. Положив продуктовую сумку на узкий столик, она поставила чайник на огонь и принялась хлопотать в комнате – передвинула стулья, расправила ковер.
– Ну, и как твоя школа? Тебя там на профессора обучают, что ли? – сказала она. – Нет, вы только поглядите на его фуражечку. А куртка-то, куртка-то, Элин. Прямо студент. – Она даже не обернулась к нему и только поглядывала на него краешком глаза, а потом исчезла в алькове. Он услышал шуршание откинутого одеяла, короткий вздох, покряхтыванье, оханье, и она вышла из-за занавески, держа под мышкой скомканную простыню.
– Это что, его книжки? А ранец-то, ранец! Эрик с Гордоном прямо позеленели бы от зависти. Им-то не до книжек, и так еле концы с концами сводим. – Продолжая говорить, она вышла во двор и вернулась без простыни, с ведром в руке. – Так ты, значит, пол помыла? Вот это дело. А то у меня все руки не доходят. Ну, да в будущем году они с учебой кончают. Попотеют годик на фабрике, а потом и в армию. Да чего от них и ждать-то. Они не так чтоб уж очень старательные, – добавила она.
Мать сидела на краешке стула. Когда вошла тетка, она надела пальто, поискала сумку, а потом села, так и не застегнув пальто, поставила сумку возле себя и рассеянно смотрела наружу через незанавешенную половину маленького окошка. Тетка, ничего не замечая, отдернула занавеску до конца и впустила в комнату вечерний свет.
– Нам пора на автобус, – сказала мать, но только еще больше сгорбилась на стуле. Она сидела боком к столу, положив на него руку, и теперь, когда занавеска была отдернута, смотрела на огонь в камине.
– А чаю на дорожку не выпьешь, Элин? – сказала тетка, но не стала ждать ответа и даже не повернула головы. Ее широкая фигура вновь скрылась в алькове, и оттуда донесся более долгий вздох, а потом опять послышалось оханье и покряхтыванье.
Мать вздрогнула и обернулась.
– Погоди, я тебе помогу, – сказала она и скрылась за занавеской, задернув ее за собой.
Заскрипели пружины кровати, и ее словно бы сдвинули с места. Он услышал пыхтение тетки, вздохи матери и прерывистое, замедленное дыхание двух фигур на кровати.
– Ну вот, – сказала тетка, появляясь из-за занавески. – Чем быстрее их заберут, тем лучше будет. Разве в таком доме мыслимо ходить за ними как следует!
– А как же ты одна останешься? – слабым голосом спросила мать, выходя из алькова. – Может, нам еще подождать?
– Скоро Редж с Дэвидом забегут, – сказала тетка. – А вы езжайте, покуда можно.
Мать взяла сумку и застегнула пальто. Она беспомощно обвела взглядом тесную комнатушку, сделала было шаг к алькову, потом сказала:
– Ну, так я поеду, Мэдж, если ты без меня обойдешься.
– Поезжай, поезжай, – сказала тетка. – Ничего с ними не случится. Старые башмаки самые крепкие.
Мать кивнула. У двери она быстро наклонила голову, вытерла глаза платком, высморкалась, сунула платок в карман и взяла Колина за руку.
– Ты собрался, голубчик?
Тетка, однако, словно ничего не замечала: не переставая говорить, она наклонилась над огнем, подгребла тлеющие угли к чайнику и охнула, вдохнув горячий воздух. Потом выпрямилась и оглянулась.
– Так вы, значит, уходите? – сказала она, увидев, что они стоят на пороге. – Ты когда опять-то приедешь, Элин? – добавила она.
– Завтра утром, – сказала мать. – Отправлю Стивена в школу и сразу приеду.
– А как Стивен? – спросила тетка, словно стараясь задержать мать. Она вышла вслед за ними на крыльцо, вытирая руки о фартук.
– Если можешь, привези чаю, – крикнула она, а когда мать ответила, просто кивнула.
– Она совсем расстроена, только показывать этого не хочет, – сказала мать, когда они отошли от дома, и в ее глазах снова заблестели слезы. – Она всегда им помогала. И деньги им давала, когда у них не было. А ведь ей самой на жизнь не хватает, – добавила она.
Они шли к автобусу между рядами одинаковых домов, и мать говорила не умолкая, не слушала ответов на свои вопросы, но ее рука крепко держала его запястье и не разжалась, даже когда они дошли до остановки.
Смеркалось. Они сидели внизу. Поля за окнами растворялись в темноте. Когда последние дома остались позади, мать умолкла. Она сидела, поставив сумку на колени, и смотрела мимо плеча шофера, на смутную полосу шоссе впереди. Только когда показался их поселок, она вдруг сказала:
– Наверное, ты их больше не увидишь. – И добавила: – Да и мне их уже недолго видеть, если бог смилостивится.
А когда они вышли из автобуса, она снова взяла его за руку и не выпускала ее, пока они не подошли к своей двери.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
17
– «Настало лето, – читал вслух мистер Плэтт. – Цветы отягощают пчелы, над изгородями вьются птицы. Хмельной напиток, настоянный на лепестках и ароматах, пьянит все чувства. Тоскою зимней сердце не томится: унылый труд, забытые обеты – все позади, и в нем царят улыбки и летний жар».
Он положил контрольную работу и посмотрел на класс поверх очков. Его взгляд медленно скользнул по партам, добрался до Стивенса и с угрюмой злостью остановился на Колине.
– Как прикажете это понять, Сэвилл? «Разберите систему образов этого стихотворения», а на вашем листе я нахожу лишь высокопарные, лишенные размера и, с вашего позволения, на редкость беспомощные вирши, которые вы изволили сочинить сами и озаглавили, – он быстро взглянул на лист, – «Строки, написанные в классной комнате четвертого „Б“, глядя в окно во время пасхальных экзаменов». – Он медленно обвел взглядом учеников. – Я не вижу даже намека на разбор и не нахожу ни единой, хотя бы косвенной, ссылки на заданное стихотворение, если только не счесть ваш опус слабой и в подобном контексте, должен я прибавить, грубо оскорбительной пародией на его признанные достоинства. Вордсворт писал стихи, и если бы он в праздную минуту досуга ознакомил меня на полях своей контрольной работы со своим толкованием «Бродил я один», то, осмелюсь предположить, я не был бы недоволен. При условии, что он ограничился бы полями, и при условии, что на предложенный ему вопрос он ответил бы полностью. Людям же с небольшим дарованием или, как в данном случае, вовсе без всякого дарования полезнее прямо, просто и без экивоков воздать должное истинному таланту, вместо того чтобы в подражание ему кропать собственные чудовищно банальные стишки. – Он снова взглянул на лист. – «К. Сэвилл»! С тем же успехом вы могли бы подписаться «В. Шекспир». – По классу прошелестел смешок. – Не мыслишь ли ты, о бард Колин, что игрою в регби приобрел ты право на подобные чудасии?
Класс разразился хохотом.
– Ответствуй же, певец Сэвилл! Ты слышал вопрос, отрок?
– Да, сэр, – сказал он и кивнул.
– Красноречивые излияния его сердца сковала немота. Оледенило их дыханье трезвой мысли. Считаешь ли ты это великим шедевром, о юный Сэвилл?
– Нет, сэр, – сказал он и мотнул головой.
– Дозволено ли нам, смиренным твоим поклонникам, рассеянным вокруг, воспользоваться сим твоим твореньем для излияния своих восторгов?
– Да, сэр, – сказал он и кивнул.
– «Настало лето, – прочел Плэтт еще раз. – Цветы отягощают пчелы». Отягощают ли пчелы летом цветы, Уокер?
– Да, сэр, – сказал Уокер и добавил: – Нет, сэр.
– Они могут льнуть к цветам. Они могут опылять цветы, Уокер. Они могут заползать в цветы, Стивенс. Они могут посещать цветы. Они могут кружить над цветами или опускаться на них. Но я искренне сомневаюсь, что пчелы, эти полезные насекомые с жалами, способны отягощать их. – Он поправил очки, опустил глаза на лист и прочел дальше: – «Хмельной напиток, настоянный на лепестках и ароматах, пьянит все чувства». Ах, бард Колин, бард Колин, да, если об этом прослышит налоговое управление, не миновать тебе беды. Каким образом настаиваешь ты сей хмельной напиток, любезный, а главное, имеешь ли ты на это соответствующее разрешение?
Ребята хохотали, откинувшись на партах. Сидевшие впереди оборачивались, соседи смотрели на него через проходы, о выражении лиц тех, кто сидел сзади, он мог легко догадаться.
Окна были открыты. Ноги, мелькавшие за ними, замерли, и с подпорной стенки свесились, с любопытством заглядывая внутрь, маленькие головы.
– «Тоскою зимней сердце не томится: унылый труд, забытые обеты»… Не кроется ли, о бард Колин, тут намек на разбитое сердце? На умудрившее тебя милование с некоей особой противоположного пола? – Он снова оглядел класс, поправил очки, прищурился на лист и добавил: – «Улыбки и летний жар». Вот это – поистине приятное обещание. Обычно скучный, чтобы не сказать угрюмый, лик нашего глубоко чувствующего друга в летние месяцы, если я верно толкую его заверения, посветлеет и даже, как он нам грозит, озарится улыбкой!
Вновь грянул хохот. В окна заглядывали сверху головы побольше. Кто-то начал хлопать крышкой парты.
Мистер Плэтт положил сочинение.
– Как вы увидите, Сэвилл, когда я раздам контрольные работы, ваша оценка заметно ниже той, которую вы могли бы получить, если бы ответили на вопрос в меру скромно и обстоятельно и, само собой разумеется, – добавил он, – более или менее правильно.
Он начал раздавать контрольные. Они переходили из рук в руки, от парты к парте, а тем, кто сидел близко, он нетерпеливо вручал их через склонившиеся головы.
– Паттерсон, Джексон, Свей, Кембридж, Берсфорд, Кларк… Сэвилл!
Контрольная поползла по партам – каждый быстро заглядывал в нее и нырком передавал дальше.
– Ротери, Джилл, Фенчерч, Мэдли, Кент.
По классу прокатывались шепотки. Мальчики раскрывали контрольные, заглядывали в конец, снова раскрывали. Он увидел свою отметку, красную линию, проведенную сбоку от стихотворения, поправки в ответах на другие вопросы, положил контрольную и скрестил руки на груди.
Мистер Плэтт отдал последнюю работу и несколько секунд выжидал, задумчиво постукивая по зубам кусочком мела.
– Некоторые из нас не в ладах с поэзией, но куда больше среди нас тех, – добавил он, – кто не в ладах с орфографией.
Колин прижал руки к груди. Мистер Плэтт читал фразы из других работ, над партами смущенно возникали фигуры и снова садились, на доске выводились слова.
– Но вернемся к вам, – сказал Плэтт и добавил, повышая голос: – Ведаешь ли, что я к тебе взываю, отрок?
Класс поспешно засмеялся.
– Как напишешь ты «интеллектуальность», о бард?
Он машинально встал под новый взрыв хохота, услышал повторение вопроса, начал медленно произносить «интеллектуальность» по буквам, где-то в середине запутался и сел, а Плэтт воскликнул:
– Джилл! Джилл! Конечно, вы всего лишь жалкий математик, но, может быть, вы скажете ему, как оно пишется?
Позади Колина слово было быстро отчеканено по буквам.
– Ужели муза посещает тебя, о бард, не только вне этих стен, но и прямо в классе?
Он снова медленно встал.
– Не соблаговолишь ли ты, о бард, ответить дома на вопрос, отринутый тобой в контрольной, и не принесешь ли мне его для проверки завтра рано поутру? Ты понял все?
– Да, – сказал он и добавил: – Сэр.
– Но помни, бард, рифмованные строки, иль белые стихи, иль разновидности любых таковых мне не нужны. Удовольствуйся презренной прозой, которой тебе следовало бы воспользоваться с самого начала, отрок.
– Да, – сказал он и, убедившись, что Плэтт больше ему ничего говорить не собирается, снова сел.
– Мне мнится, отроки, что зазвучал колокол, призывающий меня к утренней чашке кофе. – Плэтт приложил маленькую плотную ладонь к уху, словно стараясь лучше расслышать звон, слабо доносящийся из коридора наверху. – Он, мнится мне, сзывает вас к принятые пищи, а Сэвилла к тому ж зовет на тайное свиданье с музой, быть может, под аркадой, отроки, иль даже на площадке для игр. Ты внемлешь ли, о бард? Иль трезвый свет дня и будничная проза урока по литературе загнали ее в какую-нибудь жалкую и темную дыру, откуда вызволить ее способен лишь ты, и ты один?
Колин встал вместе с остальными. Снова раздался совсем уж было замерший смех.
– Склоняй слух к словам своих наставников, отрок, – сказал Плэтт, с книгами под мышкой направляясь к двери. – Помни, что они прожили много больше лет, нежели ты, и, без сомнения, в младости своей рьяно тщились состязаться с бессмертным Бардом. Что не помешало им двадцать лет спустя кончить свой путь за учительским столом, за каковым милостью судьбы они могли бы водвориться много раньше, ежели бы не расточали время на подражания, подобные тому, которое нам довелось услышать нынче. Истинно, истинно… – Он поднял ладонь, остановив в дверях толпу мальчиков. – Итак, ваш наставник сказал, отроки, отверзните уши и слушайте.
Колин неторопливо пошел к галерее, взял свою бутылку молока и прислонился к стене. Мимо по одному и группами проходили в столовую учителя – они пили там кофе. Прошел Гэннен, туго стянув мантию на животе, мисс Вудсон близоруко щурилась и поправляла очки, Ходжес приглаживал пучки волос, двумя белыми клыками торчащие из-за ушей.
– Они всегда к кому-нибудь цепляются, – сказал Стивенс. Он прислонился к стене рядом с ним и пил молоко, совсем ссутулившись.
– Ну, а что им еще делать? – сказал он, допил молоко и пошел к ящикам. – Все-таки придает интерес уроку.
– Для кого придает, а для кого и нет, – сказал Стивенс и, не допив молоко, пошел с ним на площадку, но тут же его оттерла толпа бегущих навстречу ребят. – По-моему, у тебя получилось здорово, – сказал он, нагнав Колина. – Плэтту в жизни так не написать.
– Угу, – сказал он и остановился около места, где начинался футбольный матч. Поле отмечали брошенные в кучи куртки, и между ними сновали фигуры в майках.
– А ты что-нибудь еще сочинил? – спросил Стивенс.
– Нет, – сказал он и мотнул головой.
– Он, наверно, тебе и отметку здорово снизил, – добавил Стивенс.
– Да, снизил, – сказал он.
– Хочешь купить авторучку? Тебе я дешево отдам, – сказал Стивенс.
Он распахнул куртку и показал колпачки нескольких ручек, торчащих из внутреннего кармана.
– В магазине такую меньше чем за два, а то и за три фунта не купишь, – сказал он.
– Где ты их взял? – сказал он.
– В городе, – сказал Стивенс. – Бери вот эту большую, – добавил он. – С ней стихов напишешь, сколько захочешь.
– У меня есть ручка, – сказал он.
– Так в нее же чернил меньше входит. И перо хуже. – Пальцы Стивенса скользнули по карману, он вытащил большую ручку и отвинтил колпачок.
– Я моей обойдусь, – сказал он, повернулся и неторопливо пошел назад.
– Я ее тебе за пять шиллингов уступлю. За четыре. За три шиллинга и шесть пенсов, – сказал Стивенс.
– Да нет у меня денег, – сказал он.
– Плати понемножку каждую неделю. Не беспокойся, оглянуться не успеешь, как разочтемся, – сказал Стивенс и добавил: – А то пошли со мной, будем вместе их прихватывать. Вдвоем легче, чем одному.
Мимо пробежал Уокер, потом Джилл – высокий, худой, в очках. На бегу он выворачивал ступни, почти как Батти.
– Двоих легче изловить, чем одного, – сказал он, следя за тем, как Стивенс прячет ручки во внутренний карман.
– Со мной не поймают, – сказал Стивенс, искоса поглядел на него и улыбнулся, открыв мелкие клинышки зубов. – Пошли как-нибудь на большой перемене, я тебе покажу.
– Нет, ты уж сам этим занимайся, – сказал он, засмеялся и повернул к галерее.
– Если захочешь какую-нибудь особенную, я тебе ее устрою, – сказал Стивенс. – Только смотри, никому ничего, я ведь это только по дружбе.
Он пересек двор и прошел по полутемной галерее к себе в класс. Огонь в камине угасал. Он подложил в него угля, сел за свою парту, достал контрольную и начал читать. «Настало лето. Цветы отягощают пчелы, над изгородями вьются птицы. Хмельной напиток, настоянный на лепестках и ароматах, пьянит все чувства. Тоскою зимней сердце не томится: унылый труд, забытые обеты – все позади, и в нем царят улыбки и летний жар».
Он вычеркнул «настоянный», написал «из лепестков и ароматов» и принялся читать еще раз, уже медленнее.
Стэффорд взял сумку под мышку и прислонился к витрине, отражавшей его фигуру и фигуры двух девочек, с которыми он разговаривал. Через центральную площадь, которая с приближением часа пик все больше заполнялась людьми, медленно проезжали машины. Перед магазинами и перед отелем стояли другие компании – мальчики в форменных куртках и фуражках, девочки в синих пальто по лодыжку и в маленьких синих беретах.
– С Одри ты ведь знаком? – сказал Стэффорд. – Она тебя видела на ферме, где ты работал летом. – Он указал на более высокую из девочек, тоненькую, светловолосую, с румяным лицом. Теперь он ее узнал. – Это ферма ее папаши, – добавил Стэффорд, засмеялся и повернулся к другой девочке. У нее были темные волосы, темные глаза и нос с горбинкой. Она поглядела на Колина и тоже засмеялась.
– А это Мэрион, – сказал Стэффорд, плотней прислонился к витрине и засунул руки в карманы.
– Он говорил, что он хорошо работал, – сказала высокая и поправила ремень ранца на плече. – Не хуже взрослого мужчины, – добавила она, и Стэффорд, наклонив голову, снова засмеялся.
– Так он же и есть мужчина, – сказал он второй девочке, и они засмеялись все трое, неуверенно, нервно, взглядами приглашая Колина посмеяться вместе с ними.
– А Джек еще там? – спросил он. – И этот, кривоногий.
– Гордон, конечно, там, – сказала она. – Он же много лет там работает. И Том еще там. А этот ушел. Кажется, на шахту, – добавила она.
– Колин и про шахты знает, – сказал Стэффорд. – Он только о работе и думает, и ему все про нее известно.
– А что, сезон регби уже кончился? – сказала темноволосая, задумчиво повернулась и поглядела на другие группки дальше по тротуару.
– Целиком и полностью, – сказал Стэффорд, постукивая каблуком по каменной облицовке под витриной. – Мы ждали, что вы придете посмотреть, но так и не дождались. Прекрасные поклонницы не про нас. Не то нам бы удержу не было, – добавил он.
– Мы ходим только на матчи первой команды, – сказала темноволосая, хихикнула и снова обвела взглядом другие группки.
– По-моему, у Своллоу волосы – умереть, – добавила она. – А Одри прямо влюблена в Смита.
– В старшего или в младшего? – сказал Стэффорд.
– В старшего, конечно. – Темноволосая засмеялась и подтолкнула Одри локтем. Одри покраснела еще больше и тоже засмеялась.
– Мне пора, – сказал Колин. – Автобус уйдет через пять минут, а до следующего почти час.
– А ты домой на автобусе ездишь? – сказала черноволосая. – Ведь на поезде быстрей. И в очереди стоять не надо.
– И в купе у нас весело. Эти вагоны без коридоров, – сказал Стэффорд. – Раз сели, деваться им некуда, на ходу дверь не откроешь.
Темноволосая опять засмеялась.
– Стэффорд дождется, сообщат про него в школу, помяните мое слово, – сказала она и взмахнула ранцем.
– Туннели один за другим, а лампочки можно вывинтить, – сказал Стэффорд.
Белокурая девочка покраснела. Она взглянула на Колина и быстро перевела глаза на дом напротив.
– Бренда говорила, что скажет про тебя. Входит в класс, а у нее юбка порвана, и мисс Уилкинсон выслала ее вон, зашивать. – Она сняла берет и встряхнула головой. Темные волосы отлетели назад. – Жалко, что Своллоу на нашем поезде не ездит. Мы бы потрясающе провели время.
– Ты для Своллоу еще мала, – сказал Стэффорд.
– Я ни для кого не мала, радость моя, – сказала она и опять поглядела по сторонам.
– Давай приезжай в субботу, Колин, – сказал Стэффорд. – Поезд у вас на станции останавливается в час. Сойдешь на Суиннертонском разъезде. Я тебя встречу.
– Ладно, – сказал он, кивнул, поправил ранец и сошел на мостовую.
– Пока, красавчик! – крикнула темноволосая, и, поднявшись на противоположный тротуар, он увидел, что все трое смеются: белокурая девочка по-прежнему глядела на дом напротив, а темноволосая, привстав на цыпочки, ухватилась за плечо Стэффорда и что-то оживленно, с улыбкой говорила, придвинувшись к самому его лицу, хранившему равнодушное выражение.
Расчерченные живыми изгородями поля сменились лесом, потом совсем близко от окна замелькали большие рыжие камни, вкрапленные в откос выемки.
Минуту спустя поезд подошел к станции – к деревянной платформе со скамейками под навесом.
Колин спрыгнул на платформу, женщина с младенцем, сидевшая под навесом, вошла в вагон и захлопнула за собой дверь.
Он отдал билет мужчине с тачкой, который полол садик у входа на станцию, и пошел по дорожке, к гребню холма, где за забором виднелось шоссе. На станционном дворе стояла подпертая ящиками старая тележка, среди бурьяна торчал ржавый каркас грузовика – без колес, мотора и капота. Где-то на линии раздался гудок. Там, где дорожка выходила на шоссе, вдруг возник всадник, лошадь трусила по обочине. Дорожка упиралась в покосившуюся деревянную калитку. Из щелей между досками пробивались стебли травы и репейник.
По склону медленно взбирался велосипедист, сгорбив спину, пригнув голову почти к самому рулю. Добравшись до верха, он начал распрямляться, увидел Колина и замахал рукой.
– Привет! – сказал Стэффорд, подъезжая к нему. – Давно ждешь?
Колин показал на поезд, исчезающий среди полей. Темная полоса дыма уплывала назад, к выемке.
– Нам туда, – сказал Стэффорд, кивая в ту сторону, откуда приехал. Внизу виднелось несколько крыш. – Давай садись.
Колин сел на раму, Стэффорд повернул велосипед и оттолкнулся от земли.
Велосипед завилял, потом набрал скорость и выпрямился. Они неслись к домам внизу.
– Держись крепче! – сказал Стэффорд.
Они мчались все быстрее, Стэффорд вопил и шаркал подошвами по асфальту.
– Внизу поворот. Держись крепче. Тормоза не берут.
Велосипед повернул, вылетел на обочину и оказался на гаревой дороге. Тормоза заскрипели, схватывая колеса, велосипед дернулся, почти остановился, но Стэффорд потерял равновесие. Он уперся ногой в землю, их развернуло, Колин уцепился за его запястья, за руль, стукнулся о стену, и на него навалился Стэффорд.
– Здорово съехали! Только немножко не туда, – сказал Стэффорд и со смехом дернул Колина за руку. Дорога тянулась между высокими подстриженными изгородями с воротами справа и слева. – Хочешь, веди ты, – сказал Стэффорд. – Только если ты сядешь на раму, мы доберемся быстрее.
Он повел велосипед назад к шоссе.
Колин сел на раму, но оказалось, что колени Стэффорда упираются в его ноги, и в конце концов он перебрался на седло и ухватился за плечи Стэффорда, который пригнулся и крутил педали стоя.
Они проехали мимо церковной ограды с аркой над калиткой, в стороне среди могучих деревьев стоял большой каменный дом. Дальше справа и слева вдоль узкого шоссе отдельными тесными группами стояли небольшие каменные дома.
Стэффорд ехал медленно, его голова поднималась и опускалась в такт движению ног, он то выпрямлялся, то опять пригибался, чтобы удержать равновесие. Перед небольшим косогором он остановился.
– Теперь уж недалеко. – Он указал вперед.
Колин соскочил на землю.
Поднявшись по склону, он увидел сбоку от шоссе большой кирпичный дом, перед которым узкой полосой протянулся запущенный сад. За домом виднелся пруд с голыми илистыми берегами и чуть дальше – кирпичное строение без крыши, из двери которого, когда они приблизились к дому, вышла свинья в сопровождении стаи гусей.
От шоссе к дому вела дорога, вся в рытвинах и лужах. Вдоль нее по бурьяну вились многочисленные тропинки, сходясь у обрамленного колоннами подъезда с портиком.
Стэффорд слез с велосипеда и свернул на боковую тропинку. Она петляла между лужами и смыкалась с мощенной плитами дорожкой, которая вела к боковой двери. Стэффорд прислонил велосипед к стене, снял зажимы с брюк и, не вытирая ног, не счистив глины с ботинок, вошел в открытую дверь. Он крикнул:
– Мама! Ты вернулась? – И, не дожидаясь ответа, поманил Колина за собой в кухню.
Ее окна выходили на задний двор. Пол не был ничем покрыт. На столе у стены стояли тарелки с сандвичами и пирожными. Под окном была раковина с одним краном, а рядом газовая колонка для подогрева воды. Две двери напротив, по-видимому, вели в комнаты.
– Бери скорей! – сказал Стэффорд.
Он стоял у стола, приподнимая верхние ломтики сандвичей, потом отобрал два и один из них протянул Колину.
– Это тоже захватим, – добавил он, хватая с одной тарелки пирожное, а с другой кусок кекса. – Пошли во двор. Или ты хочешь посмотреть дом? – Он быстро съел сандвич и взял еще один. – Ну, идем, – сказал он. – А то сюда сейчас кто-нибудь явится.
Дорожка из каменных плит вела к заросшей бурьяном лужайке. Дальше начиналась полоса засохшей грязи, окружавшая пруд. Там бродили гуси, а возле кирпичного строения без крыши рылась в земле свинья.
Гуси загоготали, но Стэффорд словно не видел их и не слышал: продолжая жевать сандвич, он поманил Колина за собой, несколько раз беспокойно оглянулся на дом и пошел вокруг пруда к забору, отделявшему огород от густой рощицы.
Забор был в нескольких местах сломан, кое-как подправлен и снова сломан. В десятке шагов за ним между стволами виднелась деревянная хижина. Очень низкая, ниже их роста, она была сколочена из разнокалиберных досок и накрыта листом кровельного железа.
Стэффорд перелез через забор, торопливо пошел к хижине, подныривая под ветки, согнулся и юркнул внутрь, даже не оглянувшись на Колина.
Вход был завешен куском мешковины. На полу лежал отсыревший лоскут ковра.
– Я сюда прихожу по ночам, – сказал Стэффорд. – Захвачу чего-нибудь поесть и иду сюда.
Однако он лежал, подпирая голову рукой и словно отстраняясь от всего, что было вокруг.
– Она, конечно, не очень. Я ее год назад построил, – добавил он. – Да еще брат как-то влез в нее и развалил.
Сырость мало-помалу просачивалась сквозь одежду Колина. Скорчившись в тесноте, он различал только бледное пятно волос Стэффорда, смутный овал его лица и медленное движение руки, подносящей ко рту кусок кекса. Доев кекс, он замер без движения. Его лицо было похоже на маску: неразличимые глаза, полосы тени около носа и губ.
– У вас лучше, – сказал он. – У Лолли.
– Да, – сказал Колин и кивнул.
– Ну, конечно, – сказал Стэффорд, – я ее один строил. Помогать мне тут некому.
Он говорил шепотом, словно под деревьями вокруг прятались невидимые люди.
– Иногда я кого-нибудь сюда привожу. Только знакомых у нас поблизости почти нет, – добавил он.
По ту сторону забора снова прерывисто загоготали гуси. Где-то залаяла собака.
Стэффорд приподнял мешковину и выглянул наружу.
За стволами виднелся дом на косогоре над грязным прудом. Из боковой двери вышла женщина и посмотрела на пруд, на сарай, а потом, прислонив к глазам ладонь, на рощицу. Она немного постояла так и вернулась в дом.
– Я иногда прихожу сюда ночью. Когда все заснут. И беру с собой чего-нибудь поесть. У меня есть свечка. – Стэффорд отпустил мешковину.
Перед самым лицом Колина вспыхнула спичка, но укрепленная в консервной банке свеча была вся мокрая: фитиль затрещал, разбрызгивая искры, и погас. Они снова остались в темноте.
– Кекс вроде бы неплохой. А как тебе пирожное? – сказал Стэффорд.
– Ничего, – сказал он.
– С чем был твой сандвич?








