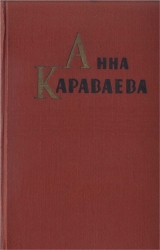
Текст книги "Собрание сочинений. Том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице"
Автор книги: Анна Караваева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц)
– Выпори… сколь положишь… для спасенья!
Поп подмигнул хитро на Ксюту:
– Гляди, девонька, брюхо-то у тебя большое! Как тебя пороть-то?
Ксюта, думая облегченно о первотелке, что останется в хлевушке на зимнюю одежду, сказала, разгибая уставшую от поклона спину:
– А я, батюшко… на коленки встану… Пра-а…
Поп сказал почти добродушно:
– Ну, что ж, попорем, попорем.
Пришла Ксюта домой с выпученными, немигающими глазами. Не могла понять толком, отчего жар в теле – от боли или от стыда.
Иван отчаянно обнимал дергающееся, исполосованное розгами тело Ксюты.
– Да пошто ж ты мне ниче не побаяла, Ксютушка? Пошто таючись изладила? Неужто ж я б не заплатил? Ксюта-а…
Она выговаривала липкими губами:
– У тебя-то чо взять? О-ох… Ниче-е… Отойду!
Мареиха совалась по избе, бестолково что-то прибирала, шмыгая носом. Она плохо слыхала, как клял попа Иван, как плакал тяжкими слезами. Со звоном в голове нашептывала:
– Ниче, дочушка-а… ниче!.. Ладненько буде-ет.
Ночью и утром, в лучинном свете, металась без памяти Ксюта на скрипучих нарах у стены, никого не узнавала, а Ивана принимала то за попа Анания, то за Игнашку, то за солдата с розгой. А на рассвете приняла Мареиха мертвого внука.
Иван глянул на сына, глухо вскрикнул, рванул себя за волосы и выбежал из избы.
Мареиха бестолково, с остановившимся взглядом сновала по избе. Стонала истекающая кровью Ксюта, смеялась и всхлипывала в бреду… Мареиха, глядя на розовеющее небо, вдруг быстро-быстро зачесала ножом по полену, подмигивая и приговаривая:
– Чичас ночь, ночь… а от пыхнет лучинка, и куды станет светло… Не реви, дочка, не реви!
Как во сне Мареиха пошла доить коров, о которых не вспомнила бы, если бы не замычали они возле крылечка.
Из-за плетня выглянуло худое лицо Терентьевны. Пошныряла глазами Лешкина мать и спросила:
– Федосья-то у тя игде-е? На пашне, чо ль?
Мареиха, вслушиваясь в ее тонкий голос, будто шел он издалека, ответила равнодушно, плохо понимая, зачем спрашивают о Фене:
– Федосья… На пашне, видно… не ведаю… На пашне…
Терентьевна кивнула, уходя торопно и весело:
– Ин, ладно!.. Пусть тамо и сидит.
Феня же с ночи лежала в траве между грядами в Лешкином огороде. Под отсыревшей за ночь ланевой оберегала у груди завернутый в тряпку нож. Посмотрев на рассвете на отточенное его острие, попробовала пальцем, усмехнулась длинно, скорчилась в комок за кустиком, возле плетня, и слушала чутко, как хлопотливо и празднично просыпалась сегодня Лешкина изба.
Переползши на другой конец, видела Феня тускнеющими, будто не своими глазами, как на пригорке венчал поп Лешку с Ариной.
Царапала Феня скрюченными пальцами землю, когда зазеленели головы жениха и невесты под венцами, сплетенными из молодых веточек березы. Видно, Лешка сам плел, – мастер он на плетенье, вот и пригодилось.
Так и сорвала бы Феня эти нежно-зеленые веночки, затоптала бы, изломала… А светлые, как молодая солома, Аринины волосы накрутила бы на руку, вот так, так, так… и мотала бы, стучала по земле этой улыбающейся сейчас головой, чтобы дико и пронзительно кричала в вешнее небо счастливая сирота.
С Ариной Феня никогда даже не разговаривала, но ненавистна стала сирота – ведь мир для Фени был в Лешке, балагуре, дудочнике, озорном, ласковом певуне и пересмешнике. Однажды по осени видела Феня в лесу, как два молодых злато-рыжих лисенка сцепились из-за ими же задранного зайца, и один лисенок, пышнохвостый, зеленоглазый, всадил острые зубы в шею врага, а потом, ворча, начал свежевать зайца.
И Феня, слушая, как во дворе звучит счастливый смех сироты, чуяла, чуяла в себе неуемное, жадное лисье сердце.
К погребу, вырытому напротив под большой сосной, молодоженка Арина шла за молоком.
Мелькнула ее чистая, спокойная щека, прямая спина в свежей вышитой холстине, и Фенино лисье, вскипевшее жадной кровью сердце забилось оглушительным водопадным шумом.
Арина спустила ноги в яму.
Феня бесшумно проползла по траве. И вдруг под ладонью забилось безмолвное от впихнутой в рот тряпки Аринино лицо с перекосившимся взглядом. На круглых щеках застыли ямки от улыбки, – сначала подумала, верно, что это Лешкины шутки.
В перекошенных, почернелых от ужаса глазах Арины увидела Феня себя… Потом в их глубине отразился Лешка… Лешка!..
Феня жарко шепнула в ненавистное лицо:
– Не бывать! Не-е… Вот… то-то баска будешь… И-их!
И узким лезвием в пляшущей от дрожи руке она ударила в лицо сироты. Ударяла наискось, вглубь. Хрипела, облизываясь, со стоном:
– Чо? Чо?.. Баска? Во те ишо, ишо, ишо!..
Только тогда Феня застыла с ножом, мокрым и скользким от крови, когда Арина упала, как сырой мешок, набок – ноги в яме, а сама с кровавой рванью вместо лица на мягкой вешней траве.
Феня взвизгнула от ужаса и, словно проснувшись, бросила нож. Птицей перемахнула она через плетень, бежала к Бие и шептала:
– Господи, батюшко-о-о… Господи-и… што же, што же я изладила?
Прыгнула в узкую скорлупу чьей-то лодки, оттолкнулась и поплыла вниз по родной Бие, не зная, чему навстречу плывет.
Гребла с закрытыми глазами – казалось, вот-вот глянет из-за куста безгласная, кровоточащая рвань Аринкина лица.
Вез поп Ананий рапорт наисрочнейший в главную контору Колывано-Воскресенских заводов.
Поперхнувшись и досиза покраснев, дал благословение принявшему его Качке. Одурев от уничижительной радости, поп рассказал обо всем, что случилось в Орехове. Гаврила Семеныч слушал попа, небрежно играя лорнетом. Вдруг поднялся после одного из своих вопросов и показал рукой на дверь:
– Батюшка, более задерживать вас не смею. Рапорт же ваш оставьте. Сие мерзостное дело о девках с велией признательностью принимаем и сыск по сему нарядить не замедлим.
Когда огорошенный поп Ананий ушел, Гаврила Семеныч призвал главного секретаря. Морщась и затыкая нос, сделал кислое измученное лицо:
– Сколько вони принес с собой сей поп! Кто с чернью якшается, сам подлым духом грязи ее и невежества заражен бывает. Любезный Иван Петрович, потом потрудитесь запах сей истребить. А пока, терпением вооружась, прочтем сей рапорт. Поп хорошо грамотен, и, чаю, мы разберемся.
Главный секретарь повернулся спиной к окну и читал, брезгливо топыря губы, так как бумага рапорта смялась в поповском кармане и изрядно пропахла дешевым табаком, которым баловал свой мясистый нос поп Ананий.
За окном робко и бледно зацветала сирень. На площади шло пешее ученье, слышалась чья-то брань, уныло стрекотал барабан. Главный секретарь читал вслух:
«Крестьяне заводские живут яко в языческом состоянии, и сколь умиляются сердцем сии нещастные, слыша слово божие!
Но сказать надобно, что всяческие пороки – любостяжание, непокорство, скупость для господа, а паче всего блуд мерзостно и безбожно себя проявляют. Сие видел я воочию, что и поясню виденным мною…
Девка Федосья Мареева, Осипова дочь, возревновав соблудшего с ней ранее Алексея Полуягина к жене его законной Арине, сию последнюю подстерегла в огороде, напала на сию Арину и, страшные уродства на лице ее нанеся ножом, скрылась неведомо куда. Арина, жена Полуягина, живой останется, токмо изъяны на лице ее и один выколотый глаз страсть из себя являют.
Вся семья оной девки Федосьи Осиповой преступна, развращена и господом отменно наказана. Сестра оной Федосьи – Аксинья, будучи уличена во блуде, созналась, но, штрафа установленного платить не желая, на наказание плетьми согласилась, хотя упредить надобно, что достаток лишний в виде коровки молодой – первотелки – сия девка имела.
Испытав внушение, легкое весьма, всего в несколько прикосновений лозой, сия девка, в наказание за жадность свою, мертвым младенцем мужеска пола разрешилась и на другой день померла. Мать же ее старуха, лет коей 61 и коя дщери своей в блуде ее потворствовала, увидя плоды сии, главой помешалась и разума безвозвратно лишилась. Сия старуха все свое поведение в полном непотребстве показала: не пускала меня, священнослужителя, в дом свой, оскорбила сан мой, „разбойником“ меня назвав. Потом, плюясь на господа и начальство, хулу изрыгая, бросилась старуха в лес, где и пропала бы, ежели бы наутро не нашли ее повесившейся. Видимо, своими же руками сию позорную кончину себе уготовала.
Смятенные поселяне зрили, страхом и смирением обуяны, вид божьего гнева и указание перста господня, елико три упокойника в одном доме не всегда сразу случаются.
И что получили сии жестоковыйные и непотребные люди? Се перст божий, коровку-первотелку староста Лисягин (единой твердой в вере) мне же за мои заботы и требы предложил, что я с чистою душою как должное принял. От сей же семьи остался сын-уродец (о, карающая рука господня), коему лет 25, и оный тоже в гроб глядит. Посему мною купно со старостой Лисягиным все имущество их было переписано, ибо надеяться надобно на семьи всей вымирание. Чаятельно мне, не худо я сие упреждение устроил, ибо как верный слуга государя моего и начальства, о благоденствии оного пекусь, как разумения моего хватает».
Секретарь сощурился:
– А ведь горазд писать, каналья!
Гаврила Семеныч снисходительно хмыкнул:
– Зачем-то ведь и платит кабинет сим казуистам божьим! Есть случаи, в коих ряса и крест нужнейшими помощниками являются. Ну, что еще там? Читайте!
«…Еще добавить имею. Оной Аксиньи Осиповой недостойный по блуду сообщник, имя коему Иван Чагин, сказывали потом поселяне, после происшедшего всего хвалился, что убежит в кержачьи тайные поселки, и, правду, оной Иван Чагин, за день до отъезда моего из задержавшего меня требами села, уехал верхами вместе с престарелой своей матерью».
– Тьфу, – громко плюнул на ковер Гаврила Семеныч и яростно растер ногой, – вот дубина, болван длинноволосой! Не знает, что в черни нашей беглой дух сидит заместо разума. Не мог сего упредить! А еще поп земель кабинетских! Смерды же сии прямо ведь издевку творят… а? Тогда сказали, когда преступник скрылся… Тьфу, кутейник вонючий! Наплел с три короба. Ну, что мне сие дело о девках? Ну? Наискучнейшая грубость всех этих первобытных мужицких чувств…
Качка изнеможенно сел в кресло и протер лорнет.
– О-о, сколь низок и свиреп народ наш, сиречь крестьяне заводские! О-о!.. Даже порой ужас берет, что бы они натворили, ежели бы им чудо из чудес волю дало. Ух! До того сия мысль страшна, хоть и бессмысленна, что глаза свои жмурю, яко ослепленный. Нет, все же… поп-то… И как сие происходит, что глуп человек? И откуда так много дураков на свете?
БеглецыНе однажды, засыпая под тихий гуд сосен, вспоминали беглецы золотое небо над барнаульским бором и все свои страхи в тот вечер, когда, прячась поодиночке за кустами и стволами, шли они к месту общей встречи – к змеиногорской дороге. И пока градское купечество, начальничьи жены, важное заводское чиновничество во главе с Качкой и его супругой молились в соборе, беглецы уже вышли за город и на заре нового дня в глухом сосняке сделали краткий привал, вздрагивая от каждого лесного шороха и перекликов птиц.
Когда переплыли Бию, в первый раз крепко, беспробудно, как убитые проспали в лесу от звезд до солнечного, ослепительного полдня.
И тут-то, через две недели свободы, дали беглецы волю душе распахнуться, выкинуть остывший кипень недавнего холодного страха и усталости.
Хохотал, тряся головой, Сеньча:
– Я тогда баю нашему шлесарнику, – старшому: «Ох, мол, помолиться охота поболе, живешь, живешь – лоб некогда покстить». А шлесарник-от у нас божественно-ой! Видно, по нраву такое старанье пришлось. Вот, бает, и ладно, поди в собор, дело-де хорошее, и я-де за тебя, Кукорев Семен, ра-ад! Начи-иаешь-де ты поправлятися, заметок за тобой давно не было, ступай-де в собор, господь-де молитвы любит. А я: в собор-то, баю, меня пустят? Вона, баю, рубаха-то у меня не промывается. А он: а ты-де близко к господам и не встанешь, чай, стражники в церкви порядки знают… О-хо-хо-о! У меня ж в нутре просто все от смеху встрясло: да пропади ты, ханжова душа, с церквой-то своей!
– Укороти язык-то! – сурово сказал Марей. – Чай, без богушка мы шагу по земле не пройдем. Вот, не помолился бы я милостивцу, не отнять бы ружье у солдат, ни в жисть!
Аким Серяков затянулся своим тоненьким смехом:
– О-ох! И охаживал же Мареюшко солдатню-то! Один-от даже стал Марея молитве, что ли, учить…
Марей укоризненно задвигал бровями:
– Да-а… Ты думаешь – легко… Заговариваю их, а сам молюсь: милой, прости, мол, обманываю тебя… Люди ведь… Человеку на человека кидаться горько.
– Человек, человек! – вскричал Степан. – Ты, Марей, на сие не уповай. Тут в другом загвоздка: кто где, кто на ком сидит! Разве у барина моего. Качки, по три ноги да по пять рук? Иль, может, мозга у него другая? И мозга та самая… Токмо я под лестницей жил, а он в горнице под потолком расписным, вот и вышло, будто крови-то у нас разные…
Василий Шубников, жуя черствый хлеб, сказал раздумчиво:
– Оттого и жисть у одного дорогая, а у другого дешевая, мене гвоздя ржавого… Наша жисть дешева… к-куды-ы!
Сеньча хмыкнул было ухарем:
– Хоть кучами мри, недохватки не будет – алтайски бабы народют… Да мы-то на-удалу живем: али до легкости добраться, али кнут…
– Да засохни ты-ы! – взвизгнул Аким Серяков, сморща лицо. – Токмо выбились из пекла, он опять ворошит. Будя, будя! Коли убег, жить внове начал!
– Верно, – сказал Степан, – уж надо внове.
Первые дни жалостно скулила в глубине его сердца тоска о нежном синеглазом лице, о ласково прижимающемся теле, о маленькой теплой руке с исколотыми иголкой пальцами, что до поры до времени гладила волосы и мирила его с людьми.
Но с зари под ногами была прохладная росная трава, в ушах веселый зуд от птичьего щелка, свиста, перекликов, – будто шире становишься в плечах, до того жадно дышит не надышится грудь. А в глазах мелькает золочено-зеленый переплет хвойных веток и солнечных пятен, нежится и поет лес. Потому притуплялась тоска, все больше превращаясь в терпеливую сладкую надежду. Вот дойдет до легкости, до приволья, проберется Степан Шурьгин под видом купца, что ли, и увезет с собой Вериньку из ненавистного начальникова дома.
Пошли деревни чаще. Стало трудней. Разделились на три кучки.
Цель одна – Бухтарма, река обширная, привольная, чью воду пьешь, как мед. Бухтарма – жизни подательница.
Заходили беглецы в деревни, работали, что давали. Копали гряды, пилили бревна, поправляли избы, заборы. Их кучку в восемь человек бабы иногда чуть не «на кулачки» рвали. Во многих деревнях парни и мужики приписные с зимы еще не ворочались, кто с заводов, кто с рудников. Бабы глядели жалостливо, как жадно насыщались беглецы шаньгами с картошкой.
Бабьи наметанные глаза оглядывали их темные лица с грязью в морщинах, изветшалые рубахи, разбитые коты и сапоги, спрашивали просто:
– Откуда бог унес?
Беглым не удивлялись – каждую весну столько этих рваных, запыленных и голодных людей заходило в деревни.
Их встречали хоть и сторожливо (чтоб солдаты не увидали), но приветливо.
– В случае чо, мы вам запряту отыщем: в погребушки, в огород аль куды… Не бойсь, не выдадим!
Наезды заводских нарядчиков каждый год выхватывали из ореховских дворов мужей, сыновей, отцов.
И бабы жалобились:
– Вот ташшат наших мужиков на завод, а мы, бабы, как хошь живи. Токмо вот на беглой народ и надёжа – потекут опять скрозь наши места, поработают за хлебушко. Уж вы поживите, голубчики!
Но беглецы торопились. Особенно волновался Сеньча.
– Нет, тетеньки, скореича надо… Сеять ведь на Бухтарме будем. Хоть поздно, а посеем!
Сеньча зашел в свою деревню и оттуда вывез свою жену Анку, молчаливую, уже сгорбившуюся до срока бабу. Сеньча стал будто лицом светлее и меньше ругался. Похлопывал свою Анку по сутулой спине и подмигивал:
– Ну, в-во-от! Весь я теперь, весь тута-а!
Анка оказалась хорошей помощницей: стирала для всех, чинила, варила уху, когда старые сети Сеньчи вылавливали юрких налимов и нежных хариусов.
Марею охота было повидаться со своими. Брать их с собой пока не собирался.
– Вот ужо в легкость как войду… так уж тогда возьму. Пока бы токмо поглядеть на них. Как девки-то? Старуха, поди, все глазыньки проглядела, меня поджидаючи.
Любил Марей говорить о своих, отходило сердце, когда отгадывал, что делают сейчас в курной избе на высоком берегу, где внизу нежится на солнце веселая река Бия. Пожилые женщины жалели Марея, молодайки и девахи – Степана.
– Ишь ведь испечаловался как! Крепко в себе домашность хранит, – говорили пожилые о Марее.
– Мужик-от важной, прямой мужик. Треплет человека завод-то проклятущий!
И ласково глядели женские сочувствующие глаза на темное Мареево лицо.
– Кушай, дедушка, кушай на здоровьицо! Чай, для пути силу надо копить.
Девки же тянулись к Степану – любы им были его невеселые серые глаза, широкая грудь, его большое сильное тело.
Уже не одна деваха, кормя ладного беглеца, работничка случайного, старалась нарочно ближе подойти, задеть круглым локтем или тугой грудью.
Некоторые девки просто предлагали себя красивому серьезному парню:
– Слышь, басенькой! Айда на сеновалочке тебе постелю да сказки приду сказывать. Хошь?
Одна, светловолосая, синеглазая, с певуче-звонким голосом, чем-то напомнила Вериньку. В избе той девахи Степан работал два дня, кормили хорошо, и девка была приветлива, посматривала умильно. Вдруг разбушевалось сердце Степана, мысленно обрядил он девку в роброны и оборки милой Вериньки, что остались в начальниковом доме. Так напоминала Вериньку синеглазая деваха, что хотелось коснуться ее, прижать к себе.
Но деваха вдруг разругалась с матерью и до того стала крикливой и некрасивой, что Степан со стыдом отвернулся от нее. А уходя из деревни, втихомолку каялся сурово:
– Никто до тебя не дотянется, Веринька! Родненька, прости меня, дурака!
Беглецов стала допекать новая забота: изнашивалась одежда. Рвется все в лесной глуши быстро: бойко цепляются за старый холст острые переплеты матерых хвойных веток и дикий шиповник.
На привале молчаливая Анка снимала со всех рубахи и, со вздохом разглядывая, жалобно покачивала головой:
– Ох, мужики-и!.. Знать-то, скоро голы ходить будете… Да и нитки у меня все выходят… И где возьмешь?
Аким Серяков исполнился почтения к тихой и задумчивой жене Сеньчи.
– Всем она словно мать. Когда рубахи чинить, никого, братцы, не отличат. Иной раз мужику своему напоследок изладит, а людям наперед. Баба правильная.
И Аким Серяков, как только увидел Анкину заботу о нитках, пошел на всякие хитрости, чтобы их добыть. За работу ничем не просил, кроме ниток, поясняя удивленным бабам:
– Ты, тетенька, заплати мне за труды ниточками. Во как они мне надобны. Ты не гляди, что я мужик… я… я чиню сам, я… все умею… Ты уж мне ниток-то дай!
Баба вытягивала из длинной пасмы крученую нить. Аким пробовал ее на зубах, моргал, жмурился, рядился с бабой, выпрашивая «на случай» еще одну – другую, клял свою беглую долю «во лесах и во горах» и доходил-таки до слабого места: как ни дороги нитки алтайской бабе, Аким получал еще. И торжествующе тащил их Анке.
– На! Сгодится, поди, на шитво-то?
Но нитки не спасали, одежда все больше снашивалась, приходилось идти в чем мать родила.
Как-то на привале вспомнился всем за ухой Евграф Пыркин. Вспомнили об Евграфе как надо: каждое слово, движение, вздох, походку, взгляд – все помянули, разобрали по-доброму, будто видя перед собой последние минуты Евграфа на Варварушкиной постели.
Сеньча вдруг вскочил на ноги.
– Слышь, робя! Айда в Поздеевку! Недаром ведь Евграф завещанье давал: заходи, мол, к нашим в Поздеевку… Айда, робя! Тамо кержачье, живут сыто-о!
Марей сказал раздумчиво:
– Зайти можно, только щепотью не крестись. Верно, двуперстным креститься доведется…
Василий Шубников махнул рукой:
– И-и! А кто знает? которое правильнее: то ли щепоть, то ли двуперстье? Токмо бы человек стоил сам… а чо мне, какой он веры? Я всяких людей на заводе видал. Другой раз татарин русского человека достойней бывает. А кержаки люди ядреные, почтенье любят.
Сеньча уверенно усмехнулся.
– Так и почтенье будет – мы робить горазды! Дайте, мол, токмо, люди христовые, оболокнуться по-человечьи… Неохота в легки места драным прийти. Вона Степанушко у нас рубаху сиять боится: как сымет, так она и полезет, словно паутина.
Посмеялись над Степаном. Правда, ободрался весь да и будто еще вырос на вольном воздухе: раздался в груди и плечах, загорел вплоть до ладоней, волосы, не сдавленные дурацкими мертвыми кудрями парика, стали гуще и буйной гривой вставали надо лбом.
Согласились все с Сеньчей – пробираться на Катунь, в кержачий поселок Поздеевку, где за работу и в память Евграфа Пыркина добудут себе одежду, и в вольготные места придут одетыми.
Марей же уговорился догнать их в горном селишке, откуда уж недалеко до Поздеевки, а сам свернул влево, опять к Бие, чтобы зайти в Орехово, повидаться со своими, отвести тоскующее сердце на короткой побывке, бросить в низкую избенку золотую надежду о легкой жизни на Бухтарме, наполнить радостным ожиданием четыре родных головы, наглядеться на них, и опять идти ему, старому, бородатому Марею, добывать легкость, привольные дни на бухтарминских лугах.
Шел Марей ходко и нашептывал:
– А туды вас всех перетянуть – мало дела… Пары лошадок добрых ужели не зароблю на Бухтарме? Будешь ты у меня, старуха, в сарафане китайчатом ходить… Девок замуж выдам по-человечьи, по-хорошему, а Серегу на песочек посадим, сиди сиднем, птицу в небушке слушай, а ноженьки грей – согревай… И-их, как ладно будет!
Шел Марей так ходко, точно земли под собой не слышал, – надо ведь выгадывать время. На узеньком мостике через Бию приостановился, прижав к сердцу большую костистую руку: дошел-таки!
Стал пробираться задами, боялся встретить ехидного старичонку Лисягина, ябеду и завистника.
Но когда перелез через плетень в огород, а оттуда во двор, что-то ударило больно в голову: на дворе было грязно, пусто, амбарушка настежь, ворота еле прихлопнуты.
«Старуха занедужила, а девки-то?» Ответить себе не успел, как столкнулся с бабой-соседкой. Она выходила из избы и несла в руках связку старухиных крашеных веретешек, которые выточил Марей как-то в позапрошлом году.
Не своим голосом он крикнул бабе:
– Ты што?
Баба присела и хлопнула руками о бока:
– Ба…тюш…ки! Откелева ты?
Марею вдруг показалось, что в веретешках кроется что-то страшно важное. Открытая дверь избы пугала.
– Ты куда с веретешками-то?
Баба сморкнулась и развела руками:
– А на чо их? Все едино пропадут… Кому их надоть?..
И тут, застыв на месте, узнал Марей, как черная туча с каменным дождем разметала жизнь его дома. Не прерывая бабы, слушал он про приезд попа, про Ксюту и ее ребеночка, про безумие и смерть старой Мареихи, про несчастную, изуродованную Лешкину жену и бесследно исчезнувшую Феню.
Бабе хотелось уйти – страшно было это окаменевшее мужское лицо, но Марей, будто во сне, дернул еще ее за рукав. Тусклым глухим голосом спросил:
– Парень-от… Серега… где?
Баба заегозила:
– Сынок-от?.. Ниче, батюшко, здоров, здоров. Ходим вот, навещаем, кормим… Ну, конешно, с краю хозяйство подъел сынок-от… Не робит ведь, а есть-пить охота…
Марей бросил равнодушно:
– Растащили вот все.
И, будто забыв про вконец ошарашенную бабу, кинулся в избу.
Так и поперхнулся на пороге: тяжкий, прогорклый дух стоял в грязной, серой от паутин избе.
С печки же глядели два острых, пылающих глаза. Рваное, волосатое существо вытягиваясь на руках, взвыло жалостно:
– Тя-тя-я!..
Марей – одним прыжком к печке. И на богатырские свои плечи принял трепещущего Сергуньку. Положил на пол, будто не узнавая.
Страшен был этот заморыш. Скверный дух в избе шел от него, убирать за ним было некому.
Сергунька лепетал, ревел, жаловался на всех, как маленький, голодный и одуревший от одиночества.
А сам чесался, и кровь брызгала из-под черных ногтей.
Отец, не отрываясь, глядел на перекошенное его лицо, и тяжелые, будто медные, слезы ползли по лицу Марея.
– Молчи, сынок… Изладим все…
Выбежал Марей во двор, набрал шепья, отыскал где-то ржавую корчагу, принес воды, затопил печь. В печурке нашарил обмылок и даже вскрикнул от радости.
Сергунька дрожал на полу и просил остричь волосы. Марей выстриг ему голову складным ножом.
Сергунька хлопал в ладоши и глядел на отца сияющими глазами.
Мыл Марей жалкое, изможденное тело сына, слушал сквозь кряхтение Сергуньки скорбную его повесть. Видел все Сергунька, а пальцем шевельнуть не мог. Рассказал Сергунька, как увел Лисягин вторую корову, а соседушки пошли по его следам и растащили все. Бросят ему, Сергуньке, хлеба черствого да воды в кружку плеснут – вот-де тебе еда, болезненькой, – а сами по пути прихватят, что под руку попадет. Жаловался Сергунька и трясся весь:
– Я баю: люди добреньки, братцы, ужли жалости нету-у?
– Нету, бают, нас кто жалеет, а?.. И ташшат… Поперли лесенку от печки. Я ору: господи-и! Можа, я спущусь когда отселева, чай, я не кошка, вниз башкой без лесенки не смогу!.. Умолил – оставили, да и лесенка-то шатучая.
Сергунькина вымытая рубаха сушилась на солнышке. Сидел Сергунька на лавке, стриженый, с поясневшим лицом, а Марей, рассеянно прибирая в избе, грозно глядел перед собой и говорил глухим, как из-под земли, голосом:
– Люди злы, словно волки люди… Страх платят попу да Лисягину-ябеде, а над попом ишо поболе попы, а над теми попами начальство заводское, а над начальством ишо кто поболе, а тамо цари… А мы вроде на самом донышке барахтаемся. Вот и лютеет человек от тяжкой жисти. А мы с тобой пойдем легкости искать, на то господь тебя мне и сохранил, сынушко!
Сидел Сергунька и светло улыбался, свеся с лавки тонкие немощные ноги. Мил он стал Марею, так мил, будто недавно родился: сразу прилепилась к его жизни захлебнувшаяся горем Мареева душа. Ныло все в ней, как рваная, кровоточащая рана. Кружило голову от быстрой смены мелькающих в памяти лиц: то родное, морщинистое, старухино, то цветущее Фенино лицо, веселое Ксютино и еще маленькое личишко, не успевшее даже увидеть света.
Но Сергунька, надевший выстиранную рубаху, улыбался так облегченно и сияюще, что среди горестной тьмы увидал Марей теплый, робко успокаивающий луч и сказал, гладя Сергунькину клочками остриженную голову:
– Уйдем отседова, сынок… Где вольготней, тамо и люди добрей, дойдем до легкости, волю увидим.
Сергунька сказал, весь светясь радостью и готовностью:
– А мы тамо бахчу заведем, а я заместо пугала буду сидеть, руками махать да птиц шугать: ш-ш-ш… жаднущие, не трожь отцовых трудов… Ш-ш!.. Испужаются птицы, и все будет цело… Верно, тять?
И в который раз подумал Марей – велик бог и еще милостив к нему, старому Марею.
Когда в избу зашли кое-кто из соседей, Марей соседей ни в чем не упрекнул, обошелся со всеми ласково и важно, сказал, что уходит на новые заработки, что бога благодарит – хоть Сер гунька-то остался! Он возьмет-де Сергуньку с собой, может, вызволит сына от надоедливой болезни.
Соседи сказали тоже по-хорошему:
– А ты, Мареюшка, утекай скореича. Лисягин, язви его, в лес уехал, так штоб шуму не было.
Марей успокоил:
– Ладно-ста, уйдем во времени. На добром слове спасибо.
До сумерек было еще далеко, когда Марей с Сергунькой на спине вышел из дому к реке.
Нес Марей Сергуньку на спине, подхватив под дряблые коленки, – и все казалось, что не к третьему десятку идет Сергуньке, а совсем он еще малый несмышленыш беспомощный, и с ним приходится Марею на старости лет жизнь начинать сызнова.
Шел Марей и тихонько читал две заветные молитвы, те самые, которые читал умирающему Евграфу Пыркину.
Начал Марей спускаться под гору, и дрогнули его ноги, и тут он ослаб. Присел на минутку с Сергунькой, вспомнив, что со вчерашнего вечера ничего не ел, ведь бежал, нигде не останавливаясь. Думал, что дома уж поест всласть, что покормит его родная старуха Мареиха, ан поесть-то и не пришлось.
Почуял Марей, как засосало больно под ложечкой, а от той силы, что вызволяла сегодня Сергуньку, точно отломился огромный кусок и упал в пропасть. Пришла искусительная мысль: вернуться, поесть, попросить у соседей, но Сергунька, потирая тонкие, вялые ноги, просил:
– Пойдем, тять, ходче… Боюся Лисягина… Шум подымет, мужиков взболомошит, опять оскалятся…
И вспомнил Марей, что ведь начал он жить сызнова, подхватил опять сына и пошел под гору.
Теперь только пройти мостик через реку. Марей смело поставил босую ногу на скользкие жерди. Стараясь не глядеть на быструю рябь реки, строго говорил сыну:
– Держись крепче да молися!
– Молюся, тять, во как…
Марей, плавно размеряя шаги, двинулся по мосту. Шел и молился нараспев, строго и ласково глядя на иззолоченно-голубое небо. С твердой покорностью, с неистощимым терпением глядел старый Марей в небо, на всю земную красоту и молился, смаргивая ресницами скупые мужицкие слезы.
«Заслаб я что-то совсем»… – И только успел это подумать, треснуло что-то внизу, поскользнулась нога.
В голове Марея молниеносно мелькнуло: «Жерди подломились!» И вдруг Марей по шею очутился в бурливой ледяной воде… Его ослепило брызгами, руки его разомкнулись.
– Сергунь! Сергу-унь!
Как во сне увидел: в белой пене шевельнулась клочкастая голова сына… В глазах его вода, рот перекошен…
– Тя-я…
Марей крикнул:
– Сынушко-о! Держися!
Но голова сына вдруг скрылась. Марей отчаянно завертелся в воде.
– Где ты? Господи милостивый, вызволи-и!
Вдруг показалась голова сына. Старик протянул руку, но схватил только бегущую струю.
– Сыно-ок! Отец небесный, вызволи-и!.. Помоги-и!
Он шарил руками на воде, нырял, звал:
– Сыно-ок!.. Сы-но-ок!..
Еще долго нырял Марей, как безумный, разглядывал зеленую муть речной глуби. Вынырнет, оглядится – и опять в воду. Сквозь страшный гул в голове еще шептал молитвенное:
– Выручи-и… Господи-и!..
Когда, наконец, выбросился Марей один головой на берег, и из разбитого о корягу виска его хлынула кровь, только тут понял он, что потерял Сергуньку навсегда.
Хватило еще Мареевой покорности на одну жалобу:
– Для смерти сыночка вымы-ыл… О-о!
Глянул он на безмятежное небо и вдруг дрогнул весь. Небо улыбалось, а Сергуньки не было. Мареева жизнь, начатая сызнова, вместе с подломленной жердью моста рухнула – в Бию. Он просил, молил, умилялся долго, терпеливо, он плакал!.. И просмотрел, что жерди подломились.
Вдруг показалось Марею, что насмешливо подмигнуло ему сияющее небо. И дохлебал он чашу своего терпения, вскочил на ноги, огромный, мокрый, с окровавленным лицом, страшный в гневе, и поднял к небу жилистые железные кулаки.
– Просил тебя?.. Молил?.. Где ты?.. Нету-у!.. Могу я эку меру вынести, могу-у?.. Будь ты проклят… проклят… проклят… и все твое! – в исступленье кричал старик.
Он мочил голову, унимая кровь, а сам с дикой радостью изрыгал хулу на бога, на беспощадную к нему жизнь и на это голубое небо.
Марей поднялся на берег, оглядел знакомый луг. Стреноженные паслись два коня. Рослые, сытые, блесткие, с крутыми боками. Марей узнал коней, захохотал гулко, во всю ширь груди:








