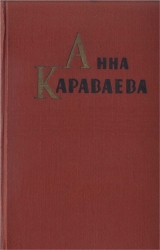
Текст книги "Собрание сочинений. Том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице"
Автор книги: Анна Караваева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 34 страниц)
Скоморох Афонька, осиротевший после своего брата Митрошки, и Алексей Тихонов, монастырский скорописец, рубили Ольге избу. Потом Алексей ушел, ему было некогда – целыми днями он писал грамоты в десятки городов, призывающие весь русский народ собирать ополчение и очистить русскую землю от врагов.
Рубить избу остался один Афонька. Его топор тесал и постукивал будто заодно с бойкой скоморошьей песней:
Ай дуду, дуду, дуду!
Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу…
Труба тесаная,
Перетесаная…
Маленький Данила Селевин слушал и стук топора и плясовой разлив скоморошьей песни.
Афонька поднял голову и подмигнул ему:
– Ух, ты… житель… Орленочек ты мой!
И Афонька скорчил такую лихую веселую рожу, что маленький Данила захлебнулся от восторга.
«Орленочек ты мой!» – повторила про себя Ольга. Да, только сын Данила остался у ней, только его и сохранила она. «Орленочек!»… Сказывают, орлы до ста лет живут. Длинная-длинная жизнь расстилалась перед этим вторым Данилой – он в упоении озирал ее начало.
Голуби, дружно воркуя, летали над стенами Троице-Сергиевой крепости. Могучие стены, сложенные клементьевскими и молоковскими мужиками, стояли нерушимо, глядя навстречу векам.
Легче голубей и ласточек летали воспоминания Ольги над оживающей землей.
«По гроб жизни я выручатель твой!» – вспомнилась Ольге клятва Федора Шилова земле родной осенним вечером 1608 года. А теперь новый, будущий выручатель земли радовался началу своего бытия.
Острокрылые касатки, сверкая белыми грудками, пролетели совсем низко, будто здороваясь с новым жителем села Клементьева. Данила Селевин замахал им ручонками, но тут чудная, опьяняющая младенческая усталь вдруг сморила его. Его пушистая, как одуванчик, светло-русая голова упала на грудь матери. Он спал, полуоткрыв жадные, улыбающиеся уста и свободно раскинувшись всем телом, маленький владыка земли, дитя человеческое. Ольга улыбнулась и прижала сына к себе. Стойкое сердце Данилы Селевина билось под ее рукой, кровь Данилы играла на щеках его сына, смелость Данилы росла в этом маленьком существе…
Солнце еще сияло и грело, но ласточки, мелькая острыми, как стрелы, крыльями, беспокойно и низко кружили над землей, предчувствуя первую весеннюю грозу.
1940 г.
ПОВЕСТЬ О ПРОПАВШЕЙ УЛИЦЕ
Случай в полденьЗнакомство мое с этой улицей произошло более тридцати лет назад. Но как сейчас вижу июньский полдень, беспощадное к пешеходам голубое эмалевое небо и равнодушно-суетливую толпу чужих, незнакомых людей.
Мы с матерью попали сюда случайно. Извозчик, который до отхода нашего поезда обещал нам показать «матушку Москву», высадил нас на Театральной площади и загадочно сказал:
– Отсюда все увидите. Тут вам красота всякая и снедь любая, расхорошая, такой нигде не сыщешь.
Действительно, мы очутились в царстве снеди.
Из-за зеркальных стекол смотрели на меня окорока, сыры, колбасы. Зернистая икра в бадейках, в лотках и на блюдах, окруженная изумрудной зеленью, сверкала, искушала, как черный бисер. И благоразумная моя мать поддалась искушению.
– Зайдем, купим, – сказала она решительно и толкнула дверь.
Навстречу нам засиял белый фартук – низенький, широколицый человек, семеня короткими ножками, вышел из-за прилавка.
– Чего изволите-с?
Мать сказала с достоинством:
– Четверть фунта зернистой икры.
– Чего-с? – переспросил он, обернув к нам красное, мясистое ухо. – Чего-с?
– Четверть фун…
– Эй, молодцы-ы! – зычно крикнул толстяк и хлопнул в ладоши.
Откуда-то из-за колбас и балыков появились еще четыре белых фартука. Коротконогий подмигнул им:
– Эй, ма-лад-цы!.. Кому хатится четвертку икорки сударыньке отвесить? Четвертку икорочки-и? А?
Мать заметалась, ища вдруг непонятно куда исчезнувшую дверь. Фартук и щекастая, рыжеусая голова гоготали нам в лицо:
– Таким весом не пробавляемся, барынька!.. Оптом торгуем, оптом, на сотни-тысячи, барынька!
Он захохотал, и все кругом – белые фартуки, багровые колбасы, круглобокие бадейки, – все загремело жирным утробным хохотом.
– Копеечными покупателями не занимаемся… Boot что-о, сударынька! – прохрипел коротконогий и толстым мизинцем смахнул со щеки веселую слезу. – Ма-ладцы, будя! Будя!
Рыжеусый фартук отошел в уголок, куда-то под плотные навесы колбас и окороков. Мы ринулись к маленькому подслеповатому стеклу двери.
– Сказали бы по-человечески. Мы ведь из провинции, не знаем… – выходя на улицу, обиженно сказала мать.
Рыжеусый вышел следом за нами. Вместе с другим молодцом он нес в рогоже огромную рыбину, похожую на корабельного покойника, зашитого вместе с островерхим колпаком. Рыбу бережно положили на плюшевое дно пролетки. Потом выносили что-то еще и еще. Сидевший в пролетке юркий, как уж, чернявый человек, в котелке и розовой косоворотке, подобострастно погладил рогожу:
– Балычок-то какой!
Потом осторожно обнял бадейку, поместившуюся рядом, и ткнул кучера-тумбу в пухлую спину.
– Пшел!
Пара серых в яблоках рысаков нетерпеливо, как пушинку, вынесла пылающий черным лаком экипаж на горбатые булыжники мостовой. Взвилось серое облако пыли, а рыжеусый все кланялся вслед.
– Господину Прохорову для пикника-с… – молитвенно бормотал он, широко улыбаясь, как копилка. – Прохорову… фабриканту-с… Приказчик это ихний… Меньше как на сотню-с не покупают-с…
Все так же отвратительно улыбаясь, он, пройдя мимо, громко щелкнул надо мной толстыми волосатыми пальцами:
– Так-то-с!
Я возненавидела его мгновенно, бешено, как умеют ненавидеть дети. Желание нанести ему обиду, во сто крат ужаснее нашей, охватило меня с такой силой, что у меня застучали зубы. Всего проще и скорее было убить его словом. На родной моей улице бранились свирепо и отпето, но мне вспомнилось почему-то только одно бранное слово: «образина».
Я затопала ему вслед, исступленно крича:
– Образина!..
Враг мой обернулся и бросил хладнокровно:
– Мала еще – не выходит.
Бурно и бессильно выплакавшись, я запросила пить. Солнце било мне прямо в глаза, лоб мой словно прожигала большая раскаленная пуговица.
– Пить…
– В чужом городе и не найдешь ничего, – сокрушалась мать. – И дороговизна такая, спросить страшно… Ну, ну, потерпи ты, ради Христа, не томи мне душу. Вон святые по сорок дней постились – и тоже без воды…
– Пить…
И вдруг, как по-писаному, откуда-то из глубины раздался пронзительно сладкий голос:
– А во́т квасу-у! Кому квасу!
Мы нашли ее, избавительницу, в полутемной скважине какого-то прохода. Ухмыляясь плоским, курносым, изрытым оспой лицом, она поднесла мне кружку с мутно-коричневым квасом. Только осушив кружку, я ощутила на языке противную горечь – квас был старый и донельзя кислый.
– Этакую гадость вы продаете, – отплевываясь, возмущенно сказала мать.
– За две-то копейки шаньпаньского захотела? – расхохоталась баба. У ней вдруг открылся и другой голос – зычный, раскатистый, как барабанная дробь. – Тоже покупа-атели-и…
Спасаясь от нее, мы вдруг попали в тесный, как колодец, двор, забитый бочками, ящиками, какими-то тюками. Пахло многолетней сыростью и плесенью, тухлым мясом, кислыми кожами, гнилой рыбой и еще чем-то, неопрятным, затхлым и нежилым. Мимо нас взад и вперед по выщербленным плитам двора ходили, толкались люди. Сторонясь и уступая дорогу, мы очутились около широко зевающей двери. Оттуда, из полутьмы, хлопьями летел пух. Одна такая пушинка очутилась на моей потной щеке, и я, скосив глаза, силилась разглядеть ее, легкую, точно живую, присосавшуюся ко мне тончайшими щупальцами. Сняв со щеки грязно-белый жгутик, я с отвращением бросила его наземь. И тут, подняв глаза, я увидела выходящую из-под синей вывески «Пух-перо» молоденькую девушку в белом ситцевом платье с розовыми горошинками. Она остановилась у порога, чистенькая, хрупкая, неловко переступая маленькими ногами в смешных башмаках с торчащими ушками. Ни у кого не видывала я таких хорошеньких веснушек и такой пышной, словно у дорогих кукол, русой косы, как у этой маленькой голубоглазой девушки. Только успела я об этом подумать, как вслед за девушкой появилась юркая, щуплая, как некормленая курица, старушонка в пестрой шали. Шныряя тускло-черными, как ягода черемухи, глазками, старуха суетливо убеждала в чем-то молчаливого хозяина лавки:
– Ваше степенство, скинь полтинничек. А? Ски-инь! Бога за тебя молить буду, чтоб тебе богатеть, чтоб тебе, много через год, мильонщиком проснуться!.. Ски-инь, ваше степенство, сироту ведь отдаю, на последние гроши снаряжаю…
Купец молчал, строго закрыв глаза.
– Ски-инь! Что тебе полтинник-то?
– А тебе что? – вдруг рявкнул купец и глянул на старушонку желтыми всезнающими глазами. – Жених ведь за все заплатит.
Старуха вцепилась в его рукав и оттащила в сторону, совсем близко от нас.
– Заплатит… – зашепелявила она беззубыми деснами, и единственный ее верхний клык, черный, отвратительно влажный, то и дело седлал синюю, сморщенную губу. – Он заплатит, – хихикнула старуха. – А только и женихову копейку беречь надо, чтобы не корил потом…
– Фу, тетенька, бросьте! – прервал старуху жених. – Платите, что полагается, да и поедем в трактир обед кушать. Да и непозволительно барышню томить. Платите-с, без церемоний.
– Благодари! – вскипевшим полушепотом сказала старуха, и коричневая, сморщенная рука ее с силой наклонила головку девушки. – Ну, благодари! Чего ты, ну!
Девушка молчала, прижав розовый подбородок к плечу и сгорбив спину.
– К ручке, к ручке подойди. У-у, тугоносая!.. – надрывалась старуха.
– Не надо к ручке, – сказал жених и потянулся к девушке. У него были темные, крошечные, как у нерпы, уши. Его вздутый живот в клетчатом жилете напомнил мне волынку, с которой однажды приходил к нам во двор старый чех, бродячий музыкант.
– Ну, улыбнись, капелька моя! – сказал он тонким дудочным голосом чревовещателя. Желтыми пухлыми пальцами диабетика он взял девушку за розовый, с ямочкой, подбородок. – А вот и не пущу, капелька! Улыбнись!
Длинная, узкая как щель, напряженная улыбка исказила ее миловидное лицо.
– То-то! – украдкой прошипела старушонка. – Сподобила-таки. Досталась ты на мою голову. У-у!
И она, согнув указательный палец, с неожиданной и хищной силой толкнула девушку в спину, да так, что несчастная невеста еле устояла на ногах. Троица направилась к воротам, а впереди ее очутился великовозрастный лавочный «мальчик», голенастый и неловкий, как гадкий утенок из сказок Андерсена.
«Мальчик», стараясь не дышать, вынес из лавки пухлую пирамиду подушек; голубая думка на ее вершине легкомысленно качалась, как бабочка на листке.
Старуха, словно заклиная, крестила подушки:
– Совет да любовь, совет да любовь…
Неразговорчивый хозяин «Пух-перо» сказал соседу:
– Счастье девке, голую берут.
Мне этого разъяснять не требовалось – жизнь не щадила моих детских глаз и ушей. На родной моей улице я видела, как девушки, вчерашние подростки, дочери слесарей, плотников и вдов-чиновниц с восьмирублевой пенсией, доставались хромым, лысым, дуракам и пьяницам. Последней на моих глазах вышла за гнилозубого бакалейщика наша соседка Настя, дочь кочегара на паровозе. Высокая, с пышной грудью, с малиновым румянцем на тугих щеках, она мыла полы для будущего торжества, но не пела, как обычно, а злобно и страстно приговаривала:
– Только начни он чепляться, так и зарежу, вот те крест – зарежу.
И я верила, что у Насти хватит силы зарезать. Но девушка в белом платьице с розовыми горошинками слишком хрупка, чтобы справиться с грузным, большим человеком, который, наверно, гордо сидит сейчас рядом с ней в извозчичьей пролетке. Своей тяжелой рукой он охраняет пирамиды голубых, как это равнодушное полуденное небо, подушек; легкомысленную думку, которая злит его, он сунул под мышку, как нашалившего котенка.
Девушка так и стоит перед моими глазами. Синяя вывеска «Пух-перо» противна мне, а владелец ее, похожий на монаха, с мочалистой бороденкой, кажется мне сообщником всех злодейств, какие только бывают на свете. Я тяну мать в другую сторону. Тут же рядом торгуют мясом. Здесь сильно пахнет кровью и падалью. Тучные черно-сизые мухи, одуревшие от сытости и от обильных возможностей плодиться на этой жирной, скользкой от крови земле, летают, трубно жужжа, нагло натыкаясь на всех и каждого. На пороге одной лавки низенькая толстая женщина, в засаленном тиковом фартуке, таскала за волосы лавочного «мальчика». Словно в задумчивости, она не спеша крутила на его голове пшенично-русые волосы и приговаривала хриплым, равнодушным альтом:
– Вот тебе, во-от… чтоб потом неповадно было.
«Мальчик», остроплечий, в больших опорках, вертелся и корчился, шипя, как гусенок.
– Мама, она ему волосы вырвет! Мама!
– Иди ты, иди… Господи, где тут выход-то?.. Этакое проклятое место!
Этот рыночный двор-ящик, кишащий лавками, кладовыми, ларьками, медяками, серебрушками, сальными бумажками, залитый кровью вспоротых туш, пропитанный запахами гнили и падали, одетый жирными мухами-трубачами, – двор этот, узкий, как жила, был цепок, как ловушка.
В узком проходе под каменной аркой мы застряли в потной, жарко дышащей толпе. Неизвестный покойник ехал в белом гробу под парчовым балдахином. За певчими и пролетками тянулись нищие и калеки. Хромые, слепые, колченогие, горбатые, с палками, на тележках, злокачественно-восковые лица худосочных и вздутые почерневшие лица закоренелых пьяниц, лохмотья, язвы, уродство, выставленные напоказ, – ползли, бежали, толкались, бесстыдно и уверенно заполнив собой улицу.
Мы пробрались на панель, но нас сразу выбросило к краю, и толпа всосала нас, как топь легковерного зайца. Какой-то нетерпеливый слепец больно ткнул меня палкой в ногу.
– Вот сейчас пойдут в церковь, и мы мигом выберемся, – ободряла мать.
И вдруг что-то произошло. Толпа шарахнулась вперед. Какое-то короткое слово пронеслось над головами, как обжигающий ветер, – бешеная одурь охватила всех. Люди выли мне в ухо, толкали, били меня коленками, локтями, подшибали мне ноги и несли куда-то, как мутный поток. Несчастный хромой, которому мать только что подала копейку, вдруг ловко снял деревянную ногу и, размахивая ею во все стороны, кинулся вперед с криком:
– На обед нашим билеты раздают!
Рядом истошно взвизгнула какая-то пухлощекая юродивица:
– А пироги-то с севрюжина-ай!
Она устремилась за деревянной ногой. Громко, как зверь, глотая слюни, юродивица больно ударила меня по плечу крепким локтем. Не успела я крикнуть, как уж на ее место протолкались чьи-то шляпки с птичками и цветами, чьи-то плоские, тонкие тела протиснулись, юлили, как ящерицы, и переговаривались воровато:
– Возьмем и мы, Олюша?
– Поспеть бы… Заливное домой возьмем…
Никто не стыдился превращений, как будто все стали одинаково голы, скверны и безобразны. Как бы исподволь раздразненные застоявшимися, как винные дрожжи, острыми, кислыми, жирными, плотскими запахами этой улицы, людские потоки двигались за добычей, за даровым насыщением, неумолимые, задыхающиеся от жадной слюны.
Когда мы, выбравшись из этой погибельной толчеи, очутились на углу, тела наши все еще ощущали сотрясения, толчки и удары, а сердца от страха стучали, как молотки, как будто нас чуть было не перемололо это огромное, ненасытное брюхо улицы.
А на паперти Параскевы-Пятницы все еще кипела свалка из-за билетов на заупокойный обед для нищих, блаженных, пропойц, бродяг и отбросов столицы.
Через два часа я, смотря в окно поезда, нетерпеливо считала версты: скоро ли, скоро ли я буду гулять в густых и тенистых северных лесах, среди мохнатых башен пахучей хвои, древних обомшелых камней и раскидистых папоротников? С признательным доверием я услышала дробные выстуки колес, мерное потряхивание стен и пола и позвякивание голубого чайника на столике. Мать рассказывала мне о машинистах, которые ночью ни на минуту не смыкают глаз, управляя паровозом, широкогрудым, гремящим, чумазым, испускающим дым, искры и бдительные свистки. Я засыпаю, полная доверия к этому неутомимому движению, и детская совесть моя радостно возбуждена: чем я могу отблагодарить их всех за то, что они везут меня в гости к любимому моему дедушке, к лесу, к болотцу с нежно-рыжей морошкой и светлому озеру, до того тихому, что кажется – вовсе и не вода это, а гладкий, отполированный до блеска прозрачный камень.
Даже самые сильные и радостные впечатления в течение всей жизни не могли окончательно стереть воспоминания об охотнорядском часе.
О соседе-путиловце, домах-антиподах и очкастой девушкеИ вдруг эта улица исчезла. «Вдруг» – это степень выражения чувств. Новый забор, шершавый и веселый, окружил плотным кольцом низкорослые рыночные дома, дворы, похожие на ямы, ларьки, кладовые. Из-за забора доносились глухие тяжелые стуки – охотнорядские дома ломали. Я взглянула вверх. Длинный чернявый парень, в старой кубанке с выцветшей макушкой, стоя на развалинах, целился ломом в обломок какой-то грязной, давно не беленной стены.
– И-их, ребятки-и! – зычно пропел он молодым грудным басом и ловко всадил лом в стену. Темнорозовые кирпичи вместе с сухой дранкой лопнувшей штукатурки рухнули вниз.
– И-их! – опять крикнул парень, и новая груда старого кирпича, цемента и щепок упала вниз. Белесая густая пыль летела чернявому прямо в лицо, оседала на его серой кубанке, а он, жмурясь и отплевываясь, разрушал весело и споро, – обломок словно растаял у меня на глазах.
Но я еще хотела наслаждаться этим зрелищем и посмотрела в щель. Да, Охотный ряд лежал предо мной в прахе и уничижении. Признаюсь: прежде всего я почувствовала, что за меня отомстили, – вот-де у меня против тебя, улица, старый «зуб», и вот тебя нет, и я торжествую, да!.. О, тонкий и хрупкий корень роста, корень первой ненависти, обид и познания, тяжести и ответственности того, что зовется жизнью. При пересадке взрослого растения среди сплетений корней можно отыскать тот основной корень, от которого зачался рост. Сила корня уже пошла вверх, в ствол, прямой и крепкий, в листья, в молодые побеги и потому самый крайний конец его бледен, тонок, почти как волос. Если его даже оборвать, дерево потери его не ощутит: корень этот уже не единственный, как было когда-то, а живет в содружестве с целой сетью разветвлений. Так и я: посмеявшись, отбросила в сторону этот тонкий корешок детской обиды, когда-то с такой силой переполнявший меня. Но она не только мучила меня, а кое в чем даже помогала мне: не она ли напомнила мне о том, что город, улицы действуют на существо наше с такой властительной, очаровывающей или отталкивающей силой, что только солнце, воздух и ветер могут соперничать с ней.
Мне вспомнился знакомец студенческих моих дней, старый путиловец, сосед в «общем» коридоре старого питерского дома.
– Не лежит душа моя к Невскому проспекту, – говаривал путиловец, хмуря лохматые сизые брови. – То ли дело Васильевский остров, Шестнадцатая линия или тебе Малый проспект, – тут дома и заборы под стать нашей жизни. А Невский – то не про нас прописано, там нашего брата только еще вольготнее за шиворот хватать.
В праздник путиловец снимал со стены облезлую гитару. Пристукивая каблуками, он выходил в тесный, «общий» коридор серой петербургской квартиры. Он плавно шевелил широкими плечами, лихо щипал старые расстроенные струны и еще звучным баском молодцевато напевал прибаутки, побаски, и песни, свадебные, игровые, дорожные. Одну он особенно любил:
Палочка-путляночка,
Сума-перемет,
Уж где наша не бывала,
Уж где наша не страдала,
Все равно наша возьмет!
Мы ребята молодые,
Ходоки мы удалые,
Хоть и пуля в нас пальнет.
Все равно наша возьмет!
Напевшись до устали, он с большим достоинством извинялся перед каждой соседской дверью.
– Прошу зла на меня не иметь, – сами знаете, душе излиться негде: хороша улица – Невский, только для нашего брата зубаста…
На тему о Невском проспекте мне с моим соседом подробнее поговорить не удалось, но чувства его я представляла без особого труда – по сходству.
До сих пор помнится мне горячий золотой полдень «бабьего лета». В толпе полуденная жара ощущается еще сильнее, но уходить домой не хочется – так великолепны эта зелень и цветы за высокой новешенькой решеткой, белой, узорной, как кружево. Еще никогда не виданные в нашем городе лавровые маленькие деревца, круглые, как мячи, гордо стоят в дубовых кадках вокруг фонтана, бьющего из колчана мраморного пузатого амура. Сквозь эту подвижную алмазную сетку виден дом, который мне, подростку, напоминает маленькие уединенные дворцы королевских фавориток из романов Александра Дюма. Две широкие пологие лестницы спускаются в сад, охраняемые с обеих сторон статуями, голыми, чистыми и строгими, как судьи. Среди этих беломраморных тел я узнаю Венеру, царственно и стыдливо прикрывающую рукой несравненную грудь, стремительную Диану-охотницу с убитым козленком за прекрасными плечами, легконогую Психею с пленительным пучком растрепавшихся волос на затылке и крылышками за спиной; я узнаю величавую Мельпомену с маской в опущенной руке и Терпсихору, застывшую в восторженном прыжке. Кажется, вот-вот сбегут они вниз, под прохладные струи фонтана, и неутомимая богиня танца легче серны пронесется первая.
Этот маленький дворец принадлежит первой богачке города, пароходчице Коробовой. С дома только недавно сняли чехлы, и вот – роскошное создание столичных архитекторов – дом гордо встал на углу главной улицы. Таких домов в наших краях еще никто не строил, и потому весь город ходил смотреть на него.
Вдруг на лестнице появилась приземистая женщина, вся какая-то пестрая, широкая, растрепанная, как большой рыхлый узел с тряпьем.
– Ва-аня-я-я! – крикнула она зычным контральто. – Ва-аня-я-я!
– Тута я, Лизавет Иванна, тута я.
Высокий круглолицый парень с черными курчавыми усами, в белом садовничьем фартуке и в франтовских сапогах с лаковыми голенищами спешил к хозяйке.
– Что-с прикажете, Лизавета Иванна?
Хозяйка с грубой лаской шлепнула его ладонью по широкой спине.
– У-у, ты… оглашенный… Песок-то привезли?
Она была отовсюду видна, нелепая, разбухшая, как перина. Ее измятая и грязная оранжевая шелковая шаль, наброшенная на выцветший ситцевый капот, ее расшитые «золотой ниткой», но такие же неопрятные шлепанцы, ее небрежно зашпиленные на затылке белобрысые волосы, плоский в веснушках нос, мясистое лицо с грубо отвисшей нижней губой – все это было непереносимо и оскорбительно до предела. А она, будто никого не замечая, принялась бранить садовника за то, что он переплатил за песок какие-то копейки. Потом, переваливаясь, как жаба, пароходчица подошла к диванчику, похожему на большую веерообразную раковину, нажала на кнопку – и радужный зонт с мелодическим свистом поднялся над ее белобрысой головой. Открыв рот, еще не остывший от бранных слов, пароходчица принялась щелкать орехи. Она во все стороны бросала скорлупу, неопрятная, вызывающая, как бы говоря каждым своим движением: «Мое! Что хочу, то и делаю… Мое!»
За ней наблюдали с обостренным вниманием, которое с каждой минутой все сильнее переходило в злобу. Слово за словом припоминали, как десять лет назад покойный Коробов сжег и потопил (сотни людей погибли!) один из старых своих пароходов, дрянную посудину, за которую ухитрился получить огромную сумму страховых. Припомнили и другие аховые дела: Коробовы оттягали наследство от племянников-сирот и выгнали их из дома. Они же, Коробовы, высудили пенсии и пособия у вдов сорока грузчиков, погибших на спешных ремонтных работах в затоне. Уже будучи вдовой, Коробова сумела «заручить» на свои береговые склады тысячи сажен дров казенного лесничества, напоив плотовщиков. Очнувшись, бедняги пробовали было разоблачить обман, но были чуть не до смерти избиты, а двое «старших», главных ответчиков перед казной, в тот же день повесились в конюшне на постоялом дворе.
Припомнили также давние и упорные слухи о том, что сама Коробова, рыбацкая дочка, в молодости не однажды «подрабатывала» на ярмарке в Нижнем, там и женила на себе старика Коробова. Говорили, что он умер «во благовремении», так как она при помощи своих «дружков» от нетерпенья могла бы очень ловко помочь ему «убраться» раньше срока. После смерти мужа, став от пьянства и обжорства рыхлой и безобразной, она приблизила к себе – об этом знал весь город – бывшего своего грузчика, «кабацкую головушку», Ваньку Окуня, который «для виду» числился садовником. Кто-то начал злорадно пророчить Ваньке «хозяйскую власть», а другие продолжили: если у Ваньки «власти» не будет, чего доброго, однажды глухой ночкой задушит он свою благодетельницу, ухватит некую толику, прокрадется по черной лестнице – и был таков. А потом по парадной лестнице вынесут тяжелый купеческий гроб. Нетерпеливые родственники и следственные лица пойдут в первых рядах пышных похорон с архиерейским хором и прожорливой оравой нищих.
Дому же предрекали позор и гибель, он был ненавистен, гадок, несмотря на своих богинь и фонтаны. Он был неотделим от всей этой жестокой, пропахшей кровью и потом силы денег. Эта сила бесстыдно выражала себя в виде растрепанной бабищи, которая сидела под радужным зонтом, как наглый и дурацкий идол.
Вдруг, повернув голову к своему садовнику, она сказала ленивым и добрым голосом:
– Пыли-то, сору-то сколько к дому нанесли… Как ты и терпишь, Ваня… Ох-хо…
Ванька Окунь, безгласно зверея румяным черноусым лицом, шагнул куда-то в сторону – и вдруг, перебросившись через кружевную решетку, в толпу ударила упругая струя холодной, как лед, воды. Толпа рассыпалась. Многие бросились бежать, как будто их предали. И, оглядываясь на мокрые камни враждебной улицы, все проклинали это разбойничье гнездо, призывали на него позор, разорение, огонь, все бедствия мира.
Через четверть века я в группе людей стою под стенами нового дома. Люди, закинув головы, смотрят вверх и потом, улыбаясь, трут себе шеи: ничего себе домик! Одиннадцать этажей со стороны Охотного ряда да четырнадцать – с улицы Горького…
– Чтобы на такую гору подняться, сколько сот ступенек надо прошагать?
– А шагать-то зачем? Вот чудак! К твоим услугам будет целая серия лифтов.
– Ну и высотища, братцы!
– Это мы только сейчас удивляемся, а вот погоди, как дома в двадцать-то пять этажей строить будут!
Усмехаясь, я вспомнила оторопь российской провинции перед купеческим Трианоном. На него сейчас посмотрели бы мельком, а то и совсем не заметили бы. Да и те школьники, или вузовцы, или служащие какого-либо треста, которые находятся сейчас в бывшем коробовском доме, даже и не подумают хоть сколько-нибудь изумляться ему: вокруг них старые русские города тоже расправляют плечи, чистятся, украшаются. Многоэтажные дома возникают на месте пустырей, домиков с мезонинчиками. А может быть, бывшего коробовского дома больше и нет на свете. Молодые планировщики и архитекторы, мечтающие не о компромиссах, а о решительном изменении городского пейзажа, посмотрят на это купеческое рококо и, не задумываясь, вынесут ему приговор:
– Чертовски мешает, да и ценности никакой: игрушка, кондитерское изделие.
И новый городской пейзаж, рослый, просторный, с площадями и широкими улицами, с пышной зеленью скверов и парков, пойдет в наступление. Он обоснуется вокруг тех мест, где совсем бесполезно скучали на полукруглой лестнице богини и музы и где, потешая стрелами своего любовного колчана белобрысую Коробиху и ее Ваньку Окуня, выбрасывал веселые струи фонтана ожиревший амур.
Но только ли в размерах дело? Какие-нибудь Рябушинские. Коноваловы и Терещенки, не произойди Октябрьской революции, «сгрохали» бы «собственный небоскреб» – не отставать же «от людей». И отчего-де, черт подери, «раз в жизни» себе не позволить?.. Уж как бы и где бы торчало сие сооружение, одинокий дом-верзила, – гадать мне не хочется, просто каждый метр его стены орал бы: «Хочу – и есть такое дело, и мы не хуже людей, и мы с небоскребом-с»..
«Нет, не в размерах только дело», – думаю я, взирая на каменную громадину. И не в стиле только, и не в выражении только. Дом чист. Ни зависть, ни собственнические вожделения, ни злоба, ни проклятья не оскверняют его. Он чист. Он не служит кому-либо одному, обогащая его и усиливая его власть над людьми. Дом возникает предо мной как часть общего жизненного плана, в который включена и моя жизнь.
Вот и сбылась твоя дорожная песня, путиловец… Если и нет тебя на свете, дети твои вспоминают ее соленый задор и дерзкий припев: «Наша возьмет»… И вот оно, твое «наше взяла», старый сосед моей юности…
Не может быть никакого сомнения, что ты совсем иначе отнесся бы к этой улице, не так, как в свое время к Невскому. Прежде всего ты одобрил бы работу истории, завоеванной тобой, детьми твоими и братьями по труду и битвам.
Вот сквозь ребра лесов уже проступают очертания мощных площадей дома, его перекрытий, бетонных столбов, будущих галерей, балконов и башен; а одиннадцатиэтажный фасад, занявший всю линию бывших охотнорядских лавок и лабазов, уже готовится, как в песне поется, «показать лицо свое белое»… Да, вот оно такое и есть… Белые гладкие мраморные плитки, теплые под солнцем, как ладонь ребенка, покрывают его стены. Видишь белую колоннаду над Москвой на высоте одиннадцатого этажа?! Поднимемся туда. Небо так и хлынет на тебя со всех сторон. В просветы колоннады небо несется навстречу голубизной такой силы и прозрачности, что кажется, тебе стоит только руку протянуть и схватить его, как плод с ветки.
Мы смотрим вниз, на Москву, в самом разгаре ее рабочего полдня. Люди движутся, сходятся, рассыпаются, как фигурки в мультипликационном фильме. За круглым, как пятачок, сквериком скромно притаился похожий на детскую копилку Большой театр, а над его фронтоном позеленевший мальчик Аполлон с волшебной своей колесницей. Да и сама площадь Свердлова отсюда мала и тесна, как блюдце, – здесь, на просторе, даже удивительно смотреть, как распутывается эта сутолока человеческих толп, трамваев, грузовиков, троллейбусов, автобусов. Отсюда мечтается о завтрашней Москве как об одном из вечных городов мира. Уже совсем недалеко то время, когда Москву будут не только славословить по обычаю международной любезности путешественников: она будет сниться во сне, как бессмертные создания великих мастеров. Ее обширные площади будут восхищать, как величественные озера, которые могут держать на себе большие суда. Ее широкие прямые улицы, от конца до конца братски поделившие между собой зелень, цветы и архитектурные красоты, будут возникать в сознании, как благородные символы и образцы равенства и справедливости.
Посмотрим же на эту старую улицу, которой назначено быть улицей-стрелой. Спустимся вниз и пройдем вдоль этого могучего гранитного цоколя. Мы увидим, как властно вычерчена эта прямизна. Эта даже сквозь строительную пыль блистающая полоса черного камня под цоколем словно перечеркнула все «наслоения веков» на этом бойком и тароватом месте. Где, например, было расположено то коммерческое логовище, где икру продавали «только оптом»? Где стоял охотнорядский молодец, которого я так яростно возненавидела тогда? Где находилась угрюмая лавка «Пух-перо», около которой страдала бедная сирота в ситцевом платьице с розовыми горошинами, девушка с русой косой и милыми веснушками? Где стояли эти пропитанные кровью и жиром, иззубренные, избитые топором огромные пни-плахи мясных лавок, около которых дебелые, богобоязненные хозяйки без пощады лупили лавочных мальчиков? Где находились лабазы и кладовые с их толстыми, окованными железом дверями, ржавыми, хрипло поющими затворами, за которыми мне чудились мрачные тайны замка Синей Бороды? Где стояло то и это? Не помню, решительно не помню… Воспоминания детства не так уже могущественны, как мы иногда предполагаем…








