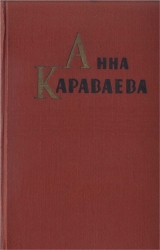
Текст книги "Собрание сочинений. Том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице"
Автор книги: Анна Караваева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 34 страниц)
Симон презрительно фыркнул и еще быстрее заходил по келье.
– Ино для любочестия своего тщуся?.. Для людей, для потомков наших. Пусть не хотят напечатать летопись мою – не пропадет содеянное для человека… Помирать стану, тебе передам, а ты кому другому, а тот, – ишшо кому верному человеку.
– Дойдет! – закончил Симон, и его твердые бледные губы еще упрямее сжались. – И будем мы с тобой оберегати мир наш украсной, любомудрой…
Симон Азарьин хотел еще что-то сказать, но за стенами кельи грохнул выстрел, и эхо чудовищным лаем раскатилось во все стороны. Под окном кельи кто-то зарыдал страшно и безнадежно, кто-то взвыл с нечеловеческой силой – и стоустый неумолкаемый вопль забился о стены кельи.
Склянка чернил, стоявшая на подоконнике, подпрыгнула и упала на пол, разбившись вдребезги.
Симон Азарьин и Алексей выбежали на улицу. Навстречу им уже несли убитых и раненых, истекающих кровью.
Симон Азарьин и Алексей подняли раненого и понесли в больничную келью. Едва успели они сдать раненого на попечение старца-лекаря, как в дверях появились новые носилки с ранеными. До позднего вечера келарь Азарьин и Алексей носили, перевязывали, утешали, провожали умирающих «в мир иной» – и оба забыли о своем любомудром, блаженном мире.
Глубокой ночью Симон Азарьин записывал в своем летописном своде:
«В честном бою ныне преставилися: Сила Марин Коширянин, ранен на Конюшенном пруде и от тае раны умер, в иноцех схимник Силуян.
Афанасий Ребриков, ранен и от тае раны умер, в иноцех схимник Антоний.
Иван Ходырев – Олексинец, Василий Зубов, Степан Лошаков, Петр Ошутков… на месте убиты были, защищая стены града сего».
«…Войско плавало в изобилии: нельзя было надивиться, откуда бралось такое множество съестных припасов, всякого рода скота, масла, сыру, муки, меду, солоду, вина; даже собаки не успевали пожирать голов, ног и внутренностей животных… Польские солдаты готовили для себя кушанья из наилучших припасов, а пива так много забрали от крестьян и монахов, что его некуда было девать: пили только мед».
Мартин Бер. «Летопись Московская», гл… VII. «Сказания современников о Димитрии Самозванце»
Лазутчики доносили воеводам, что во вражеском стане все говорят о решительном бое, который обрушится на стены крепости, «аки смерч огненной». Однако серьезной подготовки к бою, по словам лазутчиков, в польском лагере не замечалось. Зато там ежедневно шли пиры. Польско-тушинские начальники ходили в гости из одного разукрашенного шатра в другой, а музыканты и трубачи играли с утра до ночи. На больших кострах жарились бараны и быки, в больших котлах варились щи и каши, бесчисленные кухарки и поварята варили меда и браги, которые пахли так сладко, что от одного только запаха, по рассказам лазутчиков, «в головах изделалося кружение».
Как ни старался воевода Роща-Долгорукой держать все военные сообщения «в тайности от ушей досужих», каждая весть тут же становилась общим достоянием. Воевода проклинал «велию тесноту людскую», которая не давала ему возможности уединиться в кругу особо доверенных советников и подчиненных. Вести о богатой и сытой жизни у поляков порождали уныние как среди монастырских властей, так и среди народа. Стали поговаривать, что монастырские кладовые скоро оскудеют без привоза из деревень, что уже сейчас кашу раздают еле помасленную, а щи почти пустые, а потом будут кормить еще хуже.
Князь Григорий ненавидел врагов еще и потому, что пылал к ним завистью военного человека, – эко богато да вольготно живут, расположились вокруг стен монастырских со всевозможными для наступления выгодами.
– А мы здесь во стенах пленены, заперты, яко шубы в сундуке, – не выдержав, пожаловался однажды князь Григорий Борисович пушкарю Федору Шилову. – Да и людишки всюду толкутся, яко, прости господи, бесы перед светлой заутреней… Приступают к душе моей, без них и дышать не можно…
– Тому не дивись, воевода, – сказал Федор Шилов, – у тяглого народа и домы и малой его достаток в лихолетье изгибли. Горестные, огнем палимые, стены сии для них всех домом стали… наш кров, надежда наша. Да и судьбина-то наша туто же обретается: коли отобьемся – живы будем…
Воевода про себя признал, что пушкарь рассудил правильно: «ясная головушка у мужика сего».
Он уже не ошибался теперь и знал, что Федор Шилов здешний, клементьевский тяглец, который, вдосталь поскитавшись по заморским странам, не добыл себе лучшей доли и остался мужиком-тяглецом. И все же, наперекор себе, своим мнениям и привычкам, князь Григорий Борисович втайне уважал Федора Шилова.
Исподлобья воевода следил, как Федор чистил пушку «хвостушу». Сильным и точным движением пушкарь засовывал шуст – железную развилку – внутрь пушечного ствола и так же ловко вытаскивал обратно. Воеводе как военному человеку нравилось, что «старшой пушкарь» всегда при деле, но не нравилось, что пушкарь был слишком понятлив и работал, словно и не нуждаясь в воеводском приказе.
Глаза Федора Шилова, умные, соколиные, его неторопливая речь действовали на заслонников подчас сильнее, чем властные окрики воеводы. Он распоряжался людьми, словно даже не заботясь об этом; он заражал их своей тревогой за «осажденный град сей». И без малого все, кто стоял близко к нему, брали пример с него. Силач Данило Селевин и другой такой же великан Иван Суета, Петр Слота, служка Корсаков – бывший рудознатец, Никон Шилов, стрелецкий голова Василий Брехов и многие другие – все они преданные друзья и подражатели Федора Шилова. Да, было в Федоре Шилове и много «страховитого» для боярского глаза, но в то же время в дыму боевом на кого в первую голову можно было надеяться? На Федора Шилова и «присных его». Да, что там говорить, в сложное положение попал князь Григорий Роща-Долгорукой. И не выйти и не выехать отсюда – заперт, как мышь. Ох, царь Василий, царь Василий!
А Федор уже обиходил новую скорострельную пушку, называемую «индрог».
– Гляжу я, – колко усмехнулся воевода, – ходишь ты за пушками, яко пестунья за малыми детьми!
Федор и бровью не повел.
– Дети без заботы о них долго не научатся, боярин, ходить, и пушки наши без заботы о них не станут стрелять.
Внизу во дворе вдруг зашумели. Шум все приближался. Федор Шилов пошел посмотреть, что случилось.
Едва он спустился с верхнего боя во двор, как увидел перед собой буйный клубок многих сплетающихся и отбивающихся тел. Кого-то хватали, кто-то вырывался. Среди кучи орущих и обозленных лиц Федор увидел знакомую русую бородку и в рябинках лицо Никона Шилова.
– Эй, Никон! – крикнул он, ничего не понимая.
– Подь сюды! Держи шептунов! – возбужденно отозвался Никон.
Федор вмешался в толпу, и руки его сразу натолкнулись на чье-то отчаянно отбивающееся плечо. Он сдавил его – и встретился с раскаленными злобой черными глазами Осипа Селевина.
– Пусти!.. черт, сатана! – хрипел и дергался Осип, но веревка уже обхлестнула его плечи.
– К воеводе его! К воеводе! – гомонила толпа.
Осип сначала выкручивался, но, почувствовав, что из железных рук уже не вырваться, сразу увял и поплелся, как пьяный.
– Стыдоба тебе, рябая харя! – бессильно зашипел он на Никона Шилова. – На свадебном пиру моим вином упивался, а ныне меня, яко вора, воеводе предаешь!
– Зажми уста поганые! – возмущенно заговорил Никон. Он вышел вперед, поднялся на верхний бой и начал рассказывать воеводе: – Я его, Селевина Оську, во зле уличил! Ходил он средь людей и нашептывал: с голоду-де мы вскорости подохнем, уж краше бы нам ворота отворить да врагам нашим смириться… – У-у, подлой! – и Никон, не выдержав, сунул кулаком между Оськиных лопаток.
Оська оскалился и прохрипел:
– Эй, воевода, развяжи меня!
– Нет, ты постой-кась, молодец! – остановил его князь Григорий, и его заплывшие глазки грозно засверкали. Он сдернул с головы богато расшитую мурмолку и, дав волю гневу, хлестнул ею по черномазому оскаленному лицу. – Кто тебя учил, пес поганый, такие речи говорить?
Но Осип вместо ответа вдруг закричал во все горло:
– Отче Макарий! Отче Макарий!
Старец Макарий остановился и удивленно взмахнул короткими руками, увидев своего любимца связанным. Оська истошным голосом стал вопить, что он невинен, что его оболгали. Он клялся «мощами нетленными отца нашего Сергия» и успел-таки дотянуться губами до мясистой руки старца и раболепно облобызать ее. Старец приказал:
– Сымите путы с него.
– Господь с тобой, отче! – разбушевался воевода. – То смутьянин, прелестник… надобно его в башню запереть!
– То наш верной радетель! – отрезал старец и сам очень ловко развязал узел на Оськиной спине и милостиво приказал: – Налагаю на тя епитимию [98]98
Церковное покаяние.
[Закрыть]на месяц, по сорока поклонов ежедень. Поди к отцу Тимофею да, благословись, начни покаяние свое.
И старец важно подтолкнул Осипа в спину. А монастырскому «радетелю» того только и надо было.
К отцу Тимофею Оська шел веселехонек. С этим иноком у него были свои дела: Оська для отца духовного добывал то лукавую посадскую женку, то вина заморского, а Тимофей подбивал старцев на выгодные для Оськи поручения.
Тимофей, в миру приказный дьяк Кузьма, был сначала сослан в монастырь за «казнокрадство и блудодейство», потом там же пострижен в иноки. Это был красивый дородный монах в черной атласной рясе, его длинные коричневые глаза плутовато жмурились, а тугие пухлые губы краснели, как малина, из-под курчавых каштановых усов.
Отец Тимофей деловито благословил Оську и назначил ему икону и час, «когда надобно поклоны бити».
Когда после свидания с Тимофеем Оська проходил сенями, чья-то горячая рука ласково шлепнула его по щеке. Перед ним стояла Варвара-золотошвея. Она так и сияла парчой, богатой поднизью [99]99
Поднизь – жемчужная сетка, прикреплявшаяся внизу женского головного убора.
[Закрыть], новыми сафьяновыми сапожками и будто еще раздалась в в теле.
– Эко! Свашенька! – обрадовался Оська. – Ягода, ягода, не видал тебя два года!.. Аль Диомида по шеям?
– Да ну его! – хихикнула Варвара. – Больно труслив да хлипок у себя баб прятать.
– А Тимофей того страху не ведает?.. А душу спасать, богу-господу молиться ты, свашенька, отцу Тимофею в том, чаю, немалая помеха?
– А мы купно молимся, купно, единою душою! – опять хихикнула золотошвея, прикрывая смеющийся рот пухлой рукой, украшенной перстнями.
Оське стало совсем весело. Больше всего он любил общаться с людьми, которые были с ним одной породы, которые не требовали доверия и уважения к себе.
Оська отбивал поклоны в Успенском соборе перед темноликой «троеручицей».. Один глаз ее наклоненного вбок лица пришелся выше переносицы, а другой, меньший размером, лежал на щеке – и казалось: троерукая богородица лукаво подмигивает, как Варвара-золотошвея.
К вечеру стрельба прекратилась, и слышно было, как в польско-тушинском лагере играет музыка. Оська ловил ухом веселые, словно приплясывающие звуки, и ему хотелось дрыгнуть ногой, щелкнуть пальцами, стукнуть чаркой о чарку, полную ароматной мальвазии. Когда, отбив свои сорок поклонов, Оська вышел под вечерние звезды, его чуткий нос услышал запах пира. Это был любимый Оськин запах сладковатой пригари, когда под калеными языками огня свертывается и запекается мясо. Ему показалось, что вся жизнь в польско-тушинском лагере пахнет жирной убоиной и пьяным соком вина и браги. Он вспомнил, что с двадцать третьего сентября, как вошел сюда, не ел мясного. Рот его наполнился голодной слюной, сердце защемило от зависти. Жизнь, звенящая легкой деньгой, брызжущая жиром и медом, кипела за стенами, а он, удачливый «гость», ловкий умелец торжищ, стоял здесь в темноте, как нищий.
Еще недавно трепетала в руках его купленная, насильно приведенная в дом его красотка Ольга, но и над ней у него уже не было власти. Потеряв в пожаре дом, сундуки, полные добра, потеряв и все торговые связи и дела вольного и балованного монастырского «гостя», Осип Селевин словно весь иссяк, стал как выпотрошенный, сила его осталась за стенами монастыря. Ему вдруг стало холодно и одиноко, захотелось прижать к себе безвольное плечо Ольги. Полный нетерпения и надежды, Осип пробрался к своей телеге, пошарил под самодельным навесом, накрытым шемаханским ковром, и нащупал холодные подушки. «Нет, не воротится она ко мне!» – подумал он, скрипнув зубами, вполз под навес, укрылся зипуном и злобно заскулил, как лис, попавший в капкан.
Двенадцатого октября утром Данила Селевин вышел из больничной кельи. Раны его почти зажили.
Данила долго искал Ольгу и нашел ее в Успенском соборе. Она стояла на коленях, низко надвинув платок на глаза и прислонившись плечом к тяжелому медному подсвечнику, закапанному воском.
– Ольга Никитишна! – радостно шепнул Данила.
Она вскинула на него большие, испуганные глаза – и только сейчас он заметил, как она осунулась и побледнела за эти дни.
– Ольгунюшка, светик мой! – и Данила почти вынес ее из мрачного собора. Он взял Ольгу за руки и держал их крепко, стараясь разгадать выражение ее опущенных глаз. – Алой цвет мой, может, я что неладно сказал, покуль огневица меня ломала? Молви же словечко, не томи…
Ее пальцы дрожали в его руках, как птенцы, выпавшие из гнезда.
– Аль не люб я тебе, Ольгунюшка?
– Люб… люб… – горячим шепотом ответила она – и вдруг глянула на него раненым, полным слез взглядом. – Люб… да бог не судил… греха, греха-то что берем на душу… не замолить!
Выпустив ее руки, Данила посмотрел вслед Ольге, не осмеливаясь догнать ее.
– Эко! Чаяли, хворому вскресу не будет – ан молодец встал, до облак достал! – раздался вдруг голос Федора Шилова, и пушкарь весело обнял Данилу.
– Дай-кась и я, голова стрелецкой, заслонника дорогого обойму! – и Василий Брехов обнял Данилу длинными сильными руками. – Ну, могутной молодец, ко времени от болестей отошел – враги ныне опять ворошатся, чают нас побить.
– Бесстыжего гостя надобно из избы дымом изгонять! – ответил Данила, расправляя плечи.
К вечеру загремела польская «трещера», и вслед за ней начали палить все шестьдесят вражеских пушек.
Утром, после того как приступ ляхов был отбит, воеводы приказали очистить стены «от всякой погани», оставшейся на стенах верхнего боя после рукопашной схватки с ляхами.
Измученных пушкарей и стрельцов сменили добровольные заслонники – осадные сидельцы, все те, кто сначала искал защиты у стен монастыря. Приближение воровского войска открыло ворота монастыря этим людям, и они стали его защитниками. Воевода приказал навести порядок на стенах после боя. Осадные сидельцы начали сбрасывать со стен вниз «всякую погань» – военные трофеи: копья, мушкеты, сабли, кинжалы, латы, шлемы, плащи, конфедератки, расшитые пояса, железные и кожаные перчатки, кошельки с золотом, серебром и медью…
Внизу, на дворе, выросла целая гора трофеев. Несколько жадных рук потянулось к деньгам. Чья-то длинная, обросшая густым черным волосом рука, словно волчья лапа, загребла целую горсть золота и только хотела было скрыться, как другая, короткопалая, осыпанная рыжими веснушками рука схватила ее и крепко сжала.
– Ой, погоди-тко!.. Золотце, да не для молодца! – прозвенел чей-то дурашливый голос.
– Пус… сти… Дьявол! – и взлохмаченный инок кабацкой Диомид поднялся во весь рост, силясь отбросить от себя маленького человека в засаленном тулупчике.
– Ты?! Скоморошья харя!.. – рассвирепел Диомид, чувствуя, что и на другой его руке повис кто-то. – Да вы оба тут, скоморохи?
– А куды нам детися? – и скоморохи Митрошка и Афонька предстали перед взбешенным Диомидом.
Ловким толчком Митрошка вышиб из Диомидовой горсти золото, и оно брызнуло во все стороны звонким дождем.
– Алырники [100]100
Лирники.
[Закрыть]морочилы [101]101
Обманщики.
[Закрыть] проклятые! – возопил Диомид, хватая обоих за шиворот. – Не ведаете, что я вам век могу укоротить, шпыни постылые?
– Ведаем, милостивец, ведаем – всяк монах от бога пристав! – с уморительным поклоном пропели скоморохи.
Кругом засмеялись, а Диомид, грозя кулаками, скрылся в толпе.
Нашлись и еще любители пограбить, но их также быстро уличили. Не обошлось и без свалки. Те, у кого стали отнимать награбленное, вцепились в своих обличителей. Пронзительно, как клушки под ножом, кричали женщины, визжали ребята, ухали и солено бранились мужики.
– Дайте вы народишку поживиться!.. Да-айте-е!..
– Злыдни завидливые, аль вам чужого добра жалко?
– Пропадет добро – ни богу, ни людям, ни нам, мужикам!
– Вали, робя, наваливайся!
И вдруг могучий бас Ивана Суеты громом загремел над взбудораженной толпой:
– Стой, нар-ро-од!.. Аль мы воры-ярыги с кружала, аль мы разбойники-убивцы?.. Аль мы расстригины слуги, коли оглодки да отребье врагов наших лютых, яко псы, станем подбирать?
Толпа притихла. Вперед пробрался Никон Шилов, его глуховатый голос срывался от гнева:
– Возьми всякой лучину горящу да подпаливай вражью рухлядь, злодееву, погану!
Он быстро высек искру из кремня, раздул трут и, как пасхальную свечу, поднес к нему виток соломы.
– Кидай! Пали огнем! – повелительно крикнул он, и никто не посмел ослушаться.
Военная добыча задымилась, вспыхнула. Желтые искры летели во все стороны, как ядовитая мошкара. Ветер вздувал пламя все выше к небу, а люди в исступленном веселье бросали в него все новые находки, оставшиеся после боя. Объятые пламенем, скрипели и гнулись вражеские доспехи. Серебро и позолота кипучей пеной сползали с них. Было что-то опьяняющее для зрения и слуха в том, как железо и медь, еще недавно грозно украшавшие врагов, трещали, ломались и гремели, как рассыпающиеся скелеты.
За криками и шутками послышались песни. Скоморох Афонька схватил обгорелый изуродованный огнем вражеский шлем, надел его на палку и, потешно кланяясь перед ним, запел козлиным голосом:
Гришка вор! Гришка вор!
Покажи свой двор!
Мой двор посередь Москвы, —
Вороты пестры…
Господа-то бояре от обедни идут,
А вот Гришка-расстрижка
Из мыльни идет!
Скоморох Митрошка, размахивая обломками вражеского копья и корча страшные рожи, уморительно запрыгал навстречу:
Я процарствую три часа,
Тако процарствую три дни,
Тако процарствую тридцать лет!
Скоморохи обнялись и, гремя железом о железо, запели гулкими голосами:
А люди-народы догадалися,
Брали вора на копьеца, да на вострые-е-е!
Тут скоморохи размахнулись и кинули железные обломки в костер.
Высокий дым костра, конечно, был виден полякам, и, как передавали лазутчики, враги правильно истолковали его значение: в монастыре жгли трофеи.
Утром следующего дня дозорные на стенах увидели, как из вражеского лагеря выехали несколько всадников. Размахивая копьями с привязанными к ним белыми платками, конники заскакали вокруг стен. Скоро среди дозорных пошли шепотки, а потом и громкие смешливые речи:
– Глянь-кось, воры-то под нашими стенами трепака бьют!
– Скачут, что волки округ заселья.
– Ишь, охота им нас, яко зайца из куста, выжить!
– Эко, шишиморят [102]102
Плутуют.
[Закрыть], будто на торгу!
– Вышла кошурка из бабурки [103]103
Баб урка – часть русской печи.
[Закрыть] медведя обманом взять!
– А медведушко-то сам с усам!
– Э, не с той ноги, кума, плясать пошла!
– Ну и скачут, чисто бесы, содом дьявольской!
И еще несколько дней подряд польско-тушинские всадники подъезжали к стенам крепости и уговаривали заслонников, сотников и воевод сдаться мирно, обещая за это «богатства многи», и «честь великую», и «покой нерушимой дому сему».
Об этих «улещаньях» в осажденной крепости вскоре стало известно всем, вплоть до самых зеленых подростков. Потому на стенах с утра до вечера толкался народ. Среди любопытных нашлись и малодушные, которые, смелея понемногу, уже вслух стали поговаривать насчет того, что хороша-де война за горами, а не за плечами, что воеводам следовало бы прислушаться к советам и «улещаньям» польско-тушинских посланцев, потому что надо-де «пожалеть народ»: уже почти зима на дворе, а в монастыре недостает ни крова для всех, ни пищи.
Посадские торговые люди и менялы, которые без торжища чувствовали себя рыбами на песке, поддерживали эти жалобы, как умели: иные под шумок, иные явно, даже истошным голосом.
Осип Селевин, целыми днями толкаясь среди своих посадских дружков, с каждым днем тосковал все яростнее и злее. Он задыхался в унылой тесноте этих осажденных стен, чувствуя себя павлином, запертым в клетку, – ему негде было распустить свой хвост… Злоба и нетерпение кипели в нем, его гортань горела, а язык жаждал все больше и больше произносить лукавых, подметных слов, которые отравляют разум и волю в мутном потоке заманчивых желаний – «бренного жития ради». В стойкость и победу именно этих «бренных» желаний только и верил Осип Селевин и не в силах был таить их в себе. Он был хитрее многих своих посадских дружков и действовал явно и тайно: где шептал, а где грозил и похохатывал, не забывая, однако, посматривать – нет ли поблизости «ненавистного Данилки» и «присных Данилкиных». Но как ни остерегался Осип, собственный неуемный язык-супостат выдал его.
– Вона какую ты молву пущаешь, заслонникам нашим разум мутишь, – произнес однажды голос Данилы, от которого Оську бросило в жар и пот. – Ловок звонарь, одначе звони, да не зазванивайся… и не вместно тебе на стенах быти!..
У Осипа от злобы перехватило дыханье, но ноги его будто сами собой стали пятиться к проему, откуда спускалась вниз широкая лестница.
Данила с досадливым изумлением следил за петляющим Оськиным шагом – неужели было время, когда он смотрел на этого блудливого человека снизу вверх, покорствовал ему и боялся его?
Девятнадцатого октября утро встало ясное, с теплым ветерком. Стрелецкий голова Василий Брехов, потягиваясь длинным костлявым телом, вышел из душной стрелецкой избы и жадно вздохнул всей грудью.
– Эх, баской денек ноне выдался, – сказал он, зачерпывая ковшом воду из большой бадьи, которая стояла около крыльца. – Ну-ка, Данилушко, полей на меня.
Расшитой петухами ширинкой Василий Брехов накрепко вытер скуластое лицо, разгладил редкую воскового цвета бородку и бережно сложил ширинку в карман кафтана.
– Не приведи бог сие потерять, – вдруг мягко улыбнулся Василий, – баба за то к ответу потянет… Она у меня обиходная, рукодельница, всяку копейку бережет.
Пока хлебали тюрю с хреном, Василий рассказывал Даниле о своей жене «свет Афимьюшке», «о малых детушках», о своем «теремочке во стрелецкой слободе» в Москве.
– Живут ноне, управляются мои бедные сами собой, и весточки им подать нельзя. Допреж сей вражьей напасти спосылал я им десять алтын да четыре деньги, а ноне ни крохоткой не помогнешь им, сердешным моим!
Поели. Засунули ложки за голенища. Василий широко перекрестился и, оглядывая кипящий народом крепостной двор, молвил с довольной улыбкой:
– Солнушко на небеси – и людишкам жить послаще! Вона, ребяты все что грибы повысыпали!
Василий опять заговорил о своих «ребятушках малых», о «свет Афимьюшке».
– Ох, ладил я их сюда к Троице перевезти, да не поспел – от ратных дел не больно уйдешь.
Василий надел шапку, посмотрел на белую кипень мелких облачков на небе и подумал вслух:
– Може, ноне стреляния не случится, дыхнем малость…
– Бают, у воров ноне тихо, – сказал Данила. В это ласковое утро ему хотелось думать, что недолго осталось терпеть поганую воровскую напасть.
– Уж не возвернутся ли они внове нас прельщать? – шутливо спросил он Василия.
Тот только гордо нахлобучил высокую шапку и направился к мосткам: сегодня его «черед стены заслоняти» пришелся утром.
Не успел Василий с людьми словом перемолвиться, как Никон Шилов со стены крикнул дурным голосом:
– Ляхи!.. В огороде!
Все бросились к боевым местам.
– Кыш вы, иродово племя! – бешено крикнул Никон и грозно затряс кулаками. – То для честных людей землицу обиходили, а не для вас, лиходеи окаянные! Труды наши хрестьянские хотят конями дикими затоптать…
Он вдруг исчез и через минуту вернулся, неся на плечах толстые круги веревок.
– Больно заскокливы, ляхи проклятые! Нет, я вам, мучители, дорогу засеку! – бормотал он, свирепо кося глаза и торопливо обвязываясь веревкой вокруг стана.
– Спустите меня, други, наземь да дайте мне востру саблю, ужо попугаю я воров поганых.
– Стой-кось! – усмехнулся Василий Брехов, окинув быстрым взглядом небольшую фигурку Никона. – Аль мы тебя одного отпустим?
И Василий, обернувшись к стрельцам, кратко приказал:
– Десятеро наземь!
Десятеро, обвязавшись веревками, спустились со стены в монастырский огород, по ту сторону ограды.
Князь Григорий Борисович даже разгневался, что из-за хрена да редьки возгорелся шум. Но, видя, что «огородные воры» зовут себе на помощь латников, конных и стрелков и стычка уже переходит в сражение, воевода решил сделать вылазку.
На троицких стенах за боем следили не только воеводы, но и сам архимандрит с соборными старцами. Все видели, как бились русские стрельцы, как разили они польско-тушинских лыцарей, как малыми кучками – в три и четыре человека – отражали наскоки врагов, которых было во много раз больше.
Уже начало смеркаться, когда стрелецкий голова Василий Брехов велел трубить отступление. Не дойдя до монастырских ворот, Василий Брехов вдруг вскинул руки и упал навзничь, как высокая свеча. Смертельно раненного, его еле успели перенести во двор и постричь. В один вечер пришлось снаряжать в последний путь несколько десятков умирающих. Женщины обмыли тела, надели на них смертное.
Обрядив Василия Брехова в последний путь, Ольга зажгла в головах его большую восковую свечу, обвитую серебряной битью, поклонилась земно – и, подняв глаза, в ногах гроба увидела Данилу.
Он стоял, опустив голову на грудь, и неотрывно смотрел в лицо Василия. Не видать ему больше верной Афимьюшки и малых детушек – в последний раз ныне утром поговорил он о них, потешил душу. Не видать ему больше стрелецкой слободы, не видать белокаменного златомакового Кремля, о котором он говорил с такой гордостью.
Лежал стрелецкий голова, плотно смежив очи. Лики ангелов и святых в богатых окладах, позолоченных при царе Борисе Годунове, глядели на Василия Брехова истово-строго, будто еще что-то требуя от него. А он лежал, важно и навечно сложив на груди большие, сильные руки стрельца. На нем смерть не остановится: сколько еще прощальных поклонов доведется Даниле отдать тем, кого сразит она, ненасытная, беспощадная врагиня рода человеческого? А может статься, как раз его черед близок, как раз ему скоро суждено будет лежать вот так же лицом к святым и праотцам, которые смотрят вниз с годуновского иконостаса. Данила невольно вздрогнул и тут встретился глазами с горячим и тревожным взглядом Ольги. Он понял, что она думает о том же, – сердце сердцу весть подает. Ольга, потупившись, вышла, и Данила пошел за ней. Она остановилась у могилы семейства Годуновых и, прислонившись головой к одной из чугунных именных досок, тихонько заплакала. Данила шагнул к ней, обнял и бережно прижал к себе.
Ольга молчала на его груди, даже дыханья не было слышно. Только голубино белела ее щека, да шелковым стежком чернела бровь.
– Судьба разлучает, судьба ж и прилучает, Ольгунюшка…
– А грех-от, грех-от смертной куды девать, Данилушко? – прошелестел шепот Ольги. – Аль того не боишься?
Он усмехнулся в темноте.
– Допреж боялся, а ноне страх пропал… Кто ж грешнее: мы ль, грудью нашей обитель заслоняющие, али божьи наши иноки, что в теплых кельях сидят?.. Покуда их мало на стенах видно, все за наши души молятся, а мы за их моленья… тела наши отдаем…
Ольга сказала тихонько, отогревшимся голосом:
– Смелой ты стал ноне…
– Станешь смелым, коли жизнь пришла боецкая.
Ольга глубоко вздохнула, словно наконец собралась что-то сказать, но тут как из-под земли вырос кто-то и пошел прямо на нее. Луна осветила белозубую ухмылку Осипа Селевина.
– Уйди, постылой! – вскрикнула Ольга, и белое лицо ее потухло, как падучая звезда. Она исчезла, унеся с собой желанное слово, которое только что собиралась сказать Даниле. А он вдруг задохнулся от ненависти к этому чужаку, называемому братом.
– Пошто без докуки бродишь?
Белые Оськины зубы хищно сверкнули во мгле.
– Аль ты мне начальник сдался, служка длинногривой?
– Уж боле я не служка, а сотник Данила Селевин.
Осип невольно охнул: как этот тихоня обхитрил его!
– А вот не погляжу, что ты сотник, да и…
– Ну-кось… скажи, скажи…
– Стану я обо всякого руки марать… може, я шучу…
– Шути, кувшин, шути, поколе ухо оторвется!
Они стояли друг против друга, кровные братья и непримиримые враги. Мгла скрывала их лица, но мысли им были видимы, как подводные камни в пронзенной солнцем реке.
– Братие, братие! – ласково пропел вкрадчивый голос соборного попа Тимофея, и его плотная фигура выступила из темноты. – Пошто тако непотребно беседовати? Кто тут есть?
– То я, отче, – весело и покорно отозвался Осип. – Шел, вишь, во собор Успенской епитимью сполнять, покаянны поклоны бить, да вот брат мои грозится, – пошто-де на стены не выхожу, в заслоне-де стоять не желаю…
– Иди, чадо, во собор, молися о душе своей, – елейно сказал Тимофей.
– Стрелецкой кафтан напялил и возгордился, сосуд скудельной! [104]104
Глиняный.
[Закрыть]– донесся вслед Даниле неприкрыто-злой смех попа Тимофея.
«Ино так и есть: возгордился! – упрямо подумал Данила. – В заслонниках-то наши зипуны стоят, а ряс-то пока не видно!»
В ночной тишине Симон Азарьин с учеником своим Алексеем Тихоновым при свете оплывающей свечи записывали в летописный свод:
«Ныне убиенные суть:
Василий Брехов – голова стрелецкой, Авксентий Драпков, Петр Миклашев, Степан Томилин…»
В ночь на двадцать пятое октября был ветер такой силы, что железо гремело на крышах, а двери многих келий раскрывались сами собой.
Симон Азарьин сидел над своим летописным сводом.
– Вона, отче, тот звездовник, что ты даве искал, – прервал Алексей размышления Симона.
Алексей держал в руках звездовник, огромную, как столешница, книгу в переплете из воловьей кожи, переведенную на русский язык еще Максимом Греком.
– Толико премудрости одолеть! – и Симон нежно погладил широкую страницу, испещренную изображениями небесных светил.
– Сколь наипрекрасен разум человеческой, величием небесным вдохновенной! – сказал Алексей, и Симон Азарьин опять подивился про себя «светлому книжному талану» крестьянского сироты.
– Я, отче, нашел: вот она, роспись и исчисление всех светил небесных…
– Вот и ладно, чти, Алексей…
Но тут ударили в сполошный колокол, и Симон с Алексеем выбежали на холод и ветер.
Звездовник Максима Грека остался раскрытым на столе. Непритворенная дверь кельи хлопала и билась по ветру.
Ветер трепал листы звездовника, но добротная бумага была прочна, как парус. Созвездия и планеты, начертанные искусной рукой Максима Грека и воспроизведенные станком Ивана Федорова и Мстиславца, словно светились на широких листах звездовника.
Сполошный колокол на Духовской церкви гудел и звал к бою.
Поляки пошли на приступ, думая напасть на стены врасплох. Но пламя над старым бревенчатым острогом, который в неразберихе загорелся, выдало их. Сотнями летели они вниз с лестниц, которые во множестве приставили к стенам крепости. С ревом осенней бури сливался гром пальбы, лязг сабель и копий, грохот лестниц, низвергающихся вниз.








