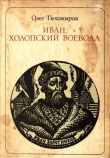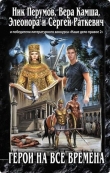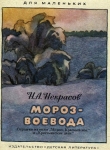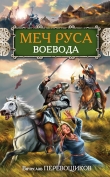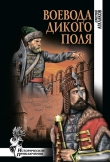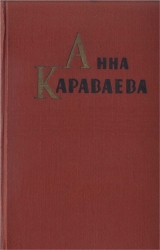
Текст книги "Собрание сочинений. Том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице"
Автор книги: Анна Караваева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 34 страниц)
Итак, мы стоим у цоколя гостиницы. Нагретый погожим сентябрьским солнцем гранит тепел, как живое тело. Под его полированной корой застыли в причудливой игре огненно-рыжие, бордовые, как спелая вишня, розовые, как заря, прожилки, пятна, оттенки, похожие то на ветвистую изморозь, то на цветы, то на фантастических птиц.
Группа экскурсантов вышла из огромного зева будущего вестибюля. Высокий худощавый юноша со значком ГТО остановился против ниши и с шумным боевым вздохом сказал:
– Значит, ребята, он встанет вот здесь. Ну, например, победитель воздуха – парашютист… Соответственно данной жилплощади, внушительная будет фигура, братцы…
– Лицо у него, наверное, будет замечательное, – подхватила рослая девушка, щуря серые серьезные глаза.
– Лицо… это еще полдела! – Юноша вел свою линию. – Какая это будет силища, здоровье, мускулатура…
Худенькая курчавая девушка в больших круглых очках, придающих ей смешной и хрупкий вид, сказала:
– А почему никто из вас не хочет вообразить, до чего все это будет величественно и роскошно!
И молодежь, согласившись с ней, принялась вспоминать, что действительно в этом огромном доме для путешественников роскошь, красота будут выглядеть не как счастливая случайность, а как нечто само собой подразумевающееся, естественное.
Очкастая девушка оказалась самой впечатлительной. В своем воображении она уже гуляла под пальмами летнего сада и, как героиня «садов Бахчисарая», услаждала свой слух журчащей песней фонтана. Она любовалась барельефом над девятью мощными колоннами портика («выше колонн Большого театра, подумайте!»); в концертном зале, щурясь на жемчужно-белый свет люстр, она слушала романсы Шуберта, старинные русские песни и рапсодии Листа. По лестнице, устланной приятно пестрой ковровой тропкой, она поднималась на угловатые башни-балконы и оттуда любовалась панорамой Москвы.
Мы познакомились с очкастой девушкой. Она оказалась ударницей одного из первоклассных московских заводов.
– Лучшая наша наладчица по молодежным бригадам, – с дружеской гордостью пояснил худощавый юноша.
Звали девушку Валей.
– А дальше я не скажу, – хитро улыбнулась она.
– Почему?
– Вы напишете про меня, а наши все меня засмеют, вот-де вывели какой тип.
– Она у нас фантазерка, – добродушно пояснил юноша. – Девчата наши смеются, говорят: «Это оттого, что она в четыре глаза смотрит».
Напрасно, милая Валя, ты боишься, что тебя «засмеют». Возможно, ты (напрасно) считаешь, что все эти твои чувства просто индивидуальная особенность, и потому-то ты не желаешь, чтобы про тебя сказали: «Вот какой тип вывели…» А вот на этом, милая девушка, мы тебя и поймаем… Ты не додумала, что как раз все, высказанное тобой, чрезвычайно типично. Мышление нашего современника естественно и конкретно даже в те моменты, когда оно создает высокие категории теоретических и философских определений. Когда тебе, девушка, говорят, что ты хозяйка своего завода и всей страны, это для тебя звучит так же неоспоримо и ясно, как утверждение, что земля вертится вокруг своей оси. Но это хозяйское чувство не будет подлинно социалистическим, если силой своею не сумеет заражать других. По-моему, дорогой товарищ, ты просто полнокровно выражала свои чувства хозяйки большого дома, а если везде и всюду ты видела себя, то это опять же естественно: устами твоими говорит требовательность к жизни социалистического поколения, в котором числятся восемнадцатилетние и пятидесятилетние люди.
Удивительны ли после этого, девушка Валя, твоя любовь, гордость перед силой и красотой созданий нашего общего труда… И заметь себе, девушка: эти чувства миллионов людей являются одним из далеко не последних видов цемента, скрепляющего собой камни зданий новой человеческой истории. Прошлое, также и прошлое этой улицы, Охотного ряда, стоит вызвать, чтобы после летучих мышей и сумерек, после зловещих сов ночи еще ослепительнее и дороже показался нынешний день…
«Князь преславный» или конец дома западникаНа старинных планах XVI и XVII веков Сигизмунда Килиана, Олеария на месте Охотного ряда виден невысокий берег скромной речки Неглинки [125]125
Потом, в XVIII веке, Неглинку взяли в трубы и отвели под землю.
[Закрыть], покрытый пышной зеленью. Улица Петровка, кривая, как коромысло, пересекала нынешнюю площадь Свердлова и выходила сюда к пышным береговым кустам. Берег Неглинки против стен Кремля принимал на свои зеленые скалы каменный мост, который вел в Белый город. Это была родственная Кремлю часть боярской и зажиточной Москвы. Между Тверской и Большой Дмитровкой шли сплошные сады, с березами, липами, ягодными кустами, с раскидистыми яблонями старинных русских сортов – мелкой, с робким румянцем грушовки московской и светленького бабушкиного яблочка. Здесь расположились хорошие, едва ли не лучшие во всей Москве усадебные участки – место веселое, на берегу реки, близко от Кремля. Участок на углу Большой Дмитровки принадлежал князю Долгорукому, обширный участок рядом с ним – князю Василию Васильевичу Голицыну, а третий – стольнику Троекурову. Дом стольника Бориса Троекурова известен с середины XVII века. Во второй половине XVII века дом находился во владении стольникова сына Ивана Борисовича Троекурова, начальника стрелецкого приказа при Петре I. Далее это обширное владение мирно доставалось внукам и правнукам, а после исчезновения благополучного стольничьего рода проходило через разные хозяйские руки, чтобы наконец, к 1925 году, перейти во владение союза химиков.
Задавало тон в здешних местах владение князя Василия Васильевича Голицына, известное с 1638 года.
На планах пятидесятых годов XVII века владение представляется очень обширным. Оно состояло из великолепного сада, двух дворов, роскошных каменных «палат» в глубине сада и трех каменных жилых домов – один к западу от «палат», а два других на линии современного Охотного ряда. В семидесятых и начале восьмидесятых годов XVII века это владение достигло особенного расцвета, богатства, блеска и славы. И это же владение, больше чем всякое другое, дает возможность проследить, как происходит падение некогда цветущих клеток города с высот истории на дно, в небытие и забвение.
Прямо против голицынского двора издавна существовал «съестной», или «птичий торг». На лодках по реке Неглинке спускались к Белому городу рыбаки и охотники со свежей «живностью». И торг на этом месте привился настолько прочно, что на всех планах Москвы XVII века можно заметить обозначенные в виде коробок торговые лабазы и лавки. Все крепче обосновываясь на этих невысоких берегах, «съестной торг» обрастал своими рыночными удобствами и благами.
Здесь торговые люди по сходной цене питались похлебками, рубцами, пирогами. Появились и свои рыночные нищие, слепцы-гусляры, монахи-сборщики, а еще немного – выросла и церковка, а вслед за ней и монастырь (обращенный потом, по приказу Петра I, в подворье). Оборотиста была игуменья этого Моисеевского монастыря… История, правда, не сохранила нам ее имени, но игуменья, как видно, хорошо использовала особенности места, где находился сей «божий дом». Она обратила своих монашек в поварих, продавщиц и зазывальщиц. Монашки делали отменные пироги и оладьи для гостей. Монастырь благоденствовал, и колокола его весело отзванивали утрени и обедни над шумом и галдежом «съестного торга».
Шумен, грязен был «съестной торг». Охотники в лохматых островерхих колпаках, в домотканных зипунишках, крашенных отваром из коры и луковых перьев, мужики с нечесаными бородищами, с нехитрым «уружьем» за спиной, сновали всюду. За крохотные, чуть слышно звякавшие один о другой алтыны отдавали лесовики дичь, кабаньи туши и медвежьи шкуры, частенько доставшиеся почти ценой жизни в единоборстве с косолапым зверем. Бородищи и зипунишки говорили о беспросветной забитости рабов, о голи, нищете и черной жизни, без малого наравне со звериной. Эти лохматые, с медвежьими ухватками толпы беспокоили глаза боярина Голицына Василия Васильевича. Уж и лядащий же человечишка крестьянин на Руси, землероб, по-боярски – «смерд»! Уж и напуган же он: одного хорошего доезжачего хватит, чтобы, только раз по-свойски гикнув, в миг рассеять целую толпу. А все оттого, что на земле хлебороб еле дышит – уж очень выжимает из него соки боярская вотчина… Выгоды от этого государству – никакой. Бедно государство русское, ох бедно… Таким ли оно могло быть при множестве земель его, рек, угодий разных, дарованных природой! По государству и столица, Москва первопрестольная; сколько каменных домов ни строили за его правление [126]126
За время правления Голицына в Москве было построено около трех тысяч каменных домов.
[Закрыть], а Москва все остается грязным городом: только посуху да по морозу по ней пройдешь и погуляешь. Но в мокропогодицу непроходима, худой лошаденке седока не вывезти. Уж так из царства в царство грязь копилась, не скоро Москву прибрать можно!..
К боярскому поезду сбегались нищие и юродивые. Они выли, канючили и пропитыми голосами пели псалмы. Высунув из оконца своей обитой кожей расписной кареты маленькую белую руку, Василий Васильевич бросал в толпу деньги. Как дрались из-за них, он не смотрел.
Он подъезжал к крепким дубовым воротам своего дома. Челядь с поклонами распахивала их. Стремянные вели князя по двору. Князь всходил на высокое, как в соборах, крыльцо. Каждая горница встречала хозяина чистотой-лепотой, как в пеоне поется, – и пыль, и убожество, и теснота московская оставались где-то далеко за пределами видимого.
Портрет Василия Васильевича Голицына в светлом зале Исторического музея висит над витринами оружия, указов, книг, одежды и домашней утвари XVII века. Из старинной потемневшей рамы на вас смотрит неяркое, спокойное лицо, одно из тех лиц, которые запоминаются только в том случае, если в них внимательно и придирчиво вглядываться. Слегка вьющиеся, негустые, неопределенного, не то рыжего, не то овсяного цвета, довольно длинные волосы окружают его небольшое кругловатое лицо с высоким лбом и русыми, жидковатыми немужскими бровями. Нос его длинноватый, но, как говорили в последующем галантном веке, «прельстительный», нос с тонким, красиво обозначенным хребтом и подвижными капризными ноздрями. Украинские усы, с длинными, подкрученными концами, прикрывают его рот и придают нижней части лица выражение скрытности и безволия. Курчавая, в легких кольцах, бородка опушила слегка отекающие книзу щеки. Правый глаз его, обращенный к зрителю, смотрит с серьезным лукавством, а левый, в тени, мечтателен и рассеян. Богатый кафтан светло-синего бархата с собольей опушкой ловко сидит на некрупной, но плотной фигуре – похоже, князь Голицын в те поры становился дородным человеком, каким и полагалось тогда быть именитому боярину. Шитый золотом ремень сабли, гетманская булава в руке, пряжка (наверно, жалованная) из драгоценных камней у ворота заставляют думать, что князь позировал в парадном костюме польского военного образца. С этого же портрета, выгравированного на меди известным в те времена черниговским мастером Тарасевичем, сделана гелиогравюра. Ее окружает нарядная барочная рамка, в которую, как орнамент и символ, включены та же сабля и гетманская булава. Под портретом восьмистишье, заканчивающееся так:
…образ князя преславного,
во всяки страны, зде начертанного,
отныне будет славою сияти,
честь Голицыных везде прославляти.
Восхваление это было в полном соответствии с напутственной надписью к гравюре: «Их царского величества ближний боярин».
И гравюра, и барочная рамка к ней, и стихотворная эклога – все это выполнено на западный манер. Да и сам Василий Васильевич, «ближний боярин» и друг сердечный, «талант» царевны-правительницы Софьи Алексеевны, был западник. Западная культура, западная роскошь и обличье, западноевропейский домашний обиход неудержимо влекли его к себе. В палатах своих он должен был чувствовать себя в иной стране, вдалеке от русских бояр, грубых, тупых, обжор, домоседов, кичившихся своим родом, неграмотных или в лучшем случае подписывающихся под своими челобитными царям: «Раб твой Федька, Ивашка, Петька»… Дома его взыскательный глаз не страдал от вида неопрятных русских бород до пояса, от пудовых русских шуб и аршинных шапок, от долгополых кафтанов и охабней, пахнувших потом, перинами и домашними квасами. Сам он, конечно, этого одеяния не терпел и дома ходил в европейском платье, предпочтительно в польском. Так же предпочитал он всякой другой польскую образованность. Недаром в описи его библиотеки, насчитывавшей не один десяток книг, немалое число их было «польского письма». Он в свое время прилежно изучал этот язык, наряду с латинским. До самых последних дней его падения хранился у него учебник, обозначенный потом в описи «Грамматик польского и латинского языка» и «История письменная польского языка» («оклеена кожею красной»). Читал он и по-немецки. Опись насчитывала пять немецких книг; названий их не сохранилось, только об одной из них опись упоминает: «Книга на немецком языке всяким рыбам и зверям в лицах». Как царедворца и политика, его занимали книги, которые помогали по любезным его сердцу западным образцам управлять государством. В Крестовой палате у него хранились книга:
«Правда и уставы воинские Галанские земли»;
«О гражданском житии, или о направлении всех дел, яже обща народу»;
«О ратном деле»;
«Жезл правления»;
«Тестамент, или завет Василия, царя греческого, сыну его, Лву философу»;
«О послех, где, кому, в котором государстве поклонитца».
Книги эти способствовали размышлениям и гордым мечтаниям о блестящей и победительной внешней политике, о расцвете государства, о себе, этаком русском Ришелье или Мазарини. Но для таких дел люди нужны. Попробуй найти таких среди русских бояр, сытых до отвала землями, богатством, древним родом. Попробуй, поверни их, домоседов и лентяев. Попробуй выжать из них хоть одну здравую и смелую мысль о пользе государства. Первое время Василий Васильевич и старался выжать. Он обращал к ним юношеские, пылкие речи, как к первейшей «надежде» государства. Оно большое, но хилое оттого, что не имеет образованных руководителей. Учиться надо, учиться никогда не поздно. А детей непременно учить, оставлять их без науки – преступление. Можно из Польши выписывать учителей: польская образованность с ее латинским языком самая надежная и всеобъемлющая, латынь – один из древнейших языков, на нем изъяснялись великие люди императорского Рима, отцы церкви, философы, поэты, ученые. Если, к примеру, русский боярин научится говорить по-латыни, он всю Европу может объехать и всюду ему будет почет и уважение. Да, надо, надо боярам чужие земли повидать, много полезного из тамошней жизни можно будет перенять для себя. Одно военное дело взять – есть чему поучиться. Нечего скрывать, русское войско еще плохо обучено. И до каких же пор это будет длиться?.. Били и бьют этакое громадное государство и по причине его бедности, а ведь можно устроить так, чтобы необозримые земли его приносили выгоды в два раза большие. Для этого стоило бы только пустить крестьян на царскую подать – значит, работать прямо на казну. А казна бы эта дворянам, как защитникам царским, жалованье стала платить больше, – словом, никто бы в обиде не был. Вотчинники слушали, играя своими холеными бородами, любимцу царевны не перечили и помалкивали. Они очень хорошо понимали, к чему вели эти речи: дворянам без мужиков остаться – тоже нашел дураков князь Голицын!
Увидев, что от родовых толку не будет, князь Василий приблизил к себе незнатных, но умных людей вроде Неплюева, Косогова, Змеева, Украинцева и других. Возвышенные им, они были преданы ему, ловили каждое его слово и готовы были выполнять все его планы. В голове у него кипело, он выдумывал неутомимо, как пчела. Но из планов почему-то не рождалось ни законов, ни дел. Удалось только в закон о холопстве за долги ввести некоторые смягчающие пункты, добиться отмены закапывания в землю мужеубийц и отмены смертной казни за возмутительные слова. И вообще в царских законах вдохновенные планы Василия Васильевича никак не отразились. Для этого знатных вотчинников надо было не ораторскими речами зазывать, а взять их, вотчинников, за шиворот, распорядиться их землями так, как подсказывала смелая, исторически передовая мысль. А вот этого-то князь Василий и не умел. Быстро решать и выполнять он совершенно был не в состоянии.
И чего ни коснись, все у Василия Васильевича в планах выглядело, как маков цвет, а в жизни – как оборотная сторона медали. Как воодушевленно мечтал «ближний боярин» и «сберегатель» государства русского о «вечном мире» с Польшей! Мир был пышно отпразднован, а на другой день пришлось платить по этому разорительному векселю: Москва должна была сыграть роль заслона для Польши от крымских татар. Так возник крымский поход, окончившийся тем более позорно, что сам князь Василий был главнокомандующим. Он и не мыслил командовать, он открещивался, как только мог, он назначал для такой высокой чести представителей самых знатных родов. Вот тут-то родовитые и отомстили ему за все так терпеливо выслушанные ими предерзостные планы. «Ага, голубчик, теперь ты нас признаешь!» – все наперебой стали отказываться от высокой чести. Да нет уж, да где уж им! – умишком для такого дела не вышли. Нет, нет, он, князь Голицын, заключил мир и союз с Польшей, ему и карты в руки, вот пусть он и ведет войско к победе. И Василий Васильевич, теснимый этим враждебным ему большинством, взял в свои руки командование. Полководцем он оказался из рук вон плохим: дошел до Перекопа, испугался выжженных солнцем степей, желудочных эпидемий в оголодавших войсках, конского падежа – и ни с чем вернулся в Москву. Но в Москве его приняли хорошо: царевна Софья спохватилась как любовница и еще больше как правительница – верного человека с глаз угнали… И она была рада, что он вернулся. Этот дворцовый роман знаменовал собой то же роковое несоответствие, которое всегда портило Василию Васильевичу. В собственном воображении – супруг и «галант» гордой царевны-правительницы, вершитель и «оберегатель» судеб огромной столицы, возможный ее преобразователь. А в действительности либеральный и образованный царедворец поддался атаке очень решительной молодой женщины, которая сыграла вовсе не на обаянии красоты, а на власти: дураки, кто от царевен отказывается. Таким образом, не он взял, а его взяли. И кто? Некрасивая женщина, с большой головой и грубым невыразительным лицом. Кроме того, Софья была настолько тучной, неуклюжей и старообразной, что в двадцать пять лет казалась сорокалетней. Она-то и простила князю Василию Голицыну и несчастный поход, и такую блистательную в мечтах и планах и так позорно провалившуюся в действительности внешнюю политику.
От этой неприятности Василий Васильевич скоро оправился, благо характер у него был светлый, легкий и новые отважные планы преобразований уже теснились в его уме. Его недоброжелатели ехидничали, что после такого похода ему не худо бы уехать от стыда подальше, в деревню. Но князь Василий ни в какую деревню не поехал. Жизнь его потекла, как всегда.
По-прежнему ходил он слушать обедню в домовую свою церковь Воскресения. Она было открыта в 1687 году (то есть за два года до его падения) в надстроенном для этой цели втором этаже над церковью Параскевы-Пятницы. Отстояв обедню, князь возвращался домой крытой галереей, соединявшей церковь с палатами. Он шел, щурясь от полуденного солнца, струившегося навстречу ему сквозь желтые, красные, синие и зеленые стекла, – не в пример многим остальным московским хоромам, у него в доме окна ярко светились заморскими стеклами.
У него немало было книг: житий святых, молебнов, акафистов, апокрифических сочинений, календарей за разные годы. Но с не меньшей охотой размышлял он над книгами, которые как будто не имели никакого отношения к его государственным трудам и заботам. Это были рыцарские романы, сочинения вроде: «О звезде пресветлой», «О строении комедии» и «Рифмотворная печатная». Он и сам сочинял стихи и пьесы, которые показывал только одному человеку во всем свете – своей некрасивой даме сердца, но умной царевне Софье.
Царевна Софья среди всех молодых женщин своего круга была, конечно, самой интересной личностью. Энергичная, умная, она получила образование на западноевропейский образец. В числе ее наставников был Симеон Полоцкий, один из виднейших московских писателей XVII века и воспитатель детей царя Алексея Михайловича. Симеон Полоцкий был убежденным западником и обладал довольно обширной для своего времени эрудицией. Кроме поучений и проповедей, Симеон Полоцкий написал два сборника стихов («Вертоград многоцветный» и «Рифмологион»). Когда царь Алексей Михайлович задумал учредить в Москве театральное «действо», Симеон Полоцкий живо откликнулся на это новшество и написал комедию «Навуходоносор» и комедию «Притча о блудном сыне». Увлекаясь античной литературой и особенно латинской письменностью, Полоцкий выступал и как переводчик латинских классиков. Надо полагать, что этот многогранно талантливый человек стремился передать царским детям не только свои знания, но и вкусы. Не из его ли уроков также почерпнула Софья сведения о женщинах-правительницах, императрицах и королевах, которые влияли на исторические судьбы стран и народов. А если она об этом знала, теремная жизнь, конечно, казалась ей невыносимой. И «талантом» себе среди придворного общества она выбрала Василия Голицына – приверженца западноевропейской культуры, царедворца-философа и поэта. Начитанный, знающий несколько иностранных языков, приветливый в обращении (не в пример многим родовитым и преисполненным высокомерия боярам), интересный собеседник, умеющий достойно поговорить с иноземными послами, Василий Васильевич Голицын был именно тем человеком, которого честолюбивая Софья прочила себе в помощники в управлении государством. Она мечтала, чтобы рядом с ее именем русской фактической царицы блистало имя ее, выражаясь по-европейски, первого министра. Она этого добилась: семь лет ее правления (с мая 1682 до начала августа 1689 года) вошли в историю под названием правительства Софьи и Василия Голицына.
После смерти царя Алексея Михайловича престол перешел к четырнадцатилетнему Федору Алексеевичу, к старшему его сыну от первой жены, Марии Милославской. Вокруг царя-подростка и его именем действовала и вершила все государственные дела боярская группировка Милославских, родственников первой жены царя. Самым влиятельным из молодых бояр при царе Федоре был Василий Голицын. Пользуясь молодостью царя, феодальная знать сделала попытку захватить власть на местах. В конце 1681 года родовитые бояре уже приготовили проект наследственных наместников, которые правили бы на местах как «вечные наместники» и даже с титулом, например «боярин и наместник-князь царства Казанского» и т. п. Против этого проекта решительно выступил патриарх Иоаким и уговорил молодого царя воспротивиться притязаниям феодальной знати. Вскоре на совещании выборных «от разных чинов служилых людей» (в начале 1682 года), под председательством Василия Голицына, было вынесено решение об уничтожении «братоненавистного и любовь отгоняющего» местничества. Возможно, что эта формулировка была предложена Голицыным. Дело было не только в его отношении к местничеству, но и в свойствах его характера: всякие потрясения «основ» страшили его и, объявляя, например, местничество «братоненавистничеством», он прежде всего стремился всех умиротворять, просвещать. Его влекли к себе реформы в подражание «еуропским странам», постепенное, мирное насаждение культурных обычаев и учреждений. Конечно, при ближайшем его участии была открыта в Москве Славяно-греко-латинская академия, первый проект организации которой был составлен еще Симеоном Полоцким, в бытность его наставником царских детей.
Очень возможно, что Василий Васильевич, этот русский философ-эпикуреец, московский Петроний, вполне удовольствовался бы ролью насадителя реформ. Но его сделала своим «ближним боярином» и «галантом» честолюбивая и исключительно энергичная женщина, которая страстно мечтала о власти. А эта власть, неограниченная царская власть, все ускользала от нее, девицы, в пользу ее братьев, именем которых она правила. В апреле 1682 года умер царь Федор. Софья стала главой партии Милославских. Ей бы, самой старшей из всех детей царя Алексея Михайловича, и царствовать, ей бы и повелевать. Но на пути встали два ее младших брата – царевичи Иоанн и Петр. По нерушимым законам российского престолонаследия она могла быть только правительницей, опекуншей брата Ивана, болезненного подростка, кандидатуру которого на царский престол выдвигала партия Милославских. Но патриарх Иоаким, побаивавшийся прихода к власти Софьи и ее фаворита (он знал их приверженность к польской и вообще западной культуре), вмешался в спор дворцовых группировок и выдвинул кандидатуру самого младшего царевича, Петра, сына второй жены царя, Натальи Кирилловны Нарышкиной. Ненавидимая Софьей мачеха и ее родичи, Нарышкины, выходили теперь на первый план, а Софье приходилось отступать в тень, как и всем ее родичам, Милославским. Избрание царем Петра Алексеевича было в спешном порядке утверждено собранием «чинов» московского дворянства, а также купцов и старост так называемых «черных сотен и слобод».
Царевна Софья, отстраненная на второй план, вынуждена была еще «лицезреть» торжество царицы Натальи, счастливой матери здорового, красивого сына. По известным нам данным, нет основания предполагать, что Василий Васильевич, также отстраненный Нарышкиными, пытался бороться за власть – это вообще было не в его характере. Зато Софья с Милославскими вовсе не хотели сдаваться. Они стали искать себе опору вне дворца и нашли ее в лице начальников и солдат пехотных войск, московских стрельцов. Созданные властным велением Ивана IV, стрелецкие полки привыкли считать себя солью земли, не терпели никаких ограничений и ущемлений своих прав. В то время в стрелецких полках кипело недовольство: стрелецкие полковники, обычно из бояр и дворян, заставляли стрельцов работать для боярского, усадебного хозяйства, задерживали стрельцам жалованье и часто притесняли их. Милославские воспользовались недовольством стрельцов, их привычкой ко всякому своеволию, их отсталыми настроениями – многие из стрельцов придерживались раскола и любое новшество связывали с ненавистным им «никонианством». Милославские распространили по стрелецким приказам слух, что Нарышкины убили царевича Ивана. Вызвав восстание стрельцов, Милославские при их помощи произвели дворцовый переворот в мае 1682 года. Стрельцы потребовали, чтобы царствовали оба брата, Иван и Петр. А через несколько дней выдвинули новое требование, чтобы по молодости обоих царей правила государством царевна Софья.
Нам представляется, что она считала себя фактической царицей, хотя бы вот по какому выразительному документу, дошедшему до нашего времени: по приказу Софьи был отпечатан ее портрет в царском облачении. На этой затейливо разукрашенной гравюре Софья изображена в окружении ее семи добродетелей: разума, благочестия, щедрости, великодушия, надежды, правды, целомудрия.
Как и мечтала Софья, первым ее советником, а в глазах Европы – первым министром стал Василий Голицын.
Вот тут бы и претвориться в жизнь всем его мечтам. Он, например, мечтал о широком развитии русской торговли, о просвещении дворянства, особенно его молодых поколений, об укреплении финансов, об улучшении путей… Мы уже говорили, что только ничтожную часть, вернее, почти ничего из этих планов преобразований Голицын не претворил в жизнь – он оказался ниже своих мечтаний и стремлений. Обратить мечту в реальность, драться за нее, как за кровное свое дело, – вот этого-то как раз он и не мог.
Как мы уже отмечали, он хорошо умел делиться с другими своими мечтами, умел рассказать красиво и вдохновенно о том, что еще не существует. Но, вероятно, всего прекраснее казались ему эти мечты, когда московский философ и покровитель западных новшеств оставался один в нетревожимой никем тишине своего дома в Охотном ряду.
Он писал, вдохновенно кусая перо, или ходил по комнате, тихонько пошаркивая тонкими подошвами бархатных домашних сапог, и размышлял в бережно хранимой тишине. И, словно отвечая его мыслям и вызывая его на новые мечты и фантазии, смотрели на него с расписных стен «разные персони» – сказочные красавицы, звери, птицы. Они резвились в кудрявых тенистых лесах, у голубых вод, среди трав и пышных цветов. Да и все в этих палатах ласкало его глаз и сообщало часам одиночества опьяняющую прелесть. Пол, «кирпишной, аспидной», был устлан драгоценными коврами; скамьи и прочая мебель, как и стены, были обиты тисненой кожей, «английским» или червчатым дорогим сукном, отделаны резной жестью, украшены живописью. Одеждам – парче, бархату, сукну, атласу, посуде – золотой, серебряной, оружию – старинному, русскому и иноземному не знали здесь ни числа, ни цены. Пышно убранные комнаты щеголяли еще одним западным новшеством – часами. Их насчитывалось до десятка: часы «боевые» – с гирями и с музыкой, часы фигурные большие и малые в медной, черепаховой, серебряной, позолоченной и красной кожи оправе. Это обилие вещей, выполнявших, с общежитейской точки зрения, очень маленькое дело (эка невидаль, время считать!), возбуждало впоследствии злость и досаду людей, которым пришлось заниматься описью голицынского имущества. Часы, заморские новинки, как редкостные вещи, приходилось поименовывать особо, и вот, с нескрываемым осуждением, как бессмыслицу, описывали московские дьяки фигурные часы в доме западника: «Олень серебряной на поддоне, в поддоне заводные колеса, а на олене мужик, а под оленьими задними ногами мужик же, на коне, на поддоне же две собаки в чепях». Может быть, в самом деле в этом доме, сообразно западному духу, уже научились считать и ценить время? Нет, здесь эти занимательные машины играли марш и отбивали часы только для ушей, но не для сознания. Времени здесь не ценили и не замечали, как не замечали и многого другого. У «западника» оказался на поверку удивительно тугой к жизни слух и незоркий глаз. Он жил, не замечая того, что кора эпохи перед глазами его трещит и лопается, как яичная скорлупа от нетерпеливых ударов клюва цыпленка. А что железный птенец в своем Преображенском готовился выйти на волю, – об этом князь Василий Голицын едва ли помышлял всерьез: царственные юноши на Руси росли безобидно, набираясь ума потихоньку да полегоньку от отцов да дядьев. Плох ли пример Михаила Федоровича Романова, который немало времени, пока у него борода росла, жил умом и опытом отца своего, патриарха Филарета? Не замечал князь Василий Голицын брожений среди стрельцов и чужих приготовлений к возможной встрече нового царя, а с ним и иной эпохи. Она, как чудо-младенец, уже показывала себя ранними из ранних зубами – яузским ботом, «потешными боями».