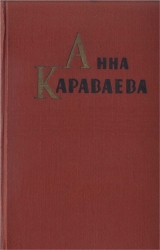
Текст книги "Собрание сочинений. Том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице"
Автор книги: Анна Караваева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 34 страниц)
Пока Марья Николаевна грустила над письмом к сестре в Питер, в низкую почернелую от дыма избу набирался рабочий люд – барнаульского завода мастеровые.
Изба была большая, в десять тусклых, подслеповатых окон. Огромная, облупившаяся, годами не беленная печь, скрипучие полати, широкие лавки – просто еле пообтесанные плахи, приколоченные к толстым обрубкам, длинный некрашеный, корявый стол, темно-коричневые, как старая кора, доски божницы в углу с пустой болтушкой засиженной мухами лампады, где неизвестно когда и было масло, полки по стенам с деревянной посудой – все потеряло свой цвет, обгорело, закоптело матерой, въевшейся копотью от лучинных дымных вечеров.
Дебелая проворная стряпуха людской избы Варвара Журина, тыкая пальцем, считала приходивших. Голос у ней был по-базарному напевно-звонок: овдовев, несколько лет она, вот так же зазывая, торговала сбитнем.
– Ну, все ль пришодши? Раз, два, три, четере… Ишо не пришодши все? Нетути кого-то, ребятушки… Как хошь, по сту раз шти из печи не потащу. Ишо пришли? Пять, шесть, семь. Фу-ты, пропасть!
Чей-то насмешливый голос крикнул:
– Чо шарами-то зыришь? Еграшку ждешь? Скоро придет, не вой!
Стряпуха бойко огрызнулась:
– Дьяволы-ы! Прости меня, владыко, а ладно бы типуны вам на языки-то. Над убогоньким-то зубы скалят…
– Хо-хо, Варварушка! Юбкой его прикроешь, ни-че-е!
– Пригреет мамонька детенышка. Ха-ха-ха!
Тех, кому на долгий или короткий срок доставалась Варварина забота и любовь, называли детенышами.
Когда отходила она от одного и брала под свое любовно-жалостливое крыло другого, отвергнутый в очень редких случаях жаловался и сердился, так просто все это кончалось. Варвара вздыхала тогда своей большой грудью и выговаривала укоризненно:
– Эка-ай! Что губу дуешь? Аль я для тебя одного? Жисть у нас злая-я, всех вить надо угреть, а греть некому, окромя меня… Обшила тебя, обмыла, ишь даже малость с рыла поправился… ну, и поди, поди с богушком, поди…
Она так и говорила «угреть». Сейчас около нее, теплой, большегрудой, звонкоголосой, отогревалась угасающая жизнь плотника Евграфа Пыркина. Его-то и дожидалась Варварушка, не хотела подавать ужин без него.
Пришел Евграф, тонкий, кашляющий, ссутуленный злой болезнью. Ел плохо, хотя Варвара выбирала сама из миски лучшие куски мяса.
– Ешь, мила-ай! Ешь да оздоравливай!
Ели из огромной деревянной миски. Почти враз опускали ложки, хлебали истово, сосредоточенно жуя, молча передавали нож друг другу и поочередно кромсали коврижину пахучего высокого хлеба. Ели много с угрюмой жадностью крепко уставших людей.
Поев, бездумно перекрестились на темноту божницы и разбрелись кто на печь, кто на полати.
Возились, кряхтели, укладываясь поудобнее, развесили пропотелые, промокшие за день онучи и пимы, блаженно вытягивали намученные до дрожи руки и ноги, самозабвенно затягивались махоркой. Одни кашляли, другие дышали ровно выносливой, как наковальня, мужицкой грудью, будто не чуя удушливого воздуха человеческой загнанной жизни.
За занавеской, в углу за печкой, надрывно кашлял Евграф Пыркин. Его успокаивал теплый голос Варвары:
– Маешься? Ляг на спинку, смажу тебя, мазь у меня есть пихтовая… Лекарь для ноги давал, поди и тут подойдет. Ложися, ложися… Та-ак! Ну, спи, убогушка моя малая!
Пахучая мазь раздражала больному горло. Евграф закашлял еще сильнее, перекатываясь на старом Вар-варушкином пуховике.
– Худо, Евграфушка? Дай-кось, прилягу с тобой.
Мягкой бабьей рукой прижала Варварушка потную голову Пыркина к пышной груди, другой рукой гладила острые его плечи, худую спину, густые, курчавые волосы – все, что осталось у Евграфа от былого здоровья. Материнское тепло шло от ее тела, пахло вымытым чистым холстом, – обиходная была баба Варварушка. И приутих кашель Евграфа. Перестало знобить тело Евграфа Пыркина, легко стало на душе – грело его обильное, радостное здоровье, неизбывная бабья жалость. Как к единственному в мире прибежищу, прибегал к ней, шептал, глотая подкатывающиеся к горлу слезы:
– Варварушка, родна-ая!.. Жив вить я буду… а? Как думаешь? Оживею? А как оживею, в горы убегу, на Бухтарму… Вот те крест!
А Варвара поддакивала:
– Ну, ну… Ладно-о! Спи, спи!
Свеся длинные ноги, Василий Шубников, мастеровой из плавильни, ворчал себе под нос:
– Возятся опять! Ишь!..
Он чутко и ревниво прислушивался к тихому разговору за занавеской. Ныла в сердце упрямая тоска по Варваре. До Пыркина он, Василий, лежал за занавеской. Болел тогда ногами, и Варвара его вылечила. Его же мазью мазала сейчас и Пыркина. И тоска колет, и смешно, и нельзя никак разорвать эту шепчущую тишину.
Огромный, кудлатый, с исклеванным оспой лицом, старик Марей Осипов вытянулся во всю длину, вздохнул глубоко широченной грудью, – словно поднялись большие кузнечные меха, – и заговорил неторопливо:
– Когда-то господь приведет домой попасть? Два ста возов бревен припер с осени. На зорьке собирался, а лишь к лучине назад вертался. Когда и отпустят? Грехи наши! И вот думаю, куды в прорву столько топлива уходит?
Сеньча Кукорев, вертлявый, черноватый, всегда озабоченный и озлобленный забияка, отозвался надтреснутым тенором:
– Эко! Куд-ды! Мы таскаем, потеем, а кому, глядишь, вольготно от этого самого… В плавильне-то наша силушка, наша кровушка, а много золота-то мы видим?
Марей сбросил с шеи большого черного таракана (стряпуха их не выводила – счастье приносят) и замотал головой.
– Не видим. Откудова нам!
Сеньча, поднимая вверх худые плечи в пропотелой холстине, обводил всех горящими глазами. Он смутно видел лица в неверном свете лучины, но угадывал их выражение.
– Пошто так? А? Поп вычитывал: люди-де человеки все-де одно, однояки для бога-отца на небесах. Мне вон наши ноне передавали вестку: баба знакомая ноне родила в избе одна, а ребенка свинья подъела… У нас селишко-то в Бикатуньской [15]15
Нынешний Бийский район и часть нынешней Горно-Алтайской области.
[Закрыть]стороне стоит как попало, избы далече… Ну, кто услышит? Баба ребенка выронила, свинья подъела… Мужик для золота работает… Кому любо? Мне? Бабе? Не-е! Дудки-и! Жене мачальниковой любо.
Марей сказал сурово:
– Ты не ори – стражник услышит.
Сеньча отмахнулся:
– А ну их! Беспременно начальниковой жене любо. Нам вот еле-еле дыхнуть… А вчерась встрелась она мне в улице. Коней пара, сани в коврах, позади пара холопей в белых волосьях, кучерина-то орет: па-ади! Еле я увернулся, пропади они все!.. А она сидит, как иконка, все для ее сготовлено… А моя баба худая да больная тает, трудно ей одной в деревне…
Марей Осипов сказал важно-сурово, как печать поставил:
– Сколь этта тыщей годов люди на свете живут? А все, видно, жисть не устроена.
Сеньча хрипло выругался.
– Не нами жисть строится… Спина только нашинска-а!
Зотик Шушин, низенький, крепко сбитый, сморкнулся на пол и хихикнул:
– Посадют тебя, Сеньча, на гауптвахту когда-нибудь… Пра-а! Шибко уж ты небоязной. Вспомянешь тогда меня. Больно язык-то у тебя верток.
– Поди-ка попробуй наябедить, а я тебе потом ребра сломаю.
– Пошто ябедить? Кто ссору да драчу любит? Оба мы с тобой в шлесарне корпим, что нам делить-то?
Сеньча проворчал сквозь зубы:
– А ты тишней не будь. Ласков больно…
Зотик Шушин вздохнул и жалобно кашлянул.
– Нас, родно-ой, бурмистр школил. У-y, ка-ак школи-ил! Завсегда с плеткой ходил, верной женой ее называл. Чуть кто против шикнет, чичас тя р-раз! Когда нас с Андроном драли, сам барин наш, граф Тупицын, глядеть на конюшню пришел. Стоит, трубочку покуривает, а нас дерут. Меня первого драли, я уж замертво, тогда за Андрона взялись. Андрон-то у нас вона вить сухущий, чисто щепка лежит, сам синий. А барин покрикивает: «Стегай, егерь, пусть дурак крепче помнит!» Во-от, родно-ой!.. Отлежались мы – и дралу! Пробралися в Сибирь, вот и живем, пока не биты, оттого и нрав стал веселее, – рассказывал Зотик.
Сеньча злобно фукнул в кулак:
– Не-е бит-ты! Вот попробуй на Бухтарму [16]16
От невыносимых условий труда мастеровые убегали на Бухтарму или «в каминки», т. е. в горы. С пойманными жестоко расправлялись.
[Закрыть]али в горы убежать, да штобы потом словили, тогда почище графского бить будут, и сразу в рай душа полетит!
Андрон Шушин, старший брат, сухожильный, длинный. с огромными руками молотобойца, забасил глухо, будто из-под пола:
– Кто кнута дожидаться станет? Будя! Мы легкости искали, мы для пашни сюда шли, для пашни… да… Земли-то здеся! У нас с Зотиком пашня… пять десятков десятин… Сколь силы было, столь и понатыкал колышков. С разметки-то без ног пришел, а пашенку-то каку облюбовал… господи!
Зотик повторил:
– Пашенка-то… господи!
Голос у Андрона, когда говорил о пашне, становился мягче, глубже.
– Земля-то пух! Возьмешь на ладоньку, дунешь – пух и пух! Ч-че-орная! Ж-жир такой в ей! Ходить бы за сошкой да засеять голубушку-земельку всю без остаточка! ох… во сне пашня снится!..
Зотик, как верный отголосок, повторил:
– Снится пашня… Бабы у нас там только. Сколь они вспашут? Десятка десятин не спроворить бабьей силой.
Андрон хрустнул пальцами:
– Рази я ведал, какое дело в схожие [17]17
Схожие люди – крестьяне, которые были обязаны в счет оброка в определенное время являться на завод и исполнять различные работы.
[Закрыть]люди попасть? Я бы черту душу продал, а откупился бы! А вот теперя пашня ждет… а мы тута толчемся. Покой я потерял! Пашня снится… лежит без толку земля пуховая, жирная…
– Подавись! – насмешливо бросил Сеньча.
Андрон длинно выругался, часто задышав, сразу замолк. Вскоре оба они с Зотиком храпели.
Марей Осипов зевнул и сказал густым своим четким голосом:
– И куда начальству народу столь надо? В нашей Белоярской слободе все до малого приписные [18]18
Приписные – крестьяне, постоянная запасная рабочая сила, которую в любое время брали на заводские работы изо всей Барнаульской округи. Приказ о приписных крестьянах был дан во время управления бригадира Андрея Бейера, одного из беспощадных эксплуататоров среди целого ряда начальников Колывано-Воскресенских (т. е. Алтайских) заводов. Бейер в 1747 году после ревизии приписал Демидовские заводы в царскую казну, «в кабинет ее величества Елизаветы Петровны». Уезды Бийской, Барнаульский, часть Ойротской области имели десятки тысяч таких приписных крестьян. Как приписные, так и схожие крестьяне работали в счет оброка, т. е. фактически даром. Путешественник Паллас в 1769 г. отмечает 40 000 таких крестьян. К концу XVIII века число их еще возросло.
[Закрыть].
Кашляющий голос ответил:
– Не сразу эту погань выдумали. Я ишо помню, как тута одни только ссылошные работали… мальчонком я тогда был…
Это полупараличный старик Чувашев свесил с полатей большую в путаной густой седине голову и затряс длинной бородой.
– Это с Бейдира [19]19
Бейера.
[Закрыть]пошло. Сюды он блигадиром приехал, а в могилу генерал-майором сошел. Он приказ такой издал. О-ох, собака был цепная, а не человек! Столь при ём беглых было! Отяготил он людей… С тех пор тягота и идет… Земли здесь уйма пропадает!
Марей заговорил больше для себя, чем для других:
– Тягота-а! Домой приедешь, тож сладости нетути. Девки у меня невесты, а как выдам? Кто на земле останется? Парень есть, под тридцать ему, гляди, а какой толк? Надселся на работе, брюхо надорвал, еле жив, все на печке валяется. Помер бы уж, што ль… Девкам замуж охота, к двадцати обеим… Реву-ут! А как выдать? Кто на земле будет, коли меня самого сюды трясут?.. В конторе обещали – отпустят-де скоро.
Сеньча, закутываясь в драный овчинный тулупчик, сказал еще злее:
– Вы, грят, вольные… Ан нетути-и!.. С кровопийцами живем. Заводы, рудники-те, пла-виль-ня золотая да серебряная, вот кровушку-то нашу кто сосет… Золото для монетки царской… Дьяволы-ы!
Гасла лучина. Падали в кадушку с водой мелкие угли.
Варвара вышла из-за занавески, задула огонь и приказала грозным шепотом:
– Молчи-ко ты, Сеньча! Дрыхни!
И опять легла рядом с Евграфом, грея его, крепко уснувшего у ее груди.
Все заснули, и только тяжелый храп нарушал горькую тишину мастеровой избы, да шуршали усатые тараканы – ели крошки на столе.
На дворе в морозном воздухе простуженными голосами перекликались сторожа у заводских стен.
А Евграфу Пыркину снилось, что он здоров, весел и силен, как и пять лет тому назад, когда пришел в Барнаульский завод работать поташником. Видел себя Евграф в раскольничьем своем поселке, на лугу, рядом с краснощекой певуньей, сестрой Дарькой.
Косит Евграф высокую, блестящую от недавнего дождя траву, поет в руках его сила, коса высоко взлетает, и трава ложится покорно у ног, пестрая и пахучая от цветов.
Радуется во сне Евграф Пыркин и даже малой думкой не вспоминает о мутном утре, когда тело будет корежить мучительный кашель, а сердобольная, ласковая Варварушка будет вытирать кровавую пену с синих дрожащих губ, приговаривая:
– Несчастненько-ой ты мо-ой!
Город Барнаул – место тихое и для трудов благоприятноеГаврила Семеныч только кончил писать письмо приятелю – генералу в столицу. Снял очки с высокого переносья и с довольным видом посмотрел на жену.
– Выразился я сейчас так: живу я в месте тихом и для трудов благоприятном, с богатейшей природой на округе, что место сие великую пользу отечеству своим металлом приносит, а я от сего удовлетворен в полной мере.
Заходил большими шагами по ковру, то и дело втягивая ноздрей душистый зеленый табак из золотой табакерки.
– Они там в столицах думают, что ежели я гордый и несговорный нрав иногда имею, так уж ни на что и не гожусь. И-и, шалишь!.. От императора, как и от государыни императрицы, в бозе почившей, благодарность также получал. Продукция наша в гору идет, Машенька, в гору! Нынешний год мы на много десятков пудов больше руды добыли, а следовательно и серебра. У-у! Я приказал никому спуску не давать. Ни-ка-ких беглых, чтоб духу не слыхать. Наш Колывано-Воскресенский батальон государству службу несет вер-рно, а все непокорные наказание строгое понесут.
Марья Николаевна в кресле у окна разбирала шелка для куска бархата в пяльцах. Подняла голову, плохо слушая знакомые разговоры, и сказала, щуря голубые, искусно подведенные сурьмой глаза:
– День какой сегодня знаменитый, мой друг!
– Может, прокатиться желаешь?
– Да, да!.. Веринька, приготовь туалеты! Да сама одевайся.
– Каждый раз берешь ее…
– Но, mon ami… я люблю, чтоб бок у меня был от ветру защищен, боюсь простуды ужасно, а девчонка как раз и сядет сбоку.
Над плотиной и голубым, сверкающим на солнце прудом черный едкий дым туманно-грязной полосой уходит за зеленые гребни Барнаульского бора на другой стороне.
Из-за черных прокопченных заводских заборов рвался сквозь голые березы на снега перебойный разноголосый шум: визг и вой лесопилки, скрипы железа о камень из шлифовальной, гул молота и гулкие взрывы дыма из труб плавильного завода.
Возле заплеванного крыльца гауптвахты седой инвалид с красным носом вытянулся во фронт.
Марья Николаевна покачала головой.
– Как его трясет!
Гаврила Семеныч ответил рассеянно:
– К новой форме не привык. У мундирчика суконце, видно, плохо греет, вот он и подрагивает. Ха-ха! Смотри. Машенька, лекарша в какую шляпку вырядилась. Перо розовое, а шляпка рыжая, коробом… Ей богу, в дни моей юности такие носили, а она сейчас расфуфырилась!.. Ах, мимо нас она…
– Bonjour, bonjour, madame Pikardot! [20]20
Добрый день, госпожа Пикардо! (франц.).
[Закрыть]Уф, чуть не прыснул, еле удержался! Regarde, chérie! Les soldats! [21]21
Смотри, милая, солдаты! (франц.).
[Закрыть]Бравые ребята. Каково в строю стоят! Cʼest parfaitement beau! [22]22
Это исключительно красиво! (франц.).
[Закрыть]
На соборной площади шло пешее ученье. Две роты выстроились в каре. Издали они походили на квадратный излом высокой зеленой изгороди из длинных прямых прутьев.
Подъедешь ближе – пятна лиц, повернутых в одну сторону, тесный строй зеленых мундиров, внизу чернота узких сапог, убийственно одинаковый раздвиг носков под острым углом, недвижных, будто вросших в снег.
Молоденький офицер, увидев главного начальника заводов, откинул назад тонкий стан, обтянутый зеленым сукном с позументом, и, срывая звонкий тенор, крикнул:
– Во-о фрунт!
По рядам, с мертвыми черными углами раздвинутых носков, пробежала дрожь. Лица повернулись прямо. Мгновенно взблеснули штыки – и снова все стало мертвым ранжиром: зеленое – мундиры, белое – лосиные штаны, черное – сапоги. Колывано-Воскресенский гарнизон выстроился для ежедневного ученья.
Шла маршировка. Молоденький офицер, встряхивая черным бантиком косицы, то отступая негнущимися ногами назад, то приступая ближе к мерно вышагивающей зеленомундирной массе, кричал хрипло:
– Носки вр-розь! Маршировать! Вы-тя-нуть колено! Ать… два! Ать… два! Ружье креп-че!.. Поворот лучше! По-во-рот!.. Носки!.. Ранжир соблюдать!..
Седой унтер, широко разевая беззубый рот, озверело вращал моргающими глазами, хищно впиваясь быстрым взглядом в каждое безгласное лицо:
– Брю-хо держи!.. брю-хо!.. Сучий сын!.. Ногу!.. ногу!..
Дробно, сухо стрекотал барабан. Скрипел морозный снег под тяжелыми размеренными шагами. Часть роты стояла на месте. Крайний, самый ближний солдат отбросил на сияющую белизну снега трепещущую тень.
Степан Шурьгин стоял на запятках за лентами и кружевом Веринькиного уже потасканного нарядного капора, обноска Марьи Николаевны; не выдержал и незаметно, будто поправляя гетру, наклонился к порозовевшей щеке, шепнул горячо:
– Солдатушко-то обморозился весь… господи!
Веринька вздрогнула. Обернула осторожно лицо к его горящему взгляду (Гаврила Семеныч и Марья Николаевна загляделись на ученье) и прошептала, сжав в муфте маленькие руки:
– Несчастный… замерзнет он!
И она испуганно посмотрела на солдата. А он стоял, крепкотелый, деревенский; мундир был ему узок, рукава коротки, тонкие рукавички из облезлой армейской шерсти доходили только до половины большой руки – такая играючи ляжет на соху. Щеки и уши его побелели, а глаза смотрели, почти не моргая, в одну точку. Он дрожал заячьей, робкой дрожью, порой подламывая колена и вновь испуганно вытягиваясь.
Барабан вдруг смолк. Молоденький офицер застыл на месте. На караковом английском скакуне подъехал майор Тучков. Ярко-зеленый мундир, с цветным сукном воротника и обшлагов, с золотой игрой галуна, ловко сидел на его будто пополневшей фигуре – внизу под узким мундиром майор носил тончайшей выделки меховую овчинную курточку.
Он изысканно-величаво поклонился Качкам, мельком покосясь глазом на неуклюжую фигурку в потрепанном капоре. Кивнув офицеру, майор поиграл хлыстиком, заговорил громко, в нос, с уничтожающим спокойствием:
– Экзерцицию, сударь мой, вести не умеете. Под ружьем у вас люди не ходят, а трусят, как одры. Маршировка негодная. Ногу надо на носок, а у вас на каблуки опускают… Не знаете вы приемов новейших, милостивый государь мой!.. Расстояние между рядами не только что не удовлетворительное, а даже неверное… Надо: расстояние на одну лошадь, а где у вас сие? Стоят как попало. Плохо, государь мой, плохо!..
Гаврила Семеныч, давясь от смеха, шепнул жене:
– Офицерик-то у обербергмейстера [23]23
Обербергмейстер – один из главных чинов на Колывано-Воскресенских заводах. Каждый обербергмейстер имел свой район: Павловский, Бийский и др.
[Закрыть]вчерась Тучкова в карты обыграл. Вот он, каналья, и показывает ему. Ах, л-ловкий, подлец, знает, где руку приложить.
Будто заводная, как строй деревянных больших кукол, маршировала рота. Офицерик, подняв голову, потерянно смотрел вверх. Тучков, поднимая черные густые брови, с грозными передышками между словами, выводил язвительно:
– Где вид бодрой у солдата? Какова у них позитура? Разве сие солдатская позитура? Разве так корпус держать надобно? А? Я вас спрашиваю, государь мой!
Офицер мотнул головой, выронил шляпу, поднял ее и почти крикнул:
– Фуфаек теплых еще не выдали.
Тучков откинулся на седле, готовясь разразиться громовым смехом. Вдруг произошло что-то странное.
От края каре отделилась фигура в зеленом мундире и со страшными ужимками запрыгала на снегу.
Это солдат, что стоял с краю, теперь прыгал и метался на хрустком снегу.
– У-у-у!.. Поми-и-ра-а-ю!.. У-у-у-у! Хо-о-ло-од-но-о!
Рота встала, сбившись, будто потеряв весь механизм экзерциции по новому уставу. Оказалось, что все они разные: высокие, низенькие, худые…
Тучков одним скоком подлетел к безумно прыгающему человеку. Пришпоренная лошадь занесла над ним копыта. Солдат увернулся, не глядя, и в блаженном самозабвении кружился и метался из стороны в сторону, яростно хлопая себя по бокам и спине.
Тучков загремел:
– В стр-рой!.. Мер-рза-вец!.. Ну!..
Солдат кружился.
Тучков поднял хлыст и изо всей силы ударил солдата. На белой солдатской щеке проступила синяя полоса. И вдруг вся площадь ахнула.
Солдат подскочил, щелкая зубами, вырвал за конец хлыст из рук майора и ударил по лаковому голенищу майорского сапога. Страшный, с бело-сизым лицом, солдат сжал кулаки, размахивая ими, как в бреду. Лицо его сводило от дрожи. Он закричал дико и гулко:
– Нету… нету меня! Я смерз… У-y!.. Прокля-т-тые!.. Помер я!.. Помер… Слышь, дьявол? Ноги у меня игде-е… У-y холодно-о-о! Братики-и-и! Вчерась я поморозился, сегодня опять гонют!.. Больно мне… бо-оль-но-о!..
И солдат побежал, прыгая, как безумный.
Тучков опомнился, пересек дорогу и, нагнувшись с седла, схватил на лету за воротник сразу обессилевшее тело. Раздув ноздри и весь дрожа, гаркнул:
– На гаупт-вах-ту! Ж-жив-во! Эй, унтер!
Подскочили два унтера с ружьями наперевес – и большой человек в разорванном зеленом мундире, полупадая, пошел между ними. Его лицо с остекленевшими глазами дергалось гримасой не то смеха, не то плача.
Они исчезли за углом к гауптвахте.
И снова, как заводной строй больших деревянных кукол в зеленых мундирах, замаршировали роты.
Гаврила Семеныч, покусывая губы, опустил глаза в овчинный воротник своей шубы.
Марья Николаевна, не сдержав невольной дрожи, задела мужа локтем. Гаврила Семеныч изумленно поднял бровь.
– Quʼavez vous, chère épouse? [24]24
Что с тобой, супруга дорогая? (франц.).
[Закрыть]У-y, и губки трясутся. – Chose si ordinaire, que faire! [25]25
Вещь обыкновенная, что делать?! (франц).
[Закрыть]
И вдруг резко обернулся назад к Степану:
– А ты что колотишься, а? Даже решетку трясет… дурья башка! Перестань… ну!
Степан весь дергался неодолимой жуткой дрожью. Остановившимся воспаленным взглядом он впился в плотную статную фигуру майора Тучкова в теплом зеленом мундире.
– Я думаю, это саночки наши, что ль, в ветхость пришли, и решетка отлететь хочет, а это – ты!.. Тоже волненье душевное изображает! Ну, что ты? Ну? Перестань! Скажут люди, что господа – грибы старые, коли слуга себя держать не умеет… Перестань же! Ну!
Степан выговорил, стуча зубами и отводя взгляд:
– С-слушаю-с…
Гаврила Семеныч хотел еще раз кивнуть погрознее, сдвинул к носу брови и вдруг отодвинулся в угол: из-под побелевших ресниц Степана Шурьгина метнулся жгучий лучик, тонкий, как раскаленная игла, метнулся, как молния, и погас.
Гаврила Семеныч растерялся. Пожевал дряблые губы и хмуро бросил в широкую, сборчатую и безмолвную спину кучера:
– Домой!
Вслед же с площади неслось унтер-офицерское:
– Н-на м-мо-лит-ву! Повзвод-но, стр-ройсь!
Веринька глянула сбоку на Степана и замерла на миг, чувствуя, что никогда не забудет его лица. Серые его глаза от расширившихся зрачков стали черными, светящимися, точно отражали в себе далекий пожар. Губы сжались плотно, темной скорбной тропой легли на лице, иссиня-бледном, с запавшими сразу щеками, с дрожью мускулов на висках. Его упорный взгляд глядел мимо всего, будто силился увидеть что-то неведомое и недоступное другим.
Молча доехали до дому.
Прислуживая за обедом, Веринька много раз прижимала трепетную руку к бешено бьющемуся сердцу – за столом говорили о Степане.
Горный ревизор, остроносый, розовый, как вербный херувим, морщил пренебрежительно смешливо вздутые губы под белокурыми усами. Он выпил лишнее и потому то и дело обмахивался маленьким перламутровым веером, старательно оберегая надо лбом гладкий высокий начес своего модного парика. Женственно-мягким голосом горный ревизор говорил лениво и скучающе:
– Дай бог сие тяжелое время прожить со спокойной душою. Емелькино дело память о себе средь черни нашей оставило… Сие несомненно… И наши плебеи при малейшем послаблении готовы господина уязвить всяческой грубостью.
Гаврила Семеныч, со страстью гастронома прожевывая кусочек маринованной почки и торопливо глотая, возмущенно подтверждал:
– Eh bien! Notre ésclave! [26]26
Ну вот!.. Наш раб! (франц.).
[Закрыть]Как он на меня гля-я-ну-ул! Мне просто даже неловко сделалось. Подумайте, что беззаконнее сего: солдат не повинуется на ученье начальству оттого, что, изволите видеть, он заме-ерз?.. Зимы у нас здесь прежестокие, но ты, как солдат, должен моление и просьбу покорную изобразить. А он, мерзавец, кидаться на начальника!
Марья Николаевна испуганно вздохнула, покачала локонами:
– Ах, такие страсти! Майор побледнел смертельно от обиды…
Гаврила Семеныч досадливо отмахнулся:
– Не о том ты совсем, мой друг. Майор посердится и перестанет. Но ведь сие на остальных действие пренеприятное производит, ведь рота вмиг весь ранжир свой потеряла… И мой гайдук, глядя на сие, взгляд волчий посылает господину своему. Ныне я ему простил, ибо спокойствием своим весьма дорожу. Н-но на будущее время я запомню!
Горный ревизор снисходительно улыбнулся, щекоча себе щеку веером.
– Я мыслю, вы сейчас, милостивый государь мой, Гаврила Семеныч, со мной согласитесь. Не вспомните ль, я с вами как-то рассуждение имел о заразе якобинского духа?
Марья Николаевна, заткнув уши, воскликнула:
– Ох, якобинцы! Страсти какие!..
– Машенька, за лучшее для тебя сочту в разговорах о политических материях не участвовать.
Гаврила Семеныч пожевал губами и поднял брови.
– Да-а… пожалуй, Владимир Никитич, ваше рассуждение над моим больше силы имеет. Действительно, зараза сия велика и опасна. Я еще понимаю… городское сословие или даже молодежь дворянская может сим учением, по неразумению, увлечься… Но чернь…
– Я вам случай приведу прелюбопытный, сие со мной случилось в Петербурге. Выхожу я из балета, мне карету мою кричат; вдруг слышу разговор в стороне. Две чуйки, верно люди чьи-то, говорят: «А ты слыхал, что французы своему королю голову отрубили, а дворян выгнали?» Меня мороз по коже, понимаете?.. Вот вам и учение якобинства… В том и демонские свойства его, что грамотой и знаниями великими для приятия сего обладать не обязательно.
Гаврила Семеныч аккуратно резал мясо на мелкие кусочки (пуще всего плохого пищеварения боялся) и сокрушенно качал головой.
– Да… да!.. Присовокупить еще к сему Емелькино дело… Придется нам строгими мерами против соглашения черни меж собой бороться.
– A-а!.. рассуждение мое жизнью самой подтверждается. Так-то, добрейший мой Гаврила Семеныч. Солдат по закону наказывается, а ваш гайдук взгляды ужасные безнаказанно мечет. Недаром государь император заразы сей так ревниво остерегается. Верно мой сиятельный дядюшка как-то выразился: хорошо, что для мужика – церквей и попов в избытке, а школ в скудости.
– А ведь верно, любезный мой, верно! Я чаю, дядюшка ваш человек весьма остроумный. Вот относительно сего мудрого замечания о церквах… Ох, все мы способы применяем о насаждении должного духа православия среди крестьян наших заводских [27]27
Заводские крестьяне при обилии земли на Алтае селились без плана, как попало, небольшими селениями, иногда очень далеко отстоявшими друг от друга. Священники иногда только раз в году приезжали в такую деревню или село, так как церквей было мало. В такие наезды гуртом – «огулом» – справлялись все требы: за умерших, за родившихся, за брачущихся и т. д. Не удивительно, что заводские крестьяне «особого прилежания» к вере не чувствовали.
[Закрыть]. Пастырями мы не богаты, церквами тоже… увы!.. Посему крестьянин наш с самым черствейшим охлаждением к вере в творца относится.
Веринька вздохнула свободнее: разговор переходил на другое. Насильно улыбаясь, она подала сладкое.
Марья Николаевна тут нашла случай вступиться в разговор. Капризно надула губы и, бросив короткий и нежный взгляд на горного ревизора, сказала:
– Я же так умереть могу от скуки от сих страшных разговоров. Ежели тебе, Габриэль, мои чувства безразличны, так, чаятельно мне, наш друг Владимир Никитич внимание мне окажет.
Владимир Никитич в ответ на влюбленный взгляд голубых, тонко подведенных сурьмой, глаз грациозно сделал ручкой.
– В самом деле, Гаврила Семеныч, правило ваше драгоценное не забудьте – за сладостью думать и рассуждать только о приятном. Да и злоупотреблять терпением дамы более нахожу неудобным.
Марья Николаевна, млея сорокалетней, слишком полнокровной страстью и носком туфли нажимая на башмак горного ревизора, полузакрыла голубые, уже отцветающие глаза:
– А-ах, звуков мелодических душа просит, Владимир Никитич, порадуйте нас – вы ведь поэзии знаток отменный!
Гость встал, чуть пошатываясь и щуря посоловелые глаза, поднял стакан с вином:
Вот злато-кипрское вино.
За здравье выпьем светловласных,
Как сердцу сладостно оно
Нам с поцелуем уст прекрасных!
Ты тож, белянка, хороша,
Так поцелуй меня, душа!
Марья Николаевна стыдливо и лукаво опустила голову на грудь: она знала, что ее золотистые волосы еще очень хороши и Владимир Никитич предпочитает ее голову на своем плече видеть не в парике, а в «натуральном виде».
Гаврила же Семеныч сказал влюбленно:
– Анакреон российский! Я чаю, он во многом превосходит западных Пиндаров! А сколько в нем доброжелательности! Я имел случай приятный познакомиться с ним в дни молодости моей. Ах, сколь величав он, певец Фелицы!
Марья Николаевна нетерпеливо дернула плечом, пленительно открытым для горного ревизора:
– Ох, да будет тебе, Гаврила Семеныч! Мемуары разводить вздумал.
Гаврила Семеныч добродушно отмахнулся:
– Замолкаю покорно. Ежели жена цезаря желает, цезарь должен уступить.
Марья Николаевна, как девочка, хлопала в ладоши:
– Еще, еще! Обожаю стихи!
Владимир Никитич поднял на миг глаза к потолку и начал снова:
В графинах вина, пунш, блистая.
То льдом, то искрами манят.
С курильниц благовонья льются.
Плоды среди корзин смеются.
Не смеют слуги и дохнуть;
Тебя стола вкруг ожидая,
Хозяйка статная, младая
Готова руку протянуть.
Он скромно сел, обмахивая веером красное лицо.
Марья Николаевна, отодвигая хрустальную тарелочку с недоеденным мороженым, вскрикнула пылко:
– Ах, сколь прекрасно!
И наградила любовника обещающим взглядом.
Гаврила Семеныч, тайком расстегивая нижнюю пуговицу жилета, блаженно вздохнул:
– О, сколь он нам родной, Гаврила Романыч, наш несравненный пиита!
У двери жалась худенькая девичья фигура с остывающим страхом в синих глазах. Гаврила Семеныч, мельком глянув на бледность девичьего лица, бросил ей недовольно:
– Ну, а ты что? Господи, все дуется, как мышь на крупу.
Вспомнил сегодняшний случай со Степаном, хотел сказать что-то строже и резче, но подумал вдруг, что приглашен сегодня вечером на бостон к обербергмейстеру. У обербергмейстера в карточные вечера чудный пунш и великолепное заливное из нарымской осетрины. Гаврила Семеныч поэтому совсем повеселел и даже затянул дребезжащим баритонцем:
Ремонтных дел мастер Репьев, круглотелый, низенький, точь-в-точь пивной бочонок, в светло-горохового цвета чистеньком меховом архалучке, возмущенно таращил спрятавшиеся в пухлых щеках рысьи глазки и грозно сжимал красный волосатый кулак:
– Ш-ш… вы! Ш-ш… говорю! Сво-ло-очь!.. Жало-биться буду… Чо башками трясете, дьяволы?.. Пойдете вот работать, и все тут… Марш! Ну-кась.
Толпа вдруг грозно застонала. Выбросились вверх десятки темных кулаков, с обветренной, истрескавшейся кожей, где в трещины и ссадины непромывно, черными змейками залегла грязь; закачались взлохмаченные, редко знающие гребень волосы, сивые, совсем седые… В морозном воздухе рвались голоса:
– Дьявол широкопасто-ой!
– Не пойдем на плотину!
– Не пойдем!
– Подавай деньги!
– Вер-р-на-а! Подавай плату!
– Язва-а! Паскуда жирная! Не пойдем робить!
Репьев затопал ногами в высоких сапогах на меху с барашковой оторочкой.
– Обалдели вы! Робить не пойдете… ха! Да я ведь подряд взял через два дня все изладить!.. Аль подвести меня охота?
Вылетел вперед, будто выплясывая, Сеньча Кукорев, перекосил усмешливо злой гримасой темнокожее лицо. Он давился смехом и длинным пальцем тыкал почти в самое репьевское пузо.
– У-ух ты! Батюшки мои-и! Ну, не смешило ли ты, копеешна душа-а? Подведете, бает… А кого же и подводить-то, окромя тебя, язви тя в пятку!
Грохнула толпа:
– О-хо-хо-хо-хо-о-о!
Сеньча вдруг выпрямился, сощурил колючие глаза, упер руки в бока и, выставив вперед худую ногу в обтрепанных обмотках и распавшемся лаптишке, вдруг с каменным лицом спросил:








