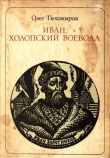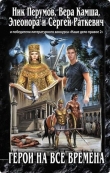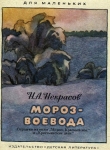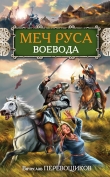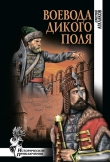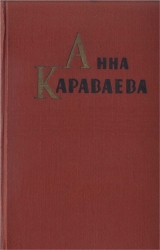
Текст книги "Собрание сочинений. Том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице"
Автор книги: Анна Караваева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 34 страниц)
– Ну, а «трещера» окаянная иде будет стоять? – нетерпеливо спросил воевода.
– Насупротив западной стены, воевода, тако я размышляю: дабы посередь стену пробивать, – отвечал Федор, – ляхи чают в самое сердцевое место боем огненным стрелять, чтоб стены до времени порушить можно было. Думаю я, воевода…
– Буде! – грубо прервал князь Григорий. – Развякался больно! Уж не в меру говорлив ты, пушкарь. Наперед бояр с мужицким рылом своим суешься…
Воевода еще поорал, отводя душу, а потом приказал приготовить все на стенах, а затемно пойти опять «на проведку», чтобы точно узнать, сколько у врагов пушек и пищалей.
– Вот, возьми его! – говорил спустя час Федор Шилов; в басовитом его голосе звучали презрение и обида. – Гляди, еще мало поработали мы с тобой, Данилушко. Внове на проведки пойдем, смертушки понюхаем, – ить по чужу голову идти – свою нести. А воротимся – и словом добрым нас не приветят.
– Эко-сь!.. – усмехнулся Данила. – Кто над нами, те все с рогами. А смерть все дни за нами ходит… А если не привечают нас, грешных, господь с ними, с гордыней их, – мы для миру, для бога тщимся.
– Ладно, парень, ты еще мало смертей видал, – сказал Федор. – Вот воры да ляхи как учнут стрелять да бесперечь стены наши рушить – то-то о животе затоскуешь!
В ночь с 25 на 26 сентября Федор и Данила, переодетые, пробрались еще дальше в лагерь врагов и к утру принесли новые вести.
Вокруг Троице-Сергиевых стен собрано тридцать тысяч войска: ляхи, тушинские изменники и несколько казачьих полков. Предводители войск у них: Ян Сапега, Лисовский, князь Вишневецкий, Тышкевич и другие. Пушек и пищалей у врагов шестьдесят три.
Но в Троице-Сергиевой крепости разных пушек наберется около ста, в полтора раза больше.
Князь Григорий совсем «взыграл духом», похвалил «доглядчиков» за удачную «проведку» и приказал выдать обоим из своего погребца по жбану броженого кислого меду.
Обсасывая после медовой влаги длинные сивые усы, Федор сказал с задумчивой усмешкой:
– Истинно меда у князь-Григория знаменитые… однако, парень, способнее было б новы сапожонки мне пожаловать… Ну, да что ж – досталось молодцу от орла перышко – и тому радуйся… Пойду-кось я, сосну малость, иди и ты…
Федор пошел в пушкарскую избу, а Данила к себе. Проходя мимо Успенского собора, Данила увидел Тихонова Алексея, монастырского скорописца. Наклонившись вперед, Алексей слушал женщину в желтой душегрее и малиновом платке, наброшенном поверх парчовой шапочки. Данила увидел кончик черной брови – и сердце в нем забилось. В эту минуту Ольга обернулась. Данила замер на месте – глаза Ольги смотрели прямо на него.
– Поди, Алешенька, поди, братец, опосля изольюся пред тобою, – сказала она скорописцу, не спуская с Данилы притягивающего взгляда. Алексей отошел, а Данила, как во сне, коснулся ее руки. Она придвинулась к нему, и губы ее по-детски жалобно дрогнули. Данила вдруг заметил, что она осунулась, побледнела, а запавшие глаза, окруженные черными кольцами, лихорадочно блестели.
– Не бойсь… ноне уж не побежу… – и рот ее опять жалобно дернулся.
– Али занедужилось с перепугу-то? – робко спросил Данила. – Где место-то себе нашла, Ольга Никитишна?
– Есть место, да неулежно, свет ты мой!
– Аль хлад да ветер пробирает?
– Ох, свет ты мой недогадной! Нет, сердце мне спокоя не дает, дума головушку подымает…
Ольга на миг остановилась с искаженным лицом, закрыла глаза и стиснула грудь.
– Ой, нету моей моченьки постылого терпеть!
Она торопливо, как в бреду, стала рассказывать о своем муже.
– Постылой! Ненавистной! – бесслезно всхлипывала Ольга. Шумный табор человеческих несчастий, среди которого она шла эти дни, криками и стенаньями своими будто возбуждал в ней гнев и смелость.
Слаще бы ей смерть неминучая, чем жизнь с Осипом. По сиротству, по бедности окрутили ее за него. А она поддалась уговорам, надоело ей жить попреками дядьев и подачками большой золотошвеи. И будь она проклята, Варвара эта востроязыкая, бессовестная монашеская женка! Знал Осип, кого купить, – ведь у Варвары корысть душу съела. А уж у Осипа-то не душа, а отпетый торг-купилище, где только и слышно, как деньга звенит. Когда по улице стар и мал бежали к монастырю и пожарище уже достигало их дома, Осип еще бегал по сеням и горнице, собирая узлы. А Ольга только видела перед собой растворенную дверь и распахнутые настежь ворота. Она убежала в чем была, не слыша за собой яростных криков Осипа. Разыскав ее на монастырском дворе, он попрекал ее, что она-де не помогла мужу «кровное добро спасти», что она неблагодарная жена, которая «убегла, яко иноверица и бесстыдница, дому разорительница».
– А чего моего в том дому бывалося-осталося? – и глаза Ольги дерзко засияли. – Только и было там моего, что дума, слезьми омытая, да тоска по тебе, Данилушко… Видно, бог мне судил по ближности с тобою быть…
Ольга вдруг широко перекрестилась на позолоченные главы Успенского собора.
– Царица небесная, прости мя, грешную…
И, не успев снять со лба крепко сложенные пальцы правой руки, Ольга сказала одним духом:
– Вона, какой ты стал воннушко боевитой, заслонник ты наш, надежа верная!
Чему-то своему усмехнулась, подняла ресницы и глянула – как подарила.
– Ольгушенька!..
Данила, вдруг осмелев, протянул к ней руки, но она быстро отошла, скрылась, как сон.
Данила смотрел перед собой, еще с трудом понимая, как все это могло произойти. Он невольно украдкой ощупал себя: красно-рыжий стрелецкий кафтан, пожалованный воеводой Долгоруким, ловко охватывал его плечи и широкую твердую грудь.
Из-под навеса десятка четыре стрельцов тянули лямкой верховые пушки и мозжиры [85]85
Мортиры.
[Закрыть]. Высоченный детина в новом стрелецком кафтане (он был ему коротковат), возвышаясь над всеми льняной кудлатой головой, тянул канат и певуче-весело покрикивал:
– Э-э-ох-х, ребятушки, ишшо да ишшо!.. Э-эх, да навалимся разо-ок!
Данила ухватился за канат – и увидел Ивана Суету. Тот изумленно крикнул:
– Эвося! Данилушко!.. И ты в боецком деле робишь?
Когда стрельцы остановились передохнуть, Иван Суета ласковым шлепком широкой ладони огрел Данилу по загривку.
– Вот те и служка-монастырщик! То было да сплыло… Дай-кось, погляжу на тебя, боистой сокол! Ей-ей, воинствовать родила тебя мать твоя – уж буде тебе в иночьих рубах [86]86
Грубой одежде.
[Закрыть] задарма пропадать.
Иван Суета рассказал, что воеводы собирают на стены не только молодых и пожилых мужчин, но и крепких стариков. Никон Шилов и Слота тоже на стены ушли.
– А там, на стенах-то, Федор Шилов, пушкарь, нас на подмогу пушкарям и затинщикам поставил. Уж ведомы мне пушки: «медведь», «бык»…
– А мы с Федором-пушкарем уж дважды на проведки ходили и весь их устрой выглядели, – с невольной гордостью сказал Данила. Уже не в первый раз за эти несколько дней, что перевернули жизнь многих людей, Данила Селевин ловил себя на этом манященовом чувстве перемены. Да неужто это он, Данила, еще совсем недавно с покорностью выполнял любую, самую черную работу, которой даже многие постриженники избегали? Не ему ли, Даниле, казалось, что все другие пути в его жизни накрепко заказаны?
«Чудно! – подумал Данила, пробираясь между возами с крестьянскими пожитками и плачущими ребятишками. – Чудно!»
Едва он вышел к Успенскому собору, как увидел брата Осипа. Немытый, взлохмаченный, распоясанный, смотрел он на Данилу с голодной и злобной тоской.
– Вона как наш-от тихонькой преуспевает!.. – сказал Осип, скаля белые, как кипень, зубы. – Добры люди все сребро да злато, да все нажитое добро да домы свои теплые хозяйские кинули… а иные уж в Стрельцовы кафтаны обрядилися!
– Я стрелец, на стене заслонник, – наставительно ответил Данила. Впервые в жизни он не боялся, что брат может его унизить. Лишившись удачи и разбитного галдежа посадского торга, Осип сразу будто стал меньше ростом, сгорбился и мало чем отличался от затрапезных мужиков.
– Вона оно что-о! – насмехаясь, протянул он. – А поведай-ко, стрелец новобранной, окажи брату честь, открой правду, долго ль мы туто страждать будем?.. Неужто я у бога овин сжег али теленка украл? Пошто же мне здесь, темному, ходить, пошто и всем в сих стенах мыкаться… а?
Осип вдруг зло и лукаво подмигнул, и глаза вспыхнули, словно каленые угли.
– А може, тем ляхам да тушинцам покорыстоваться охота?.. Сунули бы начальникам ихним малу толику от богатства монастырского?
– Тьфу… дьявол искушает тебя, коли таки срамны слова говоришь! – и Данила гневно оттолкнул Осипа. – Те вражины поганые к нам по душу пришли…
– Истинно, стрелец-детинушко! – и дед Филофей остановился рядом и оглядел братьев еще зоркими глазками, прячущимися под седыми мохнатыми бровями.
– Аз, грешной, помню, как при Годунове к Москве-матушке татарове подступали, а мы, люди русские, билися… Двух сынов моих в таё битве убило смертью… В те поры и мы, клементьевские, стар и мал, при заслышке о вражьей напасти колья да вилы взяли, на дерева дозор посадили – кабы не забрел враг ненароком… А сказывали нам: опосля испужалися нас татарове да и вспять пошли. И також сии воры хитничать [87]87
Грабить, разорять.
[Закрыть]да убивать хотят, но мы, люди русские, недосилками не бывали…
– Ладно тебе, старинушко, похваляться! – прервал с хохотком Осип. – Хвастью-то весь свет пройдешь, да назад не воротишься.
– Ахти… ахти… – и дед Филофей даже подскакнул от возмущения. – Так ить то ж правда истинная… яко перед господом! Ахти, лукавой ты человече…
И старик побрел по узкой дорожке, гневно качая седой головой и что-то бормоча себе в бороду.
Как было то у нас на святой Руси,
На святой Руси, на каменной Москве,
Было времечко военное,
времечко мятежное…
«Исторические песни, русского народа»
В полдень 29 сентября 1608 года перед Красными воротами пронзительно запела труба. С десяток всадников в польском платье нетерпеливо гарцевали на сытых конях. Один из верховых, отделившись, подъехал под самую щель стены, где располагался «средний бой» [88]88
Защитники крепости стояли в три ряда: «верхний бой», «средний бой» и «подошвенный, или низший, бой».
[Закрыть].
– Воеводе Григорию – князю Долгорукому, да дворянину – воеводе Алексею Голохвастову, да архимандриту Иоасафу от преславных гетьманов, ясновельможных панов Сапеги и Лисовского имею грамо-ту-у-у! – зычно закричал нарядный всадник.
– Кто таков? – сурово спросили из стенной щели.
– Боярский сын, лыцарь Безсон Руготин, а с ним и иные ясновельможные паны и лыцари…
Но рыцарям пришлось еще около часу потоптаться под стенами, пока наконец из той же щели опять раздался суровый и громкий голос:
– Эй ты… Безсон Руготин… Ступай к Каличьей башне…
Безсону Руготину завязали глаза и провели на стену к воеводам. Роща-Долгорукой принял Руготина, сидя в кресле и хмуро играя волнистыми прядями роскошной бороды.
– Русской? – спросил он, небрежно принимая грамоту.
– Ино русской… – усмехнулся боярский сын.
– Аль изнищал вовсе, своей одежи не имеешь, чужую носишь? – продолжал воевода, пронзая вражеского посла колючим взглядом.
– Чти грамоту, боярин! Не мешкай! – нагло бросил Руготин и спесиво закрутил белобрысый ус.
– А ты шапку сыми! – вдруг откуда-то снизу словно взорвался горячий голос – то Никон Шилов, стоя на лестнице, погрозил кулаком Руготину.
– Истинно!.. Сымай шапку! – в разных местах вспыхнули негодующие голоса, среди которых ясно выделился бас Ивана Суеты:
– Пред честным народом кланяйся, изменник, бритобрадец! [89]89
Т. е. бреющий бороду, что в допетровской Руси считалось позором.
[Закрыть]
– На колени пади, продажная душа! – зазвенел высокий, как дудка, голос Петра Слоты. В дрожи его подвижного смугловатого лица, в остром блеске глаз стоявший рядом с ним Данила Селевин прочел такую ярость презрения и ненависти, что и сам содрогнулся от жаркого внутреннего толчка. Он потянулся рукой к оранжевой, как клок огня, польской конфедератке и сорвал ее с головы Руготина. Посол Сапеги с криком схватился за волосы, подстриженные в кружок.
– За то будете ответ держать!
Вокруг грянул такой хохот и брань и столько рук угрожающе потянулось к голубому кунтушу ополячившегося боярского сына, что воевода Долгорукой прикрикнул:
– Эй, помолчите малость!..
И тут же приказал Федору Шилову:
– Угомони их, пушкарь, дабы чёл я на голос сию грамоту. Да приведите скореича отца-то архимандрита… Чай, и ему сия грамота писана…
Федор Шилов встал позади злополучного посла и спокойно проговорил, обращаясь к десяткам озлобленных лиц:
– Подождите, люди, помолчите пока что, еще доведется блудливой кошке в обрат ползти.
– Архимандрит, архимандрит! – послышались голоса.
Архимандрит Иоасаф, поддерживаемый двумя старцами, уже поднимался по лестнице. Он был бледен и дышал тяжело. Его разбудили во время сладкого послеобеденного сна; в испуге Иоасаф, надев на себя золотой нагрудный крест, забыл выпростать из-под него длинную седую бороду. Старцы тоже не заметили этого непорядка, который выдавал крайнюю растерянность архимандрита. Иоасаф устало опустился на бархатные подушки и слабой рукой благословил всех.
– Дозволишь ли начать чтение, отче архимандрит? – спросил князь Григорий.
– Чти, сыне, – тихим голосом разрешил Иоасаф.
Сопровождавший его старец Макарий, опомнившись, быстро придал его бороде надлежащее положение. Воевода чуть усмехнулся и развернул длинный свиток. Началось чтение послания из стана врагов.
Грамота обещала монастырю сделать его «наместником от государя», который-де «многие грады и села в вотчину вам подаст, аще сдадите град Троицкой монастырь»…
– Бесы, нехристи окаянные! – понеслось отовсюду.
– Не сдадим! Николи не сдадим!
– Тщатся нас укупити.
– Пусть кукиш выкусят!
– Мы не бояре-перелеты, Лжедмитриевы советники!..
Тут воевода Голохвастов злорадно сузил темненькие глазки, а князь Григорий неприметно вздрогнул; сердце в нем скверно ёкнуло: он числился в совете окольничьих при первом Лжедмитрии. Хотя и многие представители самых древних и знатных русских родов тоже служили самозванцу, однако при воспоминании о тех днях, когда Григорий Борисович – пусть даже и в числе прочих! – снимал высокую боярскую шапку перед поганым бродягою из Польши, – при этом воспонимании воеводе всегда становилось тошно, будто он поел дурной пищи.
Грамота архимандриту Иоасафу оказалась еще наглее.
«…И ты, святе божий, – читал князь Григорий, – старейшине мнихам, архимандрит Иоасаф, попомните жалование царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси, какову ласку и милость стяжал к Троицкому Сергиеву монастырю и к вам, мнихам, великое жалование, а вы, беззаконники, все то презрели…»
– О господи! – не выдержал тут архимандрит. – Нехристи нас, христиан православных, смеют обличать!.. Се диавол, там укрепясь, врагов наущает…
Потом, обратившись к воеводе, архимандрит почти умоляюще сказал:
– Чти, сыне, без протори [90]90
Задержки.
[Закрыть]во сроке да лишних гласов не слушай.
«…учите во граде Троицком все воинство и народясь супротив стояти государя Дмитрия Ивановича, и его позоритн и псовати неподобно и царицу Марину Юрьевну, такожде и нас…»
– Клясти его, сатанинского сына, будем весь век – без домов, без хлеба осталися! – грозно и веско произнес Никон Шилов, – и будто взорвал десятки разноустных слов:
– Нищи и наги мы!
– Нищи и дети наши!
– Воры да изменники довели, окаянные!
– Лихолетье-е-е!
Архимандрит поднялся с бархатных подушек и беспомощно простер восковые руки:
– Чада мои! Чада мои!
«…Отворите град без всякие крови, – читал Долгорукой. – Аще ли не покоритеся и града не сдадите, и мы, зараз взяв замок ваш и вас, беззаконников, всех порубаем»…
– А-а-а! – вознесся к небу гневный вопль.
– Не сдадим града нашего!
– Ворам да нехристям не покоримся-я-я!
– Бей их, проклятых!
– Смертью побьем изменников!
Если бы военное и монастырское начальство заблаговременно не распорядилось об охране Безсона Руготина, посланцу Сапеги и Лисовского не быть бы живым.
Приказав отвести Руготина «в место надежное и сторожить наикрепше», Долгорукой громким голосом разъяснил всем:
– Пусть-ко ждет-пождет, пока мы свою грамоту напишем, коей ответствовати будем врагам нашим.
– Да чтоб тая грамота нам читана!.. – потребовал чей-то голос, подхваченный одобрительным гуденьем.
– Знамо, читана будет, – пообещал слегка растерявшийся воевода.
Вечером воеводы, Иоасаф и соборные старцы собрались в архимандритовых хоромах и, вызвав скорописца Алексея Тихонова, порешили, не откладывая, написать ответ врагам.
Алексей низко поклонился всем и, направляясь к своему столицу, шепнул старцу Макарию:
– Отче, Осип Селевин в сенях стоит, у него до тебя слово есть.
– Ну-кось? – недовольно проворчал Макарий, но все же вышел к своему любимцу, расторопному монастырскому «гостю».
Осип Селевин сидел около большого подсвечника, в котором горела целая восковая палица, разукрашенная сусалью и расписанная алыми и синими цветами.
Увидев Макария, Осип Селевин упал на колени и жалобно простонал:
– Внемли словесам моим, отче!
И тут же начал вспоминать, какая была хорошая жизнь, когда он, всегда так удачливо, торговал монастырским хлебом, лесом, медом, мехами…
– А ноне житье настало темное [91]91
Тяжелое, трудное.
[Закрыть], худость да скудость грядет великая… Ей, отцы наши преподобные, воззрите на силу ту, что противу нас восстала!.. Ой, неисчислима та сила – я все выглядел, все проведал… округ нас обступила, все пути-дороги заняла… ни пройти, ни проехать…
– Ведомо то и нам… зря тщишься ты, неразумной, – и отец Макарий повернулся к двери, но Осип, рухнув на колени, униженно обнял ноги старца.
– Отче преподобной… сгинем мы, пропадем в осажденном граде сем… Слышь, отче: отворим ворота без всякие крови: пошто народ губить?..
– Эй ты… не в свое дело вдался! – вскипел Макарий, стараясь высвободить ноги из цепких рук. – Да пусти-ко ты меня, что ты прилип, яко смола, прости господина шум голосов вышел воевода Голохвастов.
– Алексей Иваныч, сыне, ослобони ты меня от сего безумного… – взмолился Макарий.
– Чего ты, парень, взъярился? – сердито спросил воевода и ловким пинком развел Оськины руки, но Осип, не растерявшись (только этого вмешательства он и хотел!), быстро, как кошка, подполз к воеводе и завел скороговоркой:
– Батюшко, начальнице великой! За народ челом бью… не одолети нам вражью силу страшную… Коли ворота откроем, не взыщут с нас враги наши, а мы сохранимся, батюшко… За народ челом…
– Ну-ко, ты… – и младшой воевода неожиданно сильно оттолкнул от себя Оську. – Эко, тужильщик по народу выискался! Аль нашей заботы о нем нету?
– Сгинем мы все… – ныл и стонал Оська. – Народ-ат жалко…
– Эх… тревожлив трус, всякого шуму страшится… глас – что в тереме, а душа – что в венике! – и воевода, пропустив вперед старца Макария, крепко захлопнул за собой дверь.
Осип Селевин остался один. Восковая палица стояла перед образами, оскорбительно-нарядная; ее дымно-золотое хвостистое пламя словно поддразнивало Осипа Селевина, недавнего верховода на посадском торжище, оставшегося ныне не у дел. Осип подскочил к подсвечнику и, словно голову глупому куренку, стиснул и перекрутил фитиль. Пламя погасло. Осип запахнул охабень и выбежал в ночную тьму.
Утром на соборной площади, в присутствии архимандрита, соборных старцев и всех стрелецких начальников, воеводы прочли ответную грамоту защитников Троице-Сергиевской крепости.
– «…Да весть ваше темное державство, гордии начальници Сапега и Лисовской и прочая ваша дружина, тщетно нас прельщаете…»
– Истинно!.. – согласно загудели на стенах, на лестнице и внизу, на земле. Многие стояли на телегах, на бочках, на приставных лесенках, чтобы лучше слышать.
– «…и десяти лет христианское отроча в Троицыном-Сергиевом монастыре посмеется вашему безумному совету, а о них есте к нам писаете, мы, сия приемше, оплевахом…»
– Истинно, людие дорогие! – Иван Суета вдруг восторженно расхохотался. Его раскатистый смех пророкотал над толпой, как гром, чудесно прорвавшийся сквозь осенние тучи. Десятки глоток ответили ему, и многоустый хохот загремел вокруг трепещущего от страха посланца ляхов и воров.
– «Кая бо польза человеку возлюбити тьму паче света и преложити лжу на истину, и честь на бесчестие, и свободу на горькую работу…»
– Постоим за честь! – понеслось отовсюду.
– Бесчестья не допустим!
– До последнего человека станем биться!
– «…ложной ласкою и тщетной лестью и суетным богатством прельстити нас хощете?..»
– То верно! – зашумело в ответ. – Не прельстити им нас!
Так в каждом слове и строке своей, множеством рук поднимаемая, как стяг, всенародно была утверждена ответная грамота.
Воевода Долгорукой собственноручно обвязал свиток белой витой тесьмой, а Иоасаф приложил к кипящему сургучу монастырскую печать. Грамоту вручили Безсону Руготину. Пришлось опять нарядить стрельцов, – посланца вели среди криков проклятия и презрения. Через головы и плечи стрельцов всякими хитростями люди доставали Руготина. Его лоб и щеки были в царапинах и крови. Со всех сторон на него улюлюкали, плевали, бросали камнями, песком, гвоздями. Он шел, чувствуя себя зверем, которого, опутанного веревками и цепями, ведут на расправу. Он не чаял увидеть себя живым и был рад-радешенек, когда, наконец, завязав ему глаза, его подвели к какой-то калитке и вытолкали взашей. Только очутившись за рвом и увидев польские туры, злополучный посланец Сапеги и Лисовского сообразил, что, хотя война и объявлена, русских людей на испуг не возьмешь.
До самого вечера тридцатого сентября ничего не случилось, также и первое октября прошло спокойно. Второго числа лазутчики донесли воеводам, что Сапега и Лисовский обложили монастырь турами со всех сторон. На южной стороне, за прудом на горе Волкуше, подле Московской дороги, и в Терентьевской роще были возведены три укрепления из туров. Слово было иноземное, но защитники монастырской крепости скоро поняли, что оно означало. Турами противник называл укрепления – «короба, насыпанные землею», – таких было три; кроме того, ниже пруда, против мельницы, было возведено четвертое укрепление. Сильно укрепили поляки и западную сторону. Туры здесь расположились по Красной горе. Там их было пять: одни были направлены на южную наугольную башню, называемую Водяною. Другая линия туров приходилась против монастырских погребов и Пивного двора. Третья линия земляных укреплений с западной стороны находилась против Келарской палаты и монастырского казнохранилища. Четвертая линия земляных окопов расположилась против западной наугольной башни, называемой Плотничною, а пятая направлялась на северо-запад, как раз против Конюшенной башни, подле глиняного оврага.
– Толико ли крепки стены наши? – сказал воевода Долгорукой младшему воеводе.
Голохвастов, никогда не упускавший случая кольнуть князя Григория своей «легкостью на ногу», с резким смешком сказал:
– Ох, кабы всюду да были бы крепки стены града сего – ан нет! Намедни я четырежды обошел стены градские по верхнему бою, по среднему и подошвенному… и многие седовины [92]92
Трещины.
[Закрыть]узрел…
Старец Макарий, который присутствовал на военном совете, вдруг обиделся и стал горячо уверять, что никаких «седовин» в стенах нет.
– Что вы, начальники наши благие, дел огненных вершители? – начал он, будто на проповеди. – Не мочно тому быти!.. Стены святого града нашего возведены быша по повелению блаженной памяти христолюбивого царя Ивана Васильевича…
– То боле полусот лет было, отче, – нетерпеливо прервал Долгорукой.
Круглые тугие щеки старца налились злой горячей кровью.
– Свята обитель наша благостью и чудесами зачинателя ее святого Сергия Радонежского во веки веков сохранена будет!
– Дозволь, воевода, слово молвить, – раздался мягкий бас Данилы Селевина.
Воевода оглянулся – и только тут заметил, что сенцы, куда дверь была открыта, битком набиты людьми. «И всюду-то ныне народишка лезет, всюду ручищи запускать хотят!» – с досадой подумал Долгорукой и, заглянув в сенцы, сразу наткнулся на горящий настойчивостью взгляд Данилы Селевина.
– Говори, – разрешил воевода и добавил. – Да уж взойди в горницу – через порог слово сказать негоже.
Едва Данила занес ногу через дубовый порог воеводской горницы, как навстречу ему метнулся грозный взгляд старца Макария, приказывающий немедленно замолчать, исчезнуть, не сметь вмешиваться не в свое дело. Но Данила вдруг понял, что молчать ему нельзя прежде всего потому, что этот разжиревший на обильных «кормлениях» властный монах беззастенчиво лжет. Данила Селевин по привычке отвесил старцу поясной поклон троицкого служки и тут же сказал, смотря прямо в свирепые, в красных жилках глаза Макария:
– Памятую я, отче, как велел ты мне лонись кирпичи да бревна к наугольной башне таскать – от Конюшенных ворот до наугольной не в одном месте своды провалилися… Я стал тебя вопрошать: когда ж, мол, внове замес ладить будем?.. А ты, отче, велел мне всё в обрат нести…
Лицо старца из багрового стало темно-сизым. Не взглянув на Данилу, он, обиженно воздевая руки к иконам, обратился к Долгорукому:
– Зрит господь и святые его, яко есмь поносим ныне от последнего работника монастырска… и се в хоромах твоих, князь-воевода! Негоже ты, князь, раба нашего в доброй кафтан нарядил, к себе на порог пустил… аль не ведашь, – пусти мужика на порог, а он и под образа полезет… Да и негоже было, князь-воевода, нашего служку на стены брать без нашего на то соизволенья…
– Но, но… – не сдержав раздражения, прервал Долгорукой. – Про то нам, военным людям, ведать, кто нам в ратные люди гож…
С самого начала, как царь Василий послал князя Григория «царскую обитель оберегати», Долгорукой столкнулся с «самовластьем» соборных старцев, из которых Макарий был особенно рьян и наступателен. В каждой затее воеводы Макарий видел покушение на право церковных властей, вмешивался во все распоряжения воеводы, оправдывая каждый раз свои козни стремлением поступать «по божьему закону». Теперь, когда враги стояли под стенами монастыря, воевода решил действовать «по своему ратному разумению». Это решение было тем более ему приятно, что давало возможность посчитаться с таким въедливым старцем, как Макарий.
– А касаемо седовин в стенах и сводов проваленных, – прямо приказывал Долгорукой, – для сего, отче Макарий, изволь повелеть все амбарцы открыть, где все каменны да деревянны запасы лежат…
Не успел старец Макарий и рта раскрыть, как из сеней раздался голос Федора Шилова:
– Имею слово до тебя, воевода.
– Да уж входи, пушкарь, – с легкой насмешкой позвал воевода.
Федор Шилов перешагнул порог.
«Ну и глазастой!» – опасливо оценил его про себя старец Макарий.
А Федор, взглянув на короткую, крепкую, как бочка, фигуру соборного старца, вспомнил патера Иосифа Брженицкого, у которого он когда-то служил конюшим. Сходство между патером Брженицким и Макарием – в повадке и осанке – показалось Федору столь разительным, что он усмехнулся про себя: «Что ни поп, то зубастой рот да каменной лоб!» От этой смешливой думки Федор почувствовал себя еще увереннее.
– И я, пушкарь, все стены примечаю: надобно будет опосля огненного боя заделки в стенах ладить не мешкая, для того надобно каменных дел мастеров загодя нарядить.
– Ино сыскать их надобно, – сказал воевода.
– Да уж сысканы, воевода.
– Иде ж они, те мастера?
– Да уж туто. Дозволишь взойти?
Воевода кивнул. Порог перешагнул Никон Шилов и Иван Суета.
– Ну и припасливы люди ноне, – с нескрываемым лукавством сказал воевода Голохвастов. – На всяко заделье умельцев нашли!
Долгорукой встал с места и, метнув злобный взгляд в сторону Голохвастова, подошел к мастерам каменных дел.
– И точно вы умельцы, мужики? – хмуровато спросил он.
– Печи и стены класть доводилось многажды, – спокойно, с достоинством ответил Иван Суета, – знамо, и здесь, на стенах, не опростоволосимся.
Оглядывая приземистого Никона в старом расползающемся по швам домотканном зипунишке, воевода допрашивал:
– А точно ль вы будете под стрелянием огненным урон в стенах закрывать? Не убоитеся ли, что на том месте живот свой можно положить?
– Да что ж, воевода, – негромко и внятно заговорил Никон. – Живы аль мертвы – иного не ведаем. На смерть родимся, для живота помираем.
«Ишь ты, философ какой выискался!» – изумился про себя Долгорукой.
Оставшись один, он впервые совсем необычно задумался о народе, обо всех тяглецах, даточных людях богатейшей на Руси «царской обители», о монастырских служках, о посадских умельцах, о разного рода гуляшик безместных людишках – обо всем этом пестром, обойденном жизнью народе, с которым пришлось ему, Роща-Долгорукому, как и всем другим родовитым военачальникам, а также инокам, быть теперь запертыми в стенах монастырской крепости, – и неизвестно, на какой срок.
Князь Григории Борисович родился удачником и уже поэтому не привык думать о том, что выходило за пределы его привычного круга жизни. Ему шел семнадцатый год, когда «в день благоприятен» его заметил царь Грозный, обласкал, одарил щедро. Отец его, хитрый и расторопный боярин Борис Степанович, счастливо избежал опричнины и сохранил все земли-богатины, поместья и хлебосольный дом в Москве. Григорий Борисович служил по ратному делу при Борисе Годунове и был им награжден. Пребывание Григория Борисовича в «советниках» первого самозванца тоже счастливо сошло ему с рук – и царь Василий наградил его и отличил среди многих, послав большим воеводой над войском прославленной «царской обители».
Как-то теперь выйдет князь Григорий из тяжелого испытания огнем и осадой? Не сегодня-завтра поляки и тушинцы начнут палить из пушек. У Сапеги и Лисовского тридцать тысяч войска, а у Роща-Долгорукого еле наберется три тысячи. Кто из этих трех тысяч самые надежные, на кого можно в первую очередь положиться? Конечно, на мужиков, на этих двужильных тяглецов, которых лихолетье сделало бездомными и нищими. На них-то он и надеется, они-то и должны спасти монастырь от бедствия и срама. «Бояре – дубы раскидистые, а народишко – прах земли», – говаривал его отец, хозяйственный и хитрый боярин. И сам князь Григорий с младых лет привык видеть всех тяглецов и холопей сквозь эту отцовскую поговорку: уж если они все «прах земли», так и замечать в них ровно нечего. И он их не замечал, как землю, по которой ходил. Но вот эта земля раскрыла перед ним свои недра – и что-то поразило его. Сначала удивил его Федор Шилов (который, как обнаружилось, совсем не «гость торговый», а бывший беглый), а теперь изумили и даже чем-то испугали – Данила Селевин, Петр Слота, Иван Суета и Никон Шилов. За ними воевода увидел и многих других. Он, воевода (об этом самому-то себе сказать можно), главный военачальник, еще и подумать не успел о сохранении целости стен во время боя, а эти тяглецы, никогда не носившие на себе бранных доспехов, уже предугадали это и даже мастеров припасли.
На стольце, покрытом синей с серебром объярью [93]93
Объярь – муаровая шелковая ткань.
[Закрыть], лежала толстая книга «Житие Семеона Дивногорца», раскрытая на первой странице. Воевода видел крупные, изукрашенные золотом и киноварью заставки и заглавные буквы начальных строк: «Благословен бог, иже вся человеки хотяй спасти…» Он давно хотел прочесть эту книгу и сегодня получил ее, по личному повелению самого архимандрита, из «большой шкапы» монастырского книгохранилища. Но читать охоты не было. Он машинально повторял вполголоса: «хотяй спасти, хотяй спасти…» Да, эти люди, эти двужильные тяглецы, могут спасти монастырь.