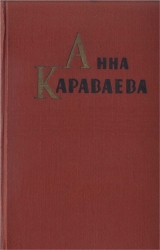
Текст книги "Собрание сочинений. Том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице"
Автор книги: Анна Караваева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 34 страниц)
– Ну и ну, паря! – довольно отдуваясь, веселым голоском сказал Долгорукой, и его грузное тело заколыхалось от хохота. – Откудова все сие накопил? Чёл в книгах али в чужеземных государствах бывал?
– И то и другое было, – сдержанно ответил Федор.
– С посольством, что ли, за рубеж попал?
– Нет… по торговой части.
– То-то, гляжу – простому тяглецу-мужику такой премудрости не собрать, – уверенно сказал воевода.
Совсем развеселясь, он отпустил старую мамку, натянул на ногу просторный сафьяновый сапог и хитро подмигнул Федору:
– Нет, паря, не по торговым делам тебе ходить, а оружейному делу служить… разумеешь? Быть тебе в пушкарях, Федор Шилов! – решил воевода и, озабоченно жмуря маленькие глазки, спросил:
– Видал, сколь много народишка-то к нам прибывает?
– Видал.
– Бегут отовсюду. Ворье тушинское, а с ними ляхи поганые режут да жгут русской народ. Неровен час, в нашу сторону удумают пойти, так уж мы им встречу изладим. Верно ведь?
– Знамо не побежим, сустречь будем биться, – последовал твердый и спокойный ответ нового пушкаря. – Дозволь, воевода, огненное дело оглядеть – може, что справить надобно?
– Огляди, – согласился князь, – одначе ведомо, что у нас на стенах все ладно, прорух нету.
– Ну, не хвались, князь, – смело сказал пушкарь Шилов. – Послуху не верь, а верь на глаз да на ощупь. В военном деле не доглядишь оком, заплатишь боком.
И опять, с совершенным знанием дела, новый пушкарь заговорил о том, как надо проверять в пушке «казну», как проверить качество, чтобы потом ни одна «гривенка» [74]74
Фунт пороха.
[Закрыть]при стрельбе не пропала даром, как заранее распределить на стенах места заслонников, как сосчитать всех, при орудиях состоящих, как пушкарей, так и затинщиков [75]75
Пушкарей при затинных пушках, стоящих в глубине крепостной стены.
[Закрыть], кузнецов, плотников, сторожей, рассыльщиков; мало того – на случай, если кто из них будет убит, надо, «запаса» ради, обучить новых людей.
– А чтоб все при огненных делах люди в любой час боисты были, надобно, князь, и все их боецкие доспехи оглядеть, чтоб у всякого пушкаря али затинщика его лядунка [76]76
Зарядная сумка для пороха.
[Закрыть]была целехонька да полнехонька добрым порохом, – закончил Федор.
– Погляди, погляди, пушкарь, – сказал Долгорукой, втайне даже смущенный тем, как быстро вошел в дело этот еще два часа назад неизвестный ему человек. Со стороны этот разговор воеводы с пушкарем выглядел бы даже так, что второй словно учил первого, – князь Григорий Петрович Долгорукой должен был себе признаться, что «дотошные заботы» нового пушкаря ему просто в голову не приходили. Конечно, ни от кого он не потерпел бы поучений и излишних советов ни в чем, не исключая и военного дела, по этот лысый человек с большими, строгими, как на иконе, глазами все больше изумлял и поражал воеводу. Знали свое дело и другие пушкари, но этот знал больше других. Кроме того, нельзя было пренебрегать таким «умельцем» по огненному делу, который вдобавок и чужеземные языки знал – с фряжином [77]77
Итальянцем.
[Закрыть]мог говорить по-фряжски, с немцем – по-немецки, а с ляхом – по-польски.
Воевода вызвал своего ближнего стрельца и приказал выдать Федору Шилову пушкарский кафтан, шапку и сапоги.
– А жить, пушкарь Шилов, будешь в пушкарской избе, за стенами монастырскими.
– А ты, – обратился князь к стрельцу, – отведи новому пушкарю постелю, да пусть старшина возьмет с его верное слово: не пить, не воровать, тайну пушкарского дела не выдавать и служить прилежно… Ну, ступай, Федор Шилов.
Сам того не заметив, князь сразу стал звать нового пушкаря Федором, а не Федькой, как было принято в боярском обиходе.
«Экой бажоной [78]78
Удивительным.
[Закрыть], – подумал князь, когда Федор и стрелец вышли из горницы, – и не уразумеешь его сразу: и не дворянин и не мужик-тяглец. А на службу, по всему видать, востер, и стать боецкую имеет… а сам бает, будто по торговым делам в чужеземелье бывал… Ох, коли б все гости торговые таки головы имели, мы бы, глядишь, весь свет укупили…»
Тут князь Григорий Борисович заметил, что уж слишком он прилежно задумался о каком-то пушкаре, – и даже воздосадовал на себя. Опять позвал свою старую мамку.
– Ну-ка потри ишшо воеводску ногу… да рук-то не жалей, старуха, – сам господь вам, рабам нашим, велел господину служить до остатнего издыхания.
Едва Диомид, громыхая тяжелыми сапогами, взбежал по лестнице в горницу монастырской золотошвеи, как вдова сразу набросилась на него:
– Я те кто сдалася, чтобы у окошка томиться, тебя дожидая? Я тебя маню, а ты с незнаемым мужиком лясы точишь, а на меня и не глядишь. Ах ты, ладан вонючий! Мнишь, я за тебя хвататься буду? Да… на меня любовальщиков сыщется, лишь бровью поведу!
Слова вдовы сыпались быстрей, чем горох из мешка.
«Вот сварливство-то, – словно у дьяволицы!» – оторопело подумал Диомид, пытаясь вставить хоть словечко в этот посыпавшийся на его голову поток брани, – и бессильно отступил. Наконец, вдова поперхнулась, чтобы перевести дух, и Диомид сразу нашелся:
– А я тебе подарочек принес!
– Ну-у? – и вдова так и всколыхнулась вся. – Игде, игде? Скорей кажи!
Она уже ластилась к Диомиду, умильно заглядывала ему в глаза.
– Ой, да не мешкай ты, Диомидушко!
А монах, желая продлить эту сладкую забаву, нарочно не торопился, шарил да шарил в своем бездонном кармане – и наконец вытащил оттуда пышную шкурку бобра.
– Охти-ти-и! – и вдова бросилась целовать волосатое лицо монаха.
Потом, прижав шкурку к маленькому мясистому лбу, подскочила к зеркальцу в медном поставце и, как девчонка, стала вертеться перед ним. В мутноватой глади зеркальца, не больше кружечного донца, нарумяненное, сдобное лицо вдовы расплывалось красной ягодой, но женщина все охорашивалась, притоптывала, посмеивалась.
– Откудова зерцало-то у тебя? – ревниво спросил Диомид.
– То Оськи Селевина дарена заморска диковинка, – рассмеялась вдова.
– О-х-х, Вар-рька! – и чернец угрожающе поднял было кулачище, но лукавая баба только еще звонче рассыпалась озорным смехом.
– Не больно-то щедрой подарок – поставец с зерцалом. Мой-то подарок куды краше: ить я подмогнула Оське невесту себе окрутить, ить я красной девице нашептывала о богатом госте, добром молодце. Вот и заловила красна зверя в охотничьи сети… Первей всех, слышь, я на свадебку звана!
Варвара распушила шитые рукава и павой прошлась по горнице.
– Ох ты, зелье мое греховно! – умилился чернец.
Вдова ущипнула монаха за ухо.
– Где бобренка-то стибрил, Диомидушко?
– Того и ненадобно было, – самодовольно сказал чернец. – Добром взял.
– Ой ли?
– Вот те Христос!.. И бобров люди ловят, милушка… Все со грехами, все на греховище живут. Ведомы мне и чужие грехи – у нас на бобровых гонах, окромя монастырских, и мирские ребята… Вот я за тот грех и ухвачуся. Зазову к себе грешника да с глазу на глаз, яко на духу, и приступаю: «Ой, человече, страшися – грех твой вельми жестокой, коли отец архимандрит проведат, от кары его страдати будешь зело. А уж ангелы-то и все святы угодники на небеси на тя, нечестивца, взирая, слезьми заливаются – жалко им твою душу дьяволу отдавати во геенну огненну…»
– Уж ты насулишь!.. А тот поди дрожма-дрожит?
– Ино для того и тшуся, лебедушка!.. «У меня, – баю, – молитв много не про тебя одного. Без памятки, глядь, с другой какой перемешаю. Дай-кась мне хучь бобренка какого… дабы не запамятовать мне…» Он и радехонек: на, бери на выбор!
– Ох, дорого молитвуешь! – и полное тело вдовы снова заколыхалось от хохота. – Верно люди бают: черней чернеца нету!
– И-и, бабонька, – не смутился Диомид, – зато чернецова молитва наискорейше до господа-бога доходит, – он, милостивец, своих работничков наперечет ведает.
Побывав на другой день у брата Никона, Федор вместе с ним и Настасьей направились в соседнюю избу, чтобы послушать девичьи заплачки перед завтрашней свадьбой.
Около черной, повалившейся набок тихоновской избы толпились любопытные. На крылечке, в сенцах толкались и шушукались девчонки-подростки, старухи, ребятишки; они с завистью глядели на подружек невесты, рассевшихся по лавкам вдоль стен, вымытых, выскобленных, как на пасху.
Ольга Тихонова, по обычаю, сидела на низеньком чурбашке, почти на полу, и неподвижным взглядом смотрела перед собой, будто окаменев в терпеливом, бесстрастном ожидании.
– Разнаряжена, словно икона! – шептались в толпе.
– И все новехонькое!
Сарафан из китайчатой камки с диковинными разводами пестрой застывшей волной лежал вокруг статного Ольгиного тела. Короткая душегрейка из зеленой парчи – обещанный подарок боярыни Пинегиной за искусную работу, малиново-алый атласный платок вокруг чернобрового лица, длинные, почти до пояса, разноцветные бусы – все искрилось дорогой новизной, будто освещая своим блеском убогую тихоновскую избу.
Подружки, игрицы и песенницы, нарядившиеся, кто как мог, разместились вокруг невесты, как цветущие кусты вокруг яблони.
В углу, под закоптелой, уже давно безликой божницей, сидели два сухопарых, трясоголовых старичка – дяди невесты, Тит и Федор, или, как их называли, «седые двойни». По левую сторону от них с такими же каменно-торжественными лицами восседали их жены, две крепкие бабы сурового вида. А по другую сторону божницы на почетном месте красовалась монастырская золотошвея Варвара. На голове ее была новая бобровая шапка с парчовым верхом. Набившиеся в сенцах любопытные девчонки-подростки из соседних деревушек и починков расспрашивали шепотом:
– Эко, дородная да румяная в шапке-то бобровой, кто така, откулева?
– Перва сватья, девку-сиротинку с богатым гостем сосватала.
Вдруг чей-то юный тоненький голосок крикнул в восторженном испуге:
– Жени-их!.. Жених с дружкой!
На сытых караковых конях («монастырские», – как тут же определил кто-то) подъехали Оська Селевин и дружка, посадский молодой купец Пронька Теплов. Жених, небрежно распахнув новый ярко-желтый суконный кунтуш польского покроя, ухарски бросил кожаный кошелек прямо в лицо какому-то беззубому старику. Кругом засмеялись. Взрослые, ребята-подростки и даже старики, стукаясь лбами, бранясь и толкаясь, бросились поднимать деньги. Какой-то рваный мужичок, шаря по земле, сослепу схватил загнутый носок красного жениховского сапога из козловой кожи.
Оська с громким хохотом вошел в горницу. Девишницы – игрицы и песенницы притворно испуганно заахали и еще теснее сгрудились вокруг Ольги.
Дружка, Пронька Теплов, распушив пятерней кустистую пегую бородку, отвесил всем низкий поклон. Потом сбросил с плеч легкий бараний полушубочек, крытый сукном василькового цвета, и разостлал его на полу мехом вверх. Поставив улыбающегося Осипа на сброшенный полушубок, Пронька вынул из кармана большую скляницу вина и две серебряные чарки. Позвякивая чарками о скляницу, Пронька начал вызывать невесту.
– Ольга свет Никитишна, изволь на винную чару сойти!
Девишницы замахали руками, будто охраняя сокровище.
– Нашу свет Ольгу Никитишну откупить изволь!
– Ну, и притчеваты [79]79
Привередливы, обидчивы.
[Закрыть]же вы, девки! – и Пронька бросил девишницам горсть алтынов.
– Ай, доброй дружко! – пропела с почетного своего места золотошвея Варвара.
– Щедрой дружко Прокопий-свет!
– Да, у меня алтын вольготно ходит! – хвастливо сказал Пронька и опять бросил горсть серебра в девичий круг.
Потом Пронька должен был сказать: «Изволь, невеста, маков цвет, на нашу шубу наступить – туто тебе и мягко и тепло. Да будет тебе с женихом богоданным и жить тако – в тепле да в мягкости».
Но вместо этого Пронька шлепнул жениха по затылку и ухмыльнулся, показывая гнилые зубы:
– Кланяйся, что ль, да проси свою богоданную – я, чай, свое уже отпросил, с меня будя!
Среди старух зашелестел шепоток, что дружко ведет себя не по обычаю: выхваляется, кобенится, лишние слова говорит.
Настасья, сидя между мужем и Федором, тоже шепотом осуждала Проньку Теплова:
– Небось на окольничевой свадьбе баял и кланялся по обычаю дедовскому – благолепно да таково истово, любо было смотреть. А тут старания у него ничуть не видно.
– Ведомо ему, что невеста – сирота бедная, вот старанья-то и нету, – задумчиво и тихонько сказал Никон. Ему не нравилось, что дружко, наперекор всему заведенному испокон веков на Руси, не показывал себя свадебным другом, а словно пьяный вахлак толкал жениха в спину:
– Ну, кланяйся, что ль, уж больно невеста-то выдалась спесивая!
Наконец, Осип третий раз вызвал невесту:
– Ольга свет Никитишна, изволь на винную чашу сойти, на ножки резвые поднятися, ручку белую подать!
Две ближние подружки, тоже золотошвеи, подняли Ольгу и подвели к жениху.
Дядя Тит и вдова Варвара, как посаженые, взяли самую большую потемневшую от времени икону, на которой светился только венчик сусального золота над головой спаса, обернули ее полотенцем и благословили жениха и невесту. Рядом с маленьким облезлым Титом монастырская золотошвея в своей искристой бобровой шапке, дебелая, нарядная, стояла, как пава. Все она делала плавно и так красиво, что все залюбовались ею. Благословив жениха и невесту, важно и благолепно, как требовал издревле русский обычай, Варвара сказала им:
– Вина прикушайте друг от дружки с поклоном да с приветом!
Пронька опять хотел было распорядиться как попало, но посаженая строго поглядела на него и потребовала:
– Ладь все по чину!
Девишницы уже затянули песни. Осип, изрядно выпив, притопывал и подпевал им с хрипотцой в голосе, не в лад, и явно мешал девичьему хору, но жениху никто не прекословил.
В низкой избе уже стало жарко. Трещала, чадила лучина. Пахло бражной кислиной, старыми овчинами и лаптями, которые по случаю торжества засунули на полати. Тяжелые навозные мухи, слетевшиеся на огонь из закуток и хлева, бились в затянутые пузырем оконцы и гудели, звенели, как далекие бубенцы.
За столом песельниц уже не слушали – все галдели и шумели кто во что горазд. Оба дяди, «седые двойни», Тит и Федор, обрадовавшись даровой выпивке, сидели рядышком, икая, бессмысленно бормоча и качаясь во все стороны, и все еще тянули вино и брагу.
«Пропили!» – думала Ольга, с ненавистью глядя на их потные головы, на растрепанные бороденки, на их умильное подмигивание в сторону суровых молчаливых жен, которых они во хмелю не боялись… «Пропили вы меня, проклятые!» – как в злом тумане думала Ольга.
Ей было нестерпимо душно, сердце стучало, хотелось скинуть плотный, как кора, скользкий и раздражающе шуршащий атласный платок, – но этого не позволял обычай: зазорно невесте накануне свадьбы простоволосой сидеть.
Наконец Варвара подала девушкам знак: «спасибо казать». Подружки, кланяясь каждому, начали выпевать «спасибо за хлеб-соль»:
И спасибо родным дяденькам,
Всей родне милой невестиной,
Титу да Федоту Матвеичам
За любовь, за соль, за хлеб, за вино!
Федор Шилов, выйдя во двор, на свежий вечерний воздух, с умиленным вниманием слушал девичьи песни. Ему вспомнился девишник Алены, ее тонкие пальцы, которые, как белые бабочки, трепетали в его горячей ладони.
Мальчишки – малолетки и подростки, прибившись к плетню, не сводили глаз с худого, высокого пушкаря, в длинном кафтане с блестящими медными пуговицами, круглыми, как бубенчики. Федор исподлобья взглянул на тесный полукруг мальчишеских голов и чуть заметно улыбнулся.
А в избе Ольга Тихонова, как уже окончательно «пропитая» и «сданная по сговору и рукобитью» невеста, доживающая «остатние часочки» своей девичьей жизни, вышла из-за стола и стала благодарить всех родных за их хлопоты:
И спасибо сердоболю-дяденьке Титу Матвеичу
За хлеб, за соль,
Что мою беседушку
Хорошо сукрасил,
Меня ничем не обездолил.
Дядя Тит уже ничего не понимал. Его суровая широкоплечая жена властной рукой нагнула ему голову для ответного поклона и притворно заплакала:
– Ой, дюже жалостно кажешь, девонька… здорова будь!
А Ольга, изнемогая от жары, уже кланялась Федоту Матвеевичу:
И спасибо сердоболю-дяденьке Федоту Матвеичу
За хлеб, за соль,
Что мою беседушку
Хорошо сукрасил,
Ничем меня не обездолил!
Федор Шилов услышал слезы в высоком голосе невесты – и опять его Алена встала перед глазами так зримо, будто это было только вчера. И Алена тоже сказала «спасибо за хлеб-соль» – родителям и всем родичам. Но как ни старалась она выпевать со слезой, каждый звук ее молодого голоса выдавал радость и уверенность в своем будущем счастье. И хоть не по обычаю было в канун свадьбы невесте провожать жениха, Аленка перехитрила всех и прибежала-таки к нему – обнять «на дорожку»… «Батюшки! да ить вона на том угорочке мы с ней, желанной, обнималися…» – подумал Федор, и сердце его застучало шибко, обмякло, как воск. Стало жарко, он распахнул кафтан и в слезном тумане еле различал лысый пригорочек, где стояли они с Аленкой, полные счастья… Перед самим собой таиться не приходится – стаивал он в вечерний час и потом, только на чужой земле, обнявшись с женщинами, которым говорил ласковые слова на чужом языке. Но это были случайные подруги – служанки, солдатские вдовы, а то и просто веселые женки при базарных игрищах и харчевых избах. Некоторые из этих женщин на плече русского бродяги Федора Шилова выплакивали свою несчастную, загубленную жизнь, и он сам, перекати-поле, утешал их, как умел. С некоторыми проводил ночь и наутро подчас не мог вспомнить ни лица, ни голоса случайной подруги – толкала его к ним тоска и одиночество, от которого сердце в нем стыло, как голый птенец, выпавший из гнезда на мороз и ветер. Редко впадал Федор в этот грех, каялся больно и тяжко перед памятью Алены. Что говорить, далеконько было ему до святости в той мучительной, скитальческой жизни, но уж Алену-то он помнил. Ни одна черточка, ни одно выражение ее милого лица, ни одно ее слово не были забыты им. Звук ее мягкого, грудного голоса помнился всегда, как певучее журчанье ручья, что утоляет жажду человека. Да и как не помнить, если любимый певучий тот голос говорил по-русски! Только в родной русской речи можно выразить со всей силой любовь и счастье быть с любимой. Только на родном языке играет и поет ответное любовное слово. Что на свете звончей и ласковей тебя, слово русское, родное, слово золотое, могучее?! Оно объемлет всю жизнь русского человека, как небо землю. Вот молодое деревце с нежной белой корой, что будто атлас блестит под луной, зовется береза, березонька… Краше березы, как на Руси, Федор Шилов не встречал нигде. Статная, как девушка-невеста с пышной косой, стоит она, береза-березонька, раскинув ветки свои, которые широким шатром колышутся над русскими просторами, равных которым Федор Шилов тоже нигде не видывал. Вот над просторами русскими вольными ласточками летят песни девичьи, песни свадебные, песни, что поет народ о труде своем, о боях поет, о воле гордой, о думах своих. И сколько еще песен споет народ над родными просторами – уж не ему, Федору Шилову, их слушать…
После того как пьяный жених и дружка уехали домой в посад, а все гости разошлись, кучка стариков и пожилых людей еще осталась посидеть на бревнах у плетня тихоновского огорода. Самый старый житель села Клементьева, девяностолетний дедушка Филофей, рассказывал о старине. Шел ему тридцать третий, когда в 1540 году начали возводить каменные стены вокруг монастыря.
– Народа что в те поры согнали-и! Аз, грешной, тогда телесно еще крепок был, тако и мне велели: подитко стены ладь во славу божию. В те поры велено было камень бить, известку рыть всюду… И-их, уж и ладили мы те стены каменные с ранней зари до самой темени. Народ-ат почал роптать, от той непереносной тяготы в леса убегать. Ну, и удумали воеводы: ино ослобонить нас, хрестьян, ото всех пошлин царских на целых три года. Царь-ат Иван Васильевич еще молоденек был, а пока стены те росли, и он рос. В те поры, как народ стены возвел да все двенадцать башен, приидох сам царь Иван Васильевич со бояры. Уж стал он младой муж, бородатой, на главе шлем железной и грудь железом одетая. Повелел царь Иван Васильевич выкатить бочку вина и дал нам, каменных дел мастерам, по чарке того вина из своих рук. «Ну, бает, спасибо вам, мужики: ладно робили, царя для ради православного…» От внна того взыграло сердце мое – я и скажи: «Зело наикрепше град сей каменной мы, народ, изладили – за твой век, царь-государь, та крепость перейдет!..» Тут свойственной [80]80
Находящимся в родстве с царем, с царицей.
[Закрыть]царев боярин крикнул: «Твоя ль забота, смерд, царской век считать!» – да как вдарит меня, грешного, своей палицей окованной да плашмя по спине.
– Вона! – с тихим смешком сказал Никон. – По сю пору памятуешь, как с царем беседовал?
– А вельми гожа вышла работенка-то наша! – и дед Филофей хвастливо разгладил ладонью густую, раскидистую бороду. – Надысь шел я мимо башен, рученьками их огладил… ну и ядреной замес, ну и кладку мы изладили, кирпичи-то в стене рядком к рядку, словно срослнся – аж лихо времечко такой кладки не порушит!
– Да и у тебя самого, Филофеюшко, замес куды как ладной, – быстро подхватил Никон Шилов и с нежностью погладил старика по широкой костистой спине. – Ино то и сказываю, дедушка, на тебя глядючи: не возьмешь нас, народушко, батожьем да измором – живучи… их, живучи-и!.. Бают, царь да бояре – всему глава… да ить главе без тела не можно жить… А тело – мы, народ, тяглецы, черные люди… Те стены оборонные (Никон кивнул в сторону темной громады монастыря) царскими да боярскими ручками не поставить, они к работе несвычны, туто наша сила надобна! – И Никон опять рассмеялся своим потаенным мыслям.
– Уж зря не побаишь, – раздумчиво отозвался дед Филофей. – Одначе бедует народ… охо… хо…
Филофей за девяносто лет своей жизни пережил пятерых царей: Василия Ивановича, Ивана Васильевича Грозного, Федора Ивановича, Бориса Годунова, Самозванца, теперь живет при шестом царе – Василии Шуйском. Цари сменяют друг друга, а народ все больше оскудевает. Такого оскудения, как ныне стало, и старики не упомнят.
Подошли Иван Суета и Петр Слота и присоединились к разговору о тяжелых болях и заботах.
Суета опять заговорил о том, что уж хватит с него жить «троеданцем»: царю, вотчиннику и церкви, что при первой же возможности уйдет с женой и ребятами на Белоозеро.
Тогда дед Филофей сказал, что и в здешних местах, «под Троицей», было время – жилось людям «вельми сыто и вольготно».
– От отцов и дедов наших про то слыхивали. В те поры места наши звалися: гора Маковец. Егда святой отец Сергий, здеся странствуя, узрел сию гору Маковец, умилился он душою и здеся храм поставил.
– Ух, то-то поди раздолье было! – мечтательно вздохнул Слота. – Сей хлебушко, иде хошь, на зверя али на рыбу ловитву раскинь, иде тебе виднее.
– Летось удумал я хлевушок подпереть, – тихонько загрохотал Суета, – пошел в лес монастырской… подрублю, мол, одну сосняшку да бревнушек напилю… А в лесу-то что ни дерево, то и крестом мечено – знамо, таково древо грешно рубить. Ахти мне, бедному, ни к одному деревцу не подступиться, весь тот лес для нас, тяглецов, засечен: не смей-де, не моги и ветви малой срубити!.. Потащился я во дальние леса, что вдоль болотины, тамо осины трухлявы крестом не мечены – ино ладно тебе, мужичонко, и осину на потребу!
– А на горе-то Маковце в стародавние лета… – опять мечтательно заговорил дед Филофей. – На горе-то Маковце все, все под народом было, так старики сказывали. На рыболовитву пойдешь – опять же никакой помехи нету. Рыба, сказывают, в те поры ловилась богатая: стерляди о двух пудах, а осетры и того боле. Во рощицах птицы пели, на плечо человеку прилетали – слышь, непуганые были. А на пашнях, на лугах заливных, на дороженьках мимоезжих… ну, скажи, ни одного-единова болярина, ни дворянина не водилося!..
– Не водилося! – повторил Слота. – Мужику можно было без бояр и вотчинников жить!
– И землица скрозь была мужицкая? – сдавленным от восторга голосом спросил Никон.
– Знамо, мужицкая! – с непоколебимой уверенностью ответил дед Филофей.
– Господи-владыко! – сдерживая могучую силу своего баса, благоговейно сказал Иван Суета. – Припозднились мы на свет родиться, соседушки!.. До нас-то блаженно житие было да сплыло…
– Ино верно баешь, сынок! – вздохнул Филофен и размашисто перекрестился. – Блаженно было то бытие человеческое!.. Храмина малая, самим святым Сергием рублена, храмина пресветлая на той горе Маковце стояла, а люди округ нее селились… И был чист человек, яко агнец, трудолюбен, яко пчела-медуница, легок да волен, яко птица лесная… И был мир, и любовь, и радость жити на земли…
– Радость жити! – горячим шепотом повторил Никон, и его рука легла на плечо Федора. – Хоть бы одним глазком на то житье глянути, за то чудо помереть в одночасье не жалко.
Пробираясь в ночной тьме в пушкарскую избу, Федор все видел перед собой лицо брата и всех бородатых мечтателей с их жадной наивной верой в блаженную жизнь на горе Маковце. Сам он не очень верил в то, что такая жизнь когда-либо существовала, – слишком много он видел и испытал на своей спине.
Вытянувшись на жестком тюфяке и накрывшись кафтаном, Федор перебирал в памяти взволнованные рассказы деда Филофея.
«Эко, что измыслили, горячие головушки!» – любовно усмехаясь, думал Федор. – «Гора Маковец… эко!.. Иде ж она была-то, ей-ей?..»
В лунном свете Федор видел башню, рогатые зубцы на стенах, за которыми прятались пушки и пищали так называемого верхнего боя. Внизу под стенами, как спящие звери, поблескивали при луне чугунные крутобокие пушки. Федор вспомнил, что в крепости их насчитывается девяносто, не считая пищалей и прочих огнестрельных орудий. Троице-Сергиев монастырь и в ночной лунной тишине смотрел крепостью, каменным сторожевым гнездом, которое охраняло с севера дорогу к Москве. Где же тут была гора Маковец с малой рубленой храминой, вокруг которой зеленели леса и колосились вольные пашни?..
В тихоновской избе уже с раннего утра было людно. Две подружки-золотошвеи с песнями расплетали густую девичью косу невесты, четыре другие подружки были заняты хитрыми работами, значение которых было понятно немногим посвященным: втыкали в новую малиновую ферязь невесты иглы, осыпали хмелем ее полотняную сорочку, несчетное число раз вытряхивали, выстукивали ее новешенькие сафьяновые сапожки, прилежно обдували мелкую зернь кемского жемчуга на ее высоком брачном кокошнике, – предохраняли невесту от будущих несчастий, болезней, томления духа.
Всем свадебным чином распоряжалась все та же Варвара Устиновна, монастырская большая золотошвея. Она строго следила за каждой подружкой и за самой невестой, чтобы ни одно слово обрядовой песни не было пропущено или, упаси боже, переврано.
– Ну, девушка, ино уж твой черед! – приказала она Ольге.
Невеста закрыла лицо руками и завела песню-причет, которую слышала с детства на всех клементьев-ских свадьбах:
Ветры буйные, разбушуйтеся,
Заметите путь-дороженьку,
Не пройти бы, не проехати
Чтоб за мной, младой, чужим людям…
Ты закройся, красно солнышко,
Разбушуйся, туча грозная,
Туча грозная да громовитая,—
Напустися ночью темною,
Рассыпайся, крупный дождичек,
Разведи ты путь-дороженьку,
Не пройти бы, не проехати
Ко мне злым, чужим людям…
Песня была длинная, жалобная и по чину своему неспешная, с подвываньями и вздохами.
В низкой избе было нестерпимо душно и жарко. Ольге хотелось пить, но песню прервать было никак нельзя. Последнее время Ольга все не могла вдоволь выспаться: дурные, перебойные сны мучили ее. И сегодня она прометалась всю ночь, веки жгло от долгого недосыпа, плечи ломило. Так и хотелось положить тяжелую, словно звенящую голову на этот стол, разубранный расписными холстами, – и уснуть намертво, чтобы ничего не видеть и не чувствовать. Но никак нельзя было прервать чинную и унылую песню.
Как подъедут-то злы, чужи люди
Ко широкому двору, ко красному…—
певуче причитала Ольга, раскачиваясь, словно во сне.
А пока невесту собирали к венцу, с дальней улицы Сергиева посада уже выехал в Клементьево шумный женихов поезд. Поезжане сидели на телегах, разубранных яркими ткаными половиками и расшитыми полотенцами. Некоторые из свадебных «бояр» спьяну горланили песни и переругивались с каждым встречным. Еще больше пугал честной народ женихов дружка Пронька Теплов. Ехал он впереди всех, верхом на сытом караковом коне, надувшись от важности и бия пятками в крутые конские бока. Конь, вздыбясь, кидался куда попало, а все прохожие с визгом и проклятиями шарахались в сторону от дикого ездока.
Гремя бубенцами, въехал Пронька на пыльную клементьевскую улицу, а за ним с гиканьем подкатила передняя телега, запряженная парой лошадей.
Топая коваными каблуками, Пронька вошел в сенцы. Его курносая рябая рожа от тяжелого похмелья казалась распухшей, белесые глаза глядели бессмысленно, как у идола. Подружки невесты встретили его песней:
Друженька пригоженькой…
Неспешно проходила продажа и купля девичьей косы, а дружка, бояре и полудружки одаривали невестиных подружек. Варвара, важная и лукавая, загадывала свадебным поезжанам загадки одна другой замысловатее. За каждую промашку поезжане раскошеливались, а девушки с визгом и хохотом бросались поднимать деньги, пряженые пряники, орехи каленые, ширинки цветные. Наконец, когда пропили невестину косу и купили место возле нее, Пронька Теплов, обливаясь потом, подошел к невесте и взял ее за руку, чтобы вести к венцу. «Седые двойни» и суровые костистые жены их благословили невесту новенькой иконкой с румяной круглоглазой богородицей – и отпустили в новую жизнь.
На паперти церкви Параскевы-Пятницы поезжан с невестой встретил жених Осип Селевин. Его брачный кафтан ярко горел на погожем сентябрьском солнце. Нищие, юродивые и калеки, костлявые, рваные и лохматые, жадно глядели на зеленую парчу, словно оголодалый скот на яркую траву заливного луга. Их голодное завыванье словно еще больше распаляло торжество Осипа Селевина. Он стоял, охорашиваясь и будто купаясь в зависти, которая изливалась на него из мутных глаз церковных подонков.
– Гряди, голубица моя! – и он протянул навстречу Ольге смуглые волосатые руки, стянутые богато расшитым орукавьем. Его черные глаза озорно и зовуще улыбались, а крупные зубы горели и светились, как добела раскаленная полоска железа. Ольга зажмурилась и пошатнулась.
– Эко, девка! – властно шепнула над ухом Варвара. – Подберись веселее, чай, тебе, дуре, счастье на блюде несут!
Вокруг церкви шумела толпа. Даже беглецовы женки сошли со своих горемычных телег и любопытно глядели на богатую свадьбу. Поезжане, жениховы дружки-товарищи, наследники посадских гостей – купцов, расхаживали по паперти, наблюдая за порядком. Двое из этих нарядных молодцов даже помахивали крашеными веревочными плеточками. Зубоскалы из толпы насмехались и дерзили:
– Ой, молодецка плеть, не замай нас, бедных!
– Пошто шелковых не завели, молодцы-гостенечки?
– Эх ты… седло репяное, башка горохова-а!
– Ha-кося, размахалися – чай, не коней стерегут!
Данила Селевин стоял в толпе ближе к паперти.
Чтобы не смущать людей, – чернец на свадьбе не к добру, – он снял свой послушничий колпак и расстегнул кургузый подрясник, который в таком виде совсем походил на бедный кафтанишко тяглеца.








