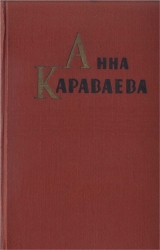
Текст книги "Собрание сочинений. Том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице"
Автор книги: Анна Караваева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 34 страниц)
Бывали и иные времена. Хотя и тогда обижали богатеи бедных алтайцев, но никто не гнал их с родных становий, не отнимал их лугов, не уводил лошадей и баранов, солдаты не жгли аулов, чтобы рыть и взрывать камень, ища там золото, руду и драгоценные породы.
И преисполнилось сердце Удыгая острой печалью.
Удыгай запел старую песню, что родилась среди пожарищ, плача и разорения, когда пришли русские рыть и дробить твердыню гордых Алтайских гор.
Пел Удыгай:
Ой, ой, аул горит.
Ой, ой, стадо бежит.
Ой, ой, бабы ревут.
Девки воют, ребята боятся.
Мужики на себе волосы рвут…
Где стада мои? Солдаты увели.
Где юрта моя, войлоком крытая?
Купцы с солдатами сожгли.
Царю надо Алтай копать,
Ищет золото русский царь…
Царь идет с великим огнем…
Царь солдата шлет,
Найдет везде алтайца,
Будто птица он, русский царь,
Птица страшная,
Жадный орел, —
Его клюв в грудь нам вонзился,
Тело наше клюет.
Клюв у орла золотой,
Золотой клюв его всегда в крови…
Долга песня, уныла, от нее даже ест глаза, как от дыма. Пел старый Удыгай, качаясь горестно, как в бурю сосна с высохшими корнями. Пел Удыгай, а молодой кержак Алешка пересказывал по-русски старинную песню-быль. Удыгай кончил и молча обвел всех глазами. Аким Серяков молитвенно сказал:
– А вот, братцы, слыхивал я от стариков, ежели от Усть-Каменогорья все иттить к теплу, на Китай, так есть тамо страна вольная…
Степан, как всегда за последнее время, горько ухмыльнулся:
– Вольная страна! Вроде как бухтарминская воля – ты наверху хоронишься, словно белка орешки сладки щелкаешь, а внизу солдатня ходит, тебя поджидает. Не так ли тамо?
Но Аким даже не заметил усмешки Степана.
– Про город Аблайкит [39]39
Аблайкит – в 70 верстах к югу от Усть-Каменогорска – развалины древних городов. Паллас в своих путешествиях описывает Аблайкитское капище, которое прекрасно сохранилось до того времени. Но и там упоминается про крепость – форпост Аблайкитский.
[Закрыть]баю… Жило тамо племя какое-то богатеющее. И пришла к им болесть злая… Померли от ее все, а богачества оставили в погребах глубоких, богачеств на всее жисть хватит… И лежат они в земле, упорных людей ждут…
– Не тебя ль, кишка зобаста? – насмешливо бросил кто-то из дружков Сеньчи. Не любил Сеньча и Акима за то, что тихий, застенчивый парень все рвался куда-то, не прикреплялся к месту. И тут не утерпел Сеньча, чтобы не ущемить загоревшуюся душу Акима:
– Про себя кумекаешь? Таки людишки, кто с места на место, словно кукушка, переметываются, упорны молодцы, по-твоему? Хо-хо-хо!.. Таким клады не даются.
Степан искоса глянул на пополневшее, румяное, но сейчас беспокойно дергающееся лицо Сеньчи и сказал так же зло, усмешливо:
– Все по своей мерке ладишь. Токмо и упорства твоего, што в землю вгрызться да на всех плюнуть, добра нажить поболе, а дверь на клюшку изнутри, штобы народ неприютный твою утробу не тревожил. Вот како упорство твое. Знаем!
Сеньча вскинулся, как всегда, с бешеной горячностью, будто что у него отнимали:
– А мне чо? Всех угреть повелишь? Кажной за себя. Чай я настрадался вдосталь. Я бы вот…
Марей строго пошевелил нависшими бровями:
– Не якай! У всего народушка така же жисть… Кумекаю: сила в народушке большущая, ежели он скопом пойдет.
Сеньча усмехнулся.
– Н-да-а!.. Народ сбирать… Якшайся со всякой рванью!.. Один ленив да на ногу тяжел, а мне работка всего дороже!
Марей же повторил упрямо:
– Нет, хоть какой будь, а коли скопом, так тогда силища страшная…
– Ну… гуляща куча! – буркнул Сеньча, но никто не обернулся на его слова, а голос Степана зазвенел упруго, как струна:
– Надо на дальние места уйти, ежели здесь воля обманная, в Аблайкит, што ль, и надо там совсем внове жисть ладить, а то ничевошеньки не выйдет. Все народ работной собирать, собирать, а через верных людей пущать слух о вольных, необманных сих местах. И наберется народушка столько, что целы города вырастут, и как соберется враг, пойдет на города, то уж крепок станет народ.
Степан упрямо помотал густоволосой головой и резко добавил:
– Не то што мы… Сороки на коле, а под колом волки.
Сеньча вдруг гаркнул громко:
– Не сорока, а дурак!.. И первеющий дурачище ты! Казачье в бездорожье не полезут, побоятся, а умный от добра добра искать не пойдет… Больно грамота твоя тебя портит, вот и дурит твоя башка, выдумывает разное… А дело для меня простей репы: вот у меня в зубах сладкий кусок, я и держу его крепко.
– Тьфу-у! – плюнул Василий Шубников.
А Удыгай-, моргая глазами, все больше дивился, отчего так кричат гости, отчего пылают на их лицах жаркие пятна взбунтовавшейся крови.
Все непереноснее грызла Степана тоска. Думал, окунется в вольную жизнь, как в солнечную воду, и по весне проберется в постылый город, к шумной плотине, где стоит большой белый дом с колоннами, увидится с Веринькой и увезет свою милую на горные поляны, к серебряной Бухтарме.
Тонкое личико в седой пене парика, мушки, хрупкий стан в тугой корсетке, шуршание пышных юбок, нежные, робкие ужимки, перенятые в девичьих и возле барыниных шкафов, голос – тихий звон, трепетное тело, ласково испуганные глаза – вот она, вот она, Веринька, утешительница в тоске затхлой комнатушки, под кривой лесенкой начальничьего дома…
Однажды в погожий день Степан увидал в Бухтарме свое лицо, темнокожее, обросшее густой, жесткой, курчавой бородой, свои длинные, смякшиеся от редкого мытья волосы и нашел в себе что-то медвежье. Давним, давним сном казалось все пережитое в качкинском доме, но Веринькино лицо горело, как неизменный звездный огонь, родной, как своя душа.
Как волк под деревом, сторожил подошвы гор ненавистный и, казалось, навсегда брошенный им мир. На горных полянах согласье уже ослабело, одни хотели крепко осесть на землю и наживать добро, другие же в хозяйство врастали с развалкой, лениво, потому что от всего этого отвыкли, а главное – в безопасность не верили, в окончательное спасение от длинных щупальцев главной конторы.
– Эх, хоть бы ты была со мной, родненька-а! – тосковал Степан. Шло горное лето с прозрачными ночами, и девичье лицо казалось так близко – руку протянуть, и вот она, Веринька.
Марей ворчал:
– Здря ты, паря, городску себе облюбовал… А человеку, брат, и бабу надо выбирать свойскую, а не чужую… Здря за такой гоняешься. Бери алтайку лучше…
– Надо вот скореича в Аблайкит уйти, тамо, бают, вольно. Долю нашу, видно, не найдешь скоро-то… – хмуро отвечал Степан.
И ушли бы на Аблайкит, да встретил Степан в лесу охотника… Рассказал охотник, что Качки приедут гостить в горный форпост «Златоносная речка», а с ними, значит, и синеглазица любимая!
И Степан умолил Марея и Акима домчаться вместе до катунских истоков, а там, может быть, ждет удача: птицей из клетки бросится Веринька на широкую грудь Степана – и тогда ее, сияющую и покорную, хватай – и на коней.
Горный форпостФорпост «Златоносная речка» – на горе. На валу возле ворот пушка, когда-то крашенная в зеленую краску, а теперь проржавевшая по самые колеса, будто вросшая в землю. Но невелика беда, что пушка форпоста «Златоносная речка» не стреляла – достаточно было одного ее вида. Царские укрепления в пушках почти что и не нуждались. В первые времена, правда, попаливали демидовцы в «дурье калмычье», что не хотело сразу отдать русским дорогих сердцу угодий. Но ведь не трубками же драться калмыкам, коли охотничьи их самострелы не страшны для солдатских ружей…
Совсем голы были руки у беглого бергальского люда, который крепостной вал чуял издалека.
Качки уже не впервые приезжали на «Златоносную речку». Гаврилу Семеныча манил сюда воздух вольный, не зараженный заводской гарью. Марью Николаевну тешили тающие взгляды и робкое обожание офицерской братии.
Марья Николаевна, раскинув шумящие роброны своего летнего платья из розового тарлатана, томно обмахивалась веером. Снисходительно посмеявшись над какой-то россказней комендантши Фирлятевской, начальничиха вдруг заметила, что у комендантши лицо свежее, глаза темные и блестящие, а алые губы приоткрыты, как чашечка цветка, что она молода. Даже обозлилась на себя супруга Качки, как это не сумела предвидеть себе этой помехи.
– Ах, душенька, что у вас сие за платье? Ах, ах!.. Мешок мешком!.. А матерьица-то!.. Ай-ай! Точь-в-точь у клюшницы моей прабабушки такая ж была. Да ведь, милая моя, вы урод в ваших нарядах… Прямо страсть, как вы нехороши в них, хоть… и приятно кое-чем лицо ваше… А туфельки ваши!.. Го-лу-у-бка-а!.. Разве ж сия обувь радость для женщины? Просто ящик для ноги, не более… Comme les sabots des paysannes en France [40]40
Как обувь крестьянок во Франции ( франц.).
[Закрыть]. Ах, прощенья прошу… Я запамятовала, что вы французского диалекта не знаете…
Капитанша вдруг встала, с ненавистью обдернув свое старенькое кисейное платье.
– Напрасно-с… Я… я… по-французски обучена тож… Папенька мой дворянин…
– На сколько душ?
– О, господи-и! Я-с… не приказчик… и… и… малой осталась от папеньки.
Комендантша убежала, всхлипывая, отчего подпрыгивали темные завитки на розовой шее.
Супруга Качки зато почувствовала глубочайшее удовлетворение, когда увидела по выглянувшему из куста улыбающемуся лицу горного ревизора, что он слышал весь этот разговор.
Комендантша слезно жаловалась мужу:
– Да неужто ж мне и защиты нет от подлой сей форсуньи?.. Так вот и топчет, так и топчет… Униженья от нее столь много терплю… Все пересмешила, как есть дурой и неряхой выставила… И все при мужчинах старается.
Капитан растерянно удивлялся:
– За что ж, миленькая, она тебя так? А?
– За что? Я молода, мне двадцать, а ей за четыре десятка… Я не крашусь, не малююсь, в рюмку не тянусь, а на нее без румян да сурьмы не взглянешь… Вот потому и пристает… Хоть бы ты, Петя, сказал, намекнул бы самому Гавриле Семенычу.
Фирлятевский испуганно отшатнулся и заморгал редкими светлыми ресницами, старчески потирая лысеющий лоб:
– Ох, батюшки! Уж и молвишь! Да разве я осмелюсь об сем доложить? Да ведь он меня в порошок, его превосходительство-то… Ушлет куда-нибудь к черту на рога, к самой китайской границе, на Аблайкитку какую-нибудь, вот и дохни там на грошах да в смертной скуке… А тут и в картишки можно перекинуться и… – его тощее лицо вдруг просияло, – и флора здесь богатеющая!
– Дурак! – со слезами крикнула капитанша. – Только и носится с гербариумом своим, все из-за сего готов забыть!
Фирлятевский виновато приглаживал жиденькие русые височки. Правда, неизменной его страстью были гербарии, которых насчитывалось у него не одна сотня листов и ящиков.
Жена не унималась:
– Пылит, пылит всем в глаза… Я, я… мы… а у самих долгу более, чем волос на голове… Нет купчишки в Барнауле, кому бы они не задолжали… Сюда приехали ныне тож из-за недостачи, небось по Парижем не наездишься каждый год… А ей, забияке, хватит ломанья: я-де горную натуру обожаю… У-у… ненавистная!.. Подлая, обманщица!.. Мужа старого водит за нос, из любовника правую руку мужу сотворила…
– Ш-ш!.. Матушка, не петушись! Молю!
– А я вот возьму да и покажу ее красавцу всякие галантерейства… И пусть злится, когда он на меня будет глядеть…
– Сашенька, женушка, опомнись! Аль загубить меня совсем порешила?
И жилистой, дрожащей рукой Фирлятевский закрестил жену.
Жена бешено сжала маленькие кулачки.
– О-ох! Даже сего я не смею… Так, значит, и кланяйся перед ней?
– Ну, что же делать-то?.. Подчиняйся высшим… Мал наш род, мелок, Сашенька, вот и маемся.
«Малость рода» всегда чувствовал комендант Фирлятевский как некое проклятье.
Назавтра Качка сказал ему:
– Отобедать со мной, государь мой и господа офицеры, милости прошу. И вас также, сударыня.
За обедом комендант Фирлятевский говорил робким голосом, горбился, не зная, куда деть худые ноги в залатанных сапогах, старый запятнанный сюртук, неуменье держаться за обильным этим столом, болтать и смеяться. Жена сидела понурая, с пылающими щеками, ежась в своем праздничном, уже выцветшем голубом платье. Молоденькие офицеришки таращили глаза на ослепительную начальничиху, упивались запахом парижских духов, сторицей отвечая на ее любезности. Сами же с забывчивой жадностью тянулись к соблазнительным бутылкам и фруктам из качкинских походных погребцов.
Офицеры были молоды, и начальничиха угощала их тем охотнее, что этим могла возбудить досаду в избалованном сердце любовника и показать, что в ней еще много огня и прелести. Правда, не одна пара глаз косила в другую сторону, на край длинного стола, где разливала вино по бокалам молоденькая женщина с синими глазами, но угождать начальничихе было выгодней.
– Веринька, – говорила ей Качка, – налей сим любезным молодым людям и подбери фрукты.
И синеглазая с неизменной улыбкой оживляла хрусталь золотым и багряным вином.
Всего тоскливее было комендантше Фирлятевской. С ней никто не разговаривал – хитрые офицеришки пронюхали про нелюбовь к ней супруги Качки. Ее будто и не угощали, о ней забыли. Не поднимая глаз, она мяла на коленях свой штопаный кружевной платочек, бессильно пламенея злой думой:
«Мальчишки-офицеришки!.. Токмо бы всем глаза голодные залить… Погодите, желторотые! Я не я буду, коли не погоняют потом вас на караулы!.. Пусть только Качки уедут восвояси… Уж тогда покажу я вам, тогда я – начальство над капитаном Фирлятевским».
Но злость все же утешенье плохое, и капитанша не могла больше выдержать. Приложила платочек к виску, развела губы гримасой улыбки.
– Прощенья прошу… голова разболелась…
Супруга Качки кивнула гордо-насмешливо, будто сказав: «Да ты тут вовсе и не нужна, голубушка».
Комендант Фирлятевский еще острее почувствовал свою дворянскую мелкоту, но уйти никак не мог.
После десерта Гаврила Семеныч поднялся, выгнул вперед грудь в серебристом шелке летнего жилета, церемонно поцеловал женину ручку и сразу скинул с лица улыбку обходительного хозяина:
– Ну, господин комендант и господа офицеры, чаю я, весьма зело мы за столом услаждались, пора и к делу перейти: важное устроим совещание.
Будто снисходя к человеческой слабости, небрежно кивнул в сторону почтительно согнувшейся упитанной лакейской спины:
– Так как молодые господа меру в удовольствии не всегда соблюдают, Петрушка угостит вас сейчас настойкой содовой. Для деловых размышлений светлость ума – наипервейшее условие.
Молодежь, тихомолком морщась, поплелась гуськом вслед за сутулой спиной своего коменданта в комнаты, отведенные Качкам.
Гаврила Семеныч опустился в кресло и, погружая бритый подбородок в белую пену кружев, вынул из кармана большой конверт.
– Вот. В сем рапорте ваш комендант повествует нам о нападении наглом беглой шайки на «Златоносную речку». Ведомо: злодеи не удовольствовались тем, что увели коней, а еще ограбили амуниционный магазин, всем тем принеся ущерб благосостоянию оного места. Посколь господин капитан дознание производил, то виновные часовые кой-какую разгадку дают. Ваше слово, государь мой Петр Иваныч!
Фирлятевский, волнуясь и по уши краснея, рассказал, что прозевавшие казенных лошадей запомнили двух похитителей: высокого русоголового парня и огромного старика с корявым лицом. Старик называл парня Степаном.
– Так, так, сударь мой!
Лицо кавалера Качки приняло победоносно-лукавое выражение.
– И рассуждаю я так. Не имеем ли мы в руках нить клубка Ариадны?.. Хе-хе!..
И Гаврила Семеныч, зная, что видит перед собой терпеливых и почтительных слушателей, пространно рассказал про побег прошлой весной двадцати четырех мастеровых, с которыми убежал и собственный его гайдук.
– Так и мыслю я: не мой ли гайдук Степка в сих проделках злостных участвует? Ростом и лицом он отменной, а я видных гайдуков смолоду выбираю. Та-ак!.. А что сей злодей Степка гнусной дружбой с подлой мастеровщиной бегство свое предварил, про сие рассказала мне, как на духу, супруги моей воспитанница Веринька, кою вы за обедом видели. Сию девицу преступной негодяй думал тоже в свою веру перевесть, но недаром она выросла возле супруги моей, и взяло ее раскаяние. Слезно выпросила прощенье и все обсказала, как было, какие речи говорил злодей-гайдук, какой бунтарской дух кипел в нем. Вот какая сила была в нем, что сия наша девица долго еще не могла его забыть, пока мы не выдали ее замуж за младшего канцеляриста главной конторы… Ну, сие я к слову… Итак, вы видите, сколь злобность черни становится упорной: залезает даже в наши дома, не говоря уже о том, насколь опасно сие для государства Российского. Посему, милостивые государи мои, считаю я, что гарнизону «Златоносной речки» особливая бдительность нужна… И… и… злодеи сии должны быть пойманы, господин комендант!
Фирлятевский вскочил, вытянулся, руки прилипли к бокам.
– Слушаю-с, ваш… пре… вос… ход… ство…
Качка улыбнулся, слегка отмахиваясь.
– Люблю сию готовность. В ней лучшая слава нашей армии.
Порешили в конце концов усилить конные разведки, ввести стрельбу по ночам, солдат «кормить плотнее, дабы стреляли крепче».
Вечером же, рассеянно смотря, как жена причесывает перед тусклым зеркалом густую темную косу, Фирлятевский говорил скрипучим шепотом:
– Беда мне с ним, Сашенька, чисто мученье… Приказал солдат кормить лучше, а на кухне повар ихний проходу никому не дает… Нам к обеду надо щи солдатам варить, а он велит плиту освобождать. Целый день жрут, господи меня прости! И ведь ничего сей французской роже сказать не смей… Повар генеральской!.. А как с солдатскими-то щами? Вчерась опоздал обед, ныне тоже…
– Ага-а!.. И тебе тошно стало? А когда меня сия крашеная…
Фирлятевский, выпуча глаза, зажал ладонью женин рот.
– Ой, батюшки-и! Тише ты, безумная! Неравно услышат… Ф-ф-у-у!..
Супруги долго не спали. Фирлятевский, морща в темноте лысеющий лоб, нервно подрагивал тощим телом и шептал:
– Должны, говорит, поймать злодеев. А? Подумай… Да так сие грозно произнесть изволил… О-ох!.. поймать бы, женка! В чине бы повысили, отсель бы взяли в город беспременно…
Жена, унимая невольно расплывающуюся счастливую улыбку, подхватывала:
– А в гарнизоне при главной конторе коли отличился б, то, глядишь, и в Петербург бы назначили… Ах, там… вот жизнь!
В комнатах переднего фасада, что отводились для приезжающего начальства, Марья Николаевна, уже убранная на ночь, сердито возилась в кресле, топая об пол каблучками:
– Душе моей здесь непереносно, понимаешь ли ты сие? Ужели ты хочешь остаться здесь доле?
Качка в китайчатом шелковом летнем шлафроке ходил большими шагами, потирая за спиной руки.
– Да, да… Я твоим желаниям покорен, коли сие помехой моему служению не является… но… но… ныне, Машенька, не обессудь: останусь, сколь мне покажется нужным. Я по всем на округ форпостам гонцов разошлю. чтобы готовили свои гарнизоны в наступление…
– Господи, война… С какой державой?
– Э, матушка, не дури. Какая война?.. Беглых пойдем ловить. Мужики, дьяволы, наверняка знают, где логовища сих негодяев. Мы их заставим сказать… Я – я… сам во главе наших доблестных отрядов пойду брать горные сии разбойничьи гнезда.
– Господи! Чернь сия токмо портит жизнь. Кабы всех их изморить…
– Прямая дура и дура… А кто работать для нас будет?.. Так уже господом всеблагим положено испокон веков. Ты знаешь, каково число благородных, богатых и прочих достойных людей и каково число работной черни?.. Нас ведь кучка, кучка… И сии глядят на нас, злобствуют, все от нас вырвать желают. Потакнуть им, краешек в руки дать, так они… у-у что натворят!.. Да и философически сей предмет не беря, мне, наместнику власти царской в сих богатейших местах, разве же переносно такие преступления черни видеть да из-за бергальского сброда такие беспокойства терпеть?.. Чины да награды, матушка, даром не даются. Ведомо те, что мне де ла Кройэр писал и докладывал про дела на Курослеповом руднике?.. Ведь там вправду бунт мастеровщина учинила, чуть маркшейдера не убили… А сами убежали в горы. Посему ныне я сердитых ваших губок знать не знаю, супруга моя драгоценная. Дела поважнее есть.
Веринька получила от мужа письмо. Матвей Иваныч, младший канцелярист главной конторы, письма жене считал упражнением канцелярского искусства и писал так же, как и казенные бумаги.
«…Чаю, ее превосходительство долго тебя задерживать не будет при своей особе, хотя не советую тебе и единым намеком тоски своей по мужу законному высказывать, ибо я весьма и весьма дорожу расположением к тебе их превосходительств. Сие, при мелком нашем звании, по пути продвижения к чинам немалое имеет значение. Посему, как первый друг, наставляю тебя, дабы ты к их превосходительствам, благодетелям нашим, всегда взгляд верной и любящий обращала. На ушко спрошу тебя: может, опять какой презент сделала тебе благодетельница наша, а? Чаю, хватит уже с тебя всяких женских безделушек, можешь напомнить, что не худо бы тебе было мужа новым сюртуком да штанами побаловать, особливо ежели сие суконце синего аль зеленого цвета, как у нашего главного секретаря.
Теперь о новостях наших.
Приглашали меня намедни в суд писать резолюции по делу о беглых, поймали их опять целую кучу, бежали-де на Убу и на Бухтарму. Видел я сих дураков… ну, не люди, конечно, а просто жалкое отребье рода человеческого. Присудили им шпицрутены, – не бегай впредь да от солдат правительственных оружий не отнимай, довольствуйся своим шестком. Очень они начальству грубили, посему поделом им наказание. За сие дело получил я такую мзду, что смог нашу спаленку и салончик новыми обоями оклеить, а также справить занавесочки на окны. Обои же, пышечка моя, одна галантерейность: голубые с алыми цветами.
Еще чуть не забыл. В обществе, в коем ты находишься, незачем быть недотрогою, даже смешно. Я замечал, что его высокоблагородие, горный ревизор, большой ценитель женской красоты. А как-то заметил я, и тебе он благосклонность показывал, посмотрел на тебя так сладко и приятно. Он – начальство мое тоже, не забудь сие. Посему монашеского лица не строй, коли случай будет. Нам о будущих временах позаботиться следует, ведь дети будут, а из них охота, я чаю, людей сделать, а отцу же лишнюю медальку на грудь или чин асессорский, к примеру, иметь не худо.
Итак, прими мои советы во внимание. Я же люблю тебя неизменно, посколь ничтожная моя доля сие разрешает.
Целую тебя, пышечка, в глазки, ручки, губки.
Твой любящий муж
Матвей Залихваев».
Веринька сложила письмо на коленях, улыбнулась было, представив себе спаленку в голубых обоях, но сникла вдруг, опустив завитую белую чолку.
Со вчерашнего дня не могла опомниться от тяжкого, холодного страха. Уже стала забывать прошлогоднюю весну, золотой вечер, слезы на площади перед приказом главной конторы, расслабляющую тоску и боязнь длинных бессонных ночей. Жизнь, уже успокоенная рассудком и привычной колеей, установила мерный бег дням, и вдруг разговор за обедом поднял все забытое со дна души.
А вчера еще из своего уголка в передней за шкафами и баулами услыхала, как беспокоился Гаврила Семеныч. Молодая женщина тихонько пошла по дорожке, нервно обрывая листья. С каким-то смятеньем думала:
«И все-то беглые, беглые… И чего бегут? Ведь хлеб имеют… Ужли всем дворянством быть?.. Видно, так от бога…»
Вдруг, будто кто шепнул в ухо слова Степана:
«Жди меня две весны».
Она прижала руку к сердцу.
«А я… и одной не дождалась!»
Веринька обмахивала разгоряченное лицо платочком. Пахнуло нежно и успокаивающе вербеновым настоем.
«Ведь я ему не жена была? Так просто, жалела и жалела по-девичьи… А ему что не житье было?.. А мне какая от него радость была бы?»
Веринька мелкими шажками пошла к беседке, где стояли пяльцы с вышиваньем для ножной подушечки Марьи Николаевны.
– Здрасьте, Вера Андреевна!
Это капитан Фирлятевский. Кивает длинной и узкой, как огурец, головой. Улыбаясь, перекладывает в куче желтого песку свои находки.
Вера Андреевна обрадовалась ему и наклонилась над кучкой песку.
– Каких опять цветов насушили, Петр Иваныч?. Видно, удачен гербариум ваш ныне?
Капитан просиял. С ребячливой торопливостью он развернул большую папку, где на толстых листах пестрели листья и цветы.
– Вот-с… прошу-с… Tentiliana sibirica – школьница сибирская, какие колокольцы-с!.. Голубое с синью, словно небо перед грозой-с… Или-с: diospyros lotus – курма… Чудесное-с растеньице. Цветик, как золото-с, а лист чисто бархат-с… А вот-с: populus balsamifera – осокорь душистая-с. Нюхните-с. Правда, какой запах и посейчас?.. Дары флоры алтайской неисчислимы.
Смешно надувая худые щеки, он вдруг сказал с самозабвенной важностью:
– О, велика ты, природа… flora altaica!
– О, велики вы, господин ученой ботаник!
Горный ревизор стоял на тропинке, в сером сюртуке, и щурился от солнца, забрав в руку изнеженный свой подбородок.
– Не надоест вам сия возня с букашками и таракашками?
Фирлятевский вспыхнул досиза и начал торопливо собирать все, бормоча:
– Что ж… Пристрастие большое к науке имею… Грешен-с… В сем отрада моя… От юности ни вину, ни картам подвержен не был… А вот наука ботаника-с…
Но ревизор уже повернулся к нему спиной и, оглянувшись по сторонам, согнул калачиком свою руку.
– Чаю, прелестнейшая, молодой даме не идет одинокой сей променад. Comment pensez-vous, ma gentille? [41]41
Как вы находите, моя прелесть? (франц.).
[Закрыть]
Робко улыбаясь и радуясь, что может ответить, женщина притворно заупрямилась:
– Comme vous voulez, monsieur… Mais… jʼai peu de temps… [42]42
Как вам угодно, сударь… Но… у меня мало времени… (франц.).
[Закрыть]Я-с еще не кончила работу для ее превосходительства.
– О, какой язычок гибкой и нежной… Я совсем потеряю скоро голову от ваших прелестей…
– А… ее превосходительство?
– О-о… Плутовка! Перезрелой виноград долго возле губ не подержишь. Ш-ш!.. Кто-то идет, моя куколка… Приходите завтра после завтрака к краю стены, туда, к соснам… А пока пусть полюбуются глазки сии скромным выражением моих чувств.
Сделал ручкой и исчез в кустах.
А Веринька с полуоткрытым ртом замерла над «презентом» ревизора. До того хорош подарок: малиновый дамас с черно-синими прожилками. Упругость, шуршание – замечательные. Ни в одной лавке барнаульской не найти такого шелка.
Весь день с утра Веринька, Вера Андреевна Залихваева, младшего канцеляриста жена, промечтала о том, как все модницы городские увидят ее в соборе в новом платье. Вспыхивая самолюбивым румянцем, думала:
«С зависти полопаются… А Мотя все будет охорашивать… Купил ли он щегла в спальню?.. Надо будет написать».
Шла на свидание с горным ревизором, с лукавой усмешечкой кивая полнотелому образу супруги Качки:
«Очень уж вы самонадеянны, ваше превосходительство!.. Думаете, ни на что я более не гожусь, кроме как ваши капризы выполнять… А вот вашего же предмета к себе привлекаю без усилий многих».
Вера Андреевна вдруг вздрогнула, изумленно раскрыв глаза: впереди, щелкая, свистел соловей.
«Экая прелесть!.. Соловушко!»
Невольно пошла на зов милой птицы. Соловей пел где-то в кустах, замирая в нежных переливах.
«Ах, ты, птичка божья голосистая!»
Вера Андреевна дошла до самого края стены.
Вдруг… оборвалось пение.
Через стену перескочил человек. Русобородый, большой…
– Родненька-а!..
И он обнял ее ноги, наступив на упавший из рук веер.
Она поняла все и шепнула, похолодев всем телом:
– Господи-и!.. Ты…
Горячие руки сжали тонкий стан в корсете, а серые глаза, неумолимо сияя, искали ее взгляда.
– Лапушка!.. Ты… ты… Стосковался… Люба моя… За тобой прилетел… Кони тут… Ну, да что ж ты!.. Не ждала? Я ране пришел… Вишь ты какая!.. Ну? Ась? Молви словечко, ну!
Лицо у него было темное от загара, мокрое от пота, грязное от пыли. Длинные уши его меховой шапки мотались. Ноги в меховых котах походили на ступни медведя. Борода и отросшие волосы обнесли его лицо жестким кустарником. Он был чужой, ненужный, страшный…
С усилием, будто не своими руками, женщина хотела разнять его жадные руки.
– Не надо… Боюсь… боюсь я…
Он блеснул зубами:
– Да ужли тут останемся?.. Сейчас вот тут товарищи мои с конями. Помчимся, словно ветер… Эй, коней готовь!
Над стеной вдруг встало темное, в седых космах, изрытое оспой лицо.
– Кидай ее сюда, Степанко!.. Я ее на коня донесу!
Корявый старик протянул огромные ладони, готовые раздавить ее, Веринькину, жизнь, как кусок сырой глины.
Вера Андреевна вскрикнула, грузно осев в пышных своих оборках. Горячая ладонь зажала ей рот.
– Ш-ш!.. Родненька… сгубить хошь?.. А ты, Марей, уйди… Вылез с рожей-то… Напугалась она, вишь… Ну!.. Держись за меня, долгожданная…
Ее подняло, как на волне. Под локтем стучало сердце бородатого, чужого человека. Вера Андреевна, не помня себя, взвизгнула пронзительно:
– Помоги-и-ите! Ра-аз-бой-ни-ки!
Спала волна… раздалась, уронила на землю… Земля же наполнилась гулом, свистом, уханьем, выстрелами.
Когда Вера Андреевна открыла глаза, уже вечерело. Она подняла голову и встретила веселый взгляд Гаврилы Семеныча. Вокруг постели стояли: Марья Николаевна, горный ревизор, Фирлятевские, офицеры, даже повар с поваренком.
– Ну, наконец-то очнуться изволила.
И Гавриша Семеныч поцеловал ее в лоб.
– Ну, ну! Радуйся, героиня наша!
Кругом о чем-то гудели, смеялись, о чем-то спрашивали.
Вера Андреевна обвела комнату одурманенным взглядом.
– Да что ж это было-то?..
– Хо-хо-хо!..
– Ха-ха-а-а!..
– Вот молодец!
И Гаврила Семеныч, поднося ей к губам стакан вина, сказал торжественно:
– Да ведаешь ли ты, глупенькая, какую услугу ты всем нам оказала? Благодаря тебе пойман негодяй Степка Шурьгин, бунтовщик и богопротивник, а с ним и двое беглых бергалов… Тихоня, думали мы, а ты вон как смышлена – в самый раз крикнула. Мерзавцы к коням. Я кричу солдатам: «Водки выкачу, лови!..» Солдаты коням наперерез… Стрельбу подняли. Один из негодяев, – щуплой такой, козявка, перевернулся, замер, в ногу ранило… Я тщусь Степана словить… Он было вот-вот коня поймал… Двум солдатам руки успел прокусить, подлец. Вот-вот на коня сядет… Ан, нет, подлая душа! И господь против тебя. Я выстрелил. Тр-рах! Ранило Степку в плечо… Старика же связать успели.
Гаврила Семеныч сел с размаху в кресло, поматывая головой:
– Ох, и устал же я!.. Батюшки-и!.. Господи, благодарю тя за помощь твою!
В подвале было темно и сыро. Сруб глубоко врылся в землю, в окне же была двойная решетка: железная и деревянная, отчего в глазах нудно рябило и жгло веки.
Пленники молчали. На плечи навалилось каменное спокойствие. Было ясно: отсюда не убежишь.
Только возился все Аким. Ныла нога, рвало рану. Он весь дрожал на холодном скользком полу. Прерывисто покряхтывая, Аким все подсовывал под себя гниющую солому, до тех пор, пока окончательно не изнемог от жара и не забылся в бреду.
– Пропадем! – сказал глухо Степан.
– Видно, так, – ответил Марей.
В окне мелькнули солдатские сапоги. Дернулся всем телом Аким:
– Служивенько-ой!.. Братец!..
В окно заглянуло любопытными глазами лоснящееся потом лицо.
– Чего тебе? Пошто орешь?
Аким захрипел пересохшими губами:
– Родно-ой!.. Принеси водицы… а? Ногу промыть… Да и нутро горит…
– Водицы-ы!.. – раздумчиво сказал солдат, потоптался и договорил словно уж одними сапогами: – Не приказано…
Аким опять заметался в бреду. Степан сказал сквозь зубы:
– Нашел кому жалобиться… С ними кто ни поживет, тот сам змеей станет…
Он вдруг толкнулся стянутыми веревками плечом в плечо Марея.
– Мареюшка… дедушка… с собой и вас обоих загубил… Прости…








