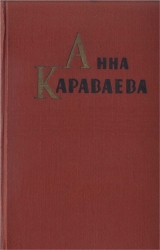
Текст книги "Собрание сочинений. Том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице"
Автор книги: Анна Караваева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 34 страниц)
Данила поделился с ней досадой и беспокойством: сегодня прорыли «слух» на четыре сажени в глубину и на восемь сажен в длину – и опять все напрасно: ни звука не отдает немая, таящая беду земля… Все ладони истерли в кровь – и без толку. Угроза всеобщей смерти от взрыва и огня все еще висит над головами защитников… Выйди бы царевна-инока да начни проклинать народ, – выпали бы лопаты из рук измученных людей и страх схватил бы их за сердце злее ястреба!
– Спасибо тебе, Ольгунюшка… лишнюю беду от нас, заслонников, отвела! Да и сама-то ты тоже заслонница осадная!
Она гордо вспыхнула и только сейчас ясно поняла, какие думы роились в ней, когда она, томясь и робея, глядела на черный гнев и кипенье злосчастной Ксении Годуновой.
– Ой, Данилушко, до сей поры я греха страшилася, на чернецов да черниц глядючи… И на царевну-иноку також глядела, припадала перед нею, – ой, мол, блаженна ты, безгрешна… А она-то народ клянет, смерть страшную на всех нас накликает, и под схимой грех в ней кипит, как смола… А мы, черной народ, честну душу перед богом блюдем, греха боимся, себя не жалеем, себе муки творим, да и ближников наших, что сердцу милы, мучаем…
Ольга шептала все жарче, а сама, будто обоих мчали вихревые кони, крепче жалась к Даниле легким телом.
Ольге казалось, что воля, которой у нее в жизни никогда не было, принеслась к ней, нахлынула, как вешнее половодье. Она пила эту волю большими глотками, и горячее удушье сжимало грудь.
– Сердце горит, к милому рвется, а мы от милого око отвращаем…
– Да ты вся огнем пышешь, лапушка моя, свет мой… Айда-кось в тепло, ино не застудилась бы ты… – шептал Данило, вводя Ольгу в душный полумрак стрелецкой избы.
Троицкие стрельцы спали вповалку по лавкам и на полу, обнявшись с женами.
Перед божницей теплилась висячая лампада, огонек чадил и качался, готовый потухнуть от нестерпимой духоты.
Но ни Данила, ни Ольга ничего этого не заметили.
Ветер воли, казалось, все еще гулял вокруг Ольгиной головы, в ушах пел голос Данилы, а глаза, как солнцем, любовались его золотыми волосами.
Вдруг Ольга увидела, что его волосы засияли у ней на коленях, – и сладко ужаснулась этому.
– Ой, что ты, что ты, друже ты мой любый?! То мне должно тебе в ноженьки падать, ой, вставай, вставай, свет ты мой желанной…
Данила поднялся, и оба сжали друг друга в крепком радостном объятии.
За окном осадная ночь, сорок первая по счету, беспокойно стонала ветром и перекликами часовых…
…Как ни рано поднялась поутру Ольга, несколько стрелецких жен и подружек выследили ее и принялись стыдить:
– Ай, смехота! Ай, срамота!.. Добро бы девка была, а то при живом муже да к его же брату ушла. Где у тебя стыд-то, баба бессовестная?
Пока они галдели, Ольга собралась с духом. Лицо у ней еще пылало, и слезы обиды стояли в глазах, но вчерашние мысли, гневные и совестливые, опять вернулись к ней – и она заговорила все более крепнущим голосом:
– Сило́м меня замуж выдали, а я сама была без воли, без разума. Оська Селевин – насильник, а не муж мне!
– Да ведь не венчана ты с Данилкой-то, стыдоба твоей голове! А грех-то, грех-то!
– То не по воле нашей, а по горькой доле – аль не разумеете? А вы-то с мужиками все венчанные живете? Пошто же меня покорами измываете?.. А что до греха, так перед Данилой я пуще всех грешна – сколь дней я его горем-отравой поила? И неужто ноне отвергнусь от него, посмехов ваших испугаюся? Не будет того, хоть бы мне смертию грозили, слышьте вы? Мне без Данилы жить не можно!.. А перед богом-господом грех мой замолю, слезьми изольюся…
– Эко, осмелела! Гляди, смертью не хвались – в ад пойдешь, душа прелюбодейна, в ад, на муки вечные!
Ольга вздрогнула, ужас стиснул ей сердце.
– Господи-батюшко, приму и муки адовы, коли так!
И такое отчаяние сверкнуло в глазах Ольги, что обличительницы на время отступили от нее.
О том, как докучали ей злые женские языки, Ольга ни разу не обмолвилась Даниле. Нередко он находил ее в Успенском соборе. Она стояла на коленях, на ледяном каменном полу, и невидящими, полными слез глазами смотрела на черные пятна грозных святых ликов в позолоченных окладах.
Данила поднимал ее и уводил с собой.
– Ольгунюшка, свет мой, пошто так изводишься?
Она жалась к нему и шептала:
– О здравии твоем молилася, Данилушко.
– Да здоров я, голубушка, ей-ей, здоров, бог с тобой!
Случайно Данила услышал, как стрелецкие жены попрекали Ольгу, – и, вскипев, разогнал обличительниц, а потом рассказал их мужьям про «бабье злоречие». Стрельцы прикрикнули на жен и заказали им «рот затворить покрепче и на Данилову бабу не кидаться». Но женщины нет-нет да и задевали Ольгу. Были среди них особенно вздорные бабы, которые к тому же завидовали молодости Ольги, красоте ее похудевшего чернобрового лица. Завидовали и тому, что, не в пример их мужьям, Данила Ольгу пальцем не трогал и был с ней всегда ласков – «словно жених», язвили стрелецкие жены. Ольга молчала. Она уже смирилась перед тем, что «за грех» свой она должна терпеть все поношения и обиды.
– Пошто глазыньки прячешь, Ольгунюшка? Аль опять изобидел кто? – допытывался Данила. – Ну, погляди на меня, любушка. Ой, силом улыбаешься – знать, на душе сумно да тоскливо?
– Ты возле меня, так и тоски нету, – отвечала Ольга. – Не рада девица цветному платью – рада молодцу-соколу, вот и я також, мой свет!
– Ой, не обманешь меня, соколица! Вона, в очах-то по сию пору слезка кипит. Слышь, Ольгунюшка, я сам до всего дознаюся и, уж коли на то пошло, вот те крест, побеседую я с теми стрельцами, кои за своими женёшками худо доглядывают. А коли добром мужики меня не послушают, доведется грех на душу взять – бока им помять маленько, пусть помнят крепше.
Когда и с кем беседовал Данила, Ольга не видела, но стрелецкие жены заметно укротились, а вскоре и совсем перестали нападать на Ольгу. Да и не до этого уж было.
После того как первого ноября 1608 года поляки напали на монастырских водовозов, изрубили сто девяносто человек и взяли пленных, осажденные поняли, что к окрестным прудам дорогу теперь «засекли». Теперь не привезешь чистой, прозрачной водицы, которой пополняли питьевой запас.
Теперь приходилось довольствоваться только внутренним прудом, воды которого и в мирные дни еле хватало для монастырских нужд.
– Ноне водицу-то яко нищим грошик подают, – язвил Осип Селевин, принимая из рук троицкого кухаря кружку воды, которой должно было хватить на целые сутки.
– Эй, плесни-ко еще водицы, отче блаженной, – попробовал он улестить хмурого горбатого кухаря, но тот в ответ показал кулак.
– «Будьте вы все прокляты!» – злобно подумал Осип и нерасчетливо выпил разом полкружки – он совсем не собирался долго заживаться в этом опасном месте, которое не сегодня-завтра взорвут коварные враги. Каждый день Осип ожидал своего «исхода» вместе с паном Брушевским, с которым он уже успел снестись впереглядку.
Ротмистр показал Осипу перстень с индийским изумрудом и знаками дал понять, что не только это кольцо, но и все блага мира ожидают Осипа Селевина, если он выпустит его. Диомида-тюремщика оба решили убить. Пан-ротмистр очень живописно показывал, как это можно устроить. Осип подпоит грязного монаха, украдет от него ключ и выпустит пана Брушевского. Потом оба вместе оглушат Диомида, бросят в башню, а ключ за окно и – ищи ветра в поле.
Найти хотя бы один малый бочонок романеи для Диомида теперь, однако, оказалось таким трудным делом, что Осипу пришлось обратиться к всевластному Макарию.
– На питие не дам! – сразу отрезал Макарий. – И без того народишко вовсе непотребен стал…
– Пользы ради вящей стараюся, отче! Умыслил я хитрость в подмогу нам всем! – взмолился Осип и тут же придумал историю, которая Макарию ясно пришлась по нраву: будто-де пан Брушевский уже перестал запираться и готов все рассказать о подкопе, только просит поднести ему винца «храбрости ради».
Макарий повеселел и приказал принести бочонок романеи.
– Уж коли б миновала нас сия напасть… Ино уж потрудися, голубь, божьего дела ради… да, гляди, никому ни словечушка не выдавай!
– Могила, отче, могила!.. Ведает о том лишь рубаха моя да подоплёка! – уверил Осип, пряча бочонок под полу кафтана.
Седьмого ноября под вечер Осип, с заветным бочонком под полой, отправился в тюремную сторожевку к Диомиду.
День был унылый. С утра началась стрельба. Польская «трещера» без передышки била по утлой западной стороне. Не один десяток бойцов ранило осколками кирпичей от стены. Для заделки пробоин воеводы призвали на подмогу стариков и женщин. Древнего деда Филофея нарядили бирючом сзывать народ на стены: кого – пробоины заделывать, кого – горячую смолу лить на лестницы, по которым зеленой желтожупанной саранчой лезли враги.
Филофей ходил, не без лихости сдвинув на ухо черную баранью шапку с алым суконным верхом. Той же суковатой герлыгой [114]114
Герлыга – деревянная палка с крюком на конце.
[Закрыть], которой он отарил овец, дед постукивал теперь по стенам изб и келий, сзывая всех людей «мирских и обительских» помогать заслонникам. Увидев Осипа с бочонком под полой, дед Филофей поманил его пальцем:
– Ахти, батюшки мои, ноне день грозен, а ты, Оська, с бесовской усладой под кафтаном? Поди-тко на стены, ленивая орясина!..
– Пойду, дедунька, пойду! Ужо дай вино к архимандриту отнести… – прокричал Осип – и бочком, оберегая драгоценную романею, побежал к Каличьей башне.
Однако все вышло не так, как пророчила многолетняя Оськина удача. Черномазый Диомид оказался куда хитрее, чем думал о нем Осип. Страж Каличьей башни почуял что-то неладное и искусно притворился пьяным. Когда Осип, вытащив ключ из его вонючей рясы, хотел было оглушить Диомида, монах, как щуплого котенка, отбросил Осипа в угол. Оська вскочил, бросился было к двери, но долговязый Диомид повалил его на пол, подмял под себя и заорал: «Слово и дело!»
Данила Селевин в ту минуту был около Каличьей башни – вместе с другими силачами волок из кузницы подновленную пушечку под названием «лисичка».
Услышав вопли, Данила взбежал по лестнице и увидел Диомида, который сидел верхом на Осипе. При виде сотника Селевина Диомид встал и заплетающимся языком начал рассказывать, что Оська с умыслом принес вина, дабы выпустить ляха.
Оська, плюясь кровью (Диомид вышиб ему два зуба), решительно все отрицал: «по старой дружбе» он просто хотел угостить Диомида.
– А надобно было мне горе залить! – дерзко сказал он, обращаясь к Даниле, и, вдруг ухмыльнувшись своим кровоточащим ртом, добавил шепотом: – Ино мало тебе, сотник? С женой моей спишь и последнее винишко у меня отымаешь?
Кровь бросилась в лицо Даниле. Он крикнул Диомиду:
– А ты, страже, пошто угостками соблазняешься? Ужо вот я вас обоих!
Оська упал на колени и потянулся обнять Даниловы сапоги. Данила поднял его за шиворот.
– Изыди вон!.. Чтоб и духом твоим не пахло!
Оська тут же исчез, а Данила, выгнав и Диомида, поставил к дверям дюжего стрельца и поднялся опять на стены.
Оська побежал к Варваре.
Поп Тимофей укрывал Варвару – черничью женку в смежном с его келейкой малом пристрое для хранения «мягкой рухляди», свечных запасов и лампадного масла. В теплую горенку, где помещалась Варвара, вела потайная дверца, хитро сокрытая от любопытных глаз. Но Осипу Селевину этот ход был известен.
Сидя под большой лампадой, нарядная, сытая, Варвара вышивала бархатную камилавку для попа Тимофея. Увидев растерзанного Оську, она засуетилась, промыла каким-то настоем Оськины десны, перевязала руку, прокушенную острыми зубами Диомида, поднесла ягодного меда, а потом потребовала:
– Ну и уходи на том, сердешной! Поп Тимофей от Успенья возвернется да и прирежет тебя – ревновитой он, хуже сатаны!
– Так-то дружка предаешь? – начал было корить ее Оська. – Подлюга ты, черничья женка, продажница!
– Сам продажник! – отрезала Варвара. – Весь испродался, не сгодно с тобой дружить!
Оська выбежал от Варвары как угорелый.
Небо лопалось от перекрестной пальбы. Колокола у Троицы и Успенья надрывно ухали – повсюду шло великое нощное бдение, моленье о победе и об избавлении осажденных «от мора, глада и жажды». Сполошный колокол на Духовской церкви выл, неистовствуя и призывая всех на стены, в огонь и дым битвы.
Утро 8 ноября, Михайлов день, встало над головами защитников черной угрозой близкой смерти. Уже несколько дней ходили слухи, что враги именно в Михайлов день взорвут монастырь. Многие еще ночью исповедались и причастились, чтобы встретить смерть по всем правилам веры. Множество молодых и пожилых женщин пошло на стены. Ловкими руками женщины лили вниз по стенам горячую смолу, ошпаривали кипятком поляков и тушинцев.
Когда обнаружилось, что женщины работали быстрей, чем поспевала на огне смола, Ольга придумала: ведь можно выгребать золу! Она набрала два ведра буро-голубой золы, в которой глазасто горели вишневые огоньки мелких угольков.
Тяжелое ядро проклятой «трещеры» ударило в стену. Каменный дождь посыпался на головы защитников. Когда люди разлепили глаза, все увидели, как в пробоине показались рога польской осадной лестницы. Раздались торжествующие крики ляхов. «Виват, виват!»
Ольга, увидев над краем пробоины польскую конфедератку, зачерпнула полную горсть золы и бросила в чьи-то хищные глаза. Поляк взвизгнул, закрыл лицо руками, а Ольга, словно тушу, столкнула его вниз. Но чья-то новая голова, бритая, с казацкой чупрыной, выросла в пробоине.
Ольга схватила ведро и краем его изо всей силы ударила казака по переносице. Голова откачнулась и скрылась, а Ольга вытряхнула второе ведро с золой вниз прямехонько на лестницу, на десятки голов, лезущих вверх.
– Ладно, девка, помогнула! – зычно крикнул кто-то ей вслед, когда она, подхватив ведра, отправилась за смолой, которая уже вскипала на костре.
Спустившись во двор, Ольга вдруг почувствовала жгугую боль в ладонях – кожа на них, до самых кончиков пальцев, была обожжена и вздулась пузырями.
– Ахти! – сердито спохватилась Ольга. – Мне бы. дуре, ковшом надобно золу-то черпать!
Руки уже не могли служить ей, пришлось бежать к старцу-лекарю в больничную избу.
Пробегая мимо кельи царевны-иноки, Ольга увидела неподвижную фигуру Ксении Годуновой. Кутаясь в черную монашью шубу, царевна-инока стояла на пороге и насупленным взглядом озирала серый ноябрьский день, огонь и дым, кипенье народа на стенах и редкие белые пятна пороши, выпавшей за ночь.
– Ой, девка, не больно сладко довелось вам всем тамо? – крикнула Ксения сухим звенящим голосом.
– Выживем! – бросила Ольга и, дуя на ладони, побежала дальше.
В больничной избе Настасья Шилова непривычными пальцами перевязала Ольге обожженные ладони, а потом горько завздыхала:
– Уж и бабы ноне воюют, и до баб увечье доходит… Господи-спасе, долго ль еще мытариться-то будем?.. Жив ли Никон, старинушко мой? Жду – не дождуся, дойдет ли весточка от него – ан все нету!.. Господи-спасе, долго ль еще нам терпеть времечко лихое?
За стеной ухнуло ядро – и все, кто был на ногах, выбежали во двор.
Около Троицкого собора толпились и охали люди: польское ядро пробило окованные железом двери. Древние старухи плакали и причитали, глядя на такое поругание. Из собора вынесли старца Корнилия, которому влетевшим ядром оторвало ногу.
Ночью, когда стрельба утихла, Симон Азарьин записывал в своем летописном своде:
«Прежестокое время наше! Ноне паки многих славных лишилися…»
К скорбному списку убитых келарь прибавил новый ряд имен, потом сунул перо за ухо и со вздохом сказал:
– Ох, Авраамий, Авраамий! Что-то мешкотно идет подмога твоя многострадальному граду сему!.. Кабы ведать, что умышляет мудрая глава твоя, келарь, сиделец московской?
Кто-то зашел в сенцы и зашарил рукой, ища скобу.
Келарь открыл дверь и впустил в келью воеводу Григория Долгорукого.
– Здорово, отец келарь.
– Здрав будь, княже. Ходи в красный угол, садись, гостем будешь.
– Спасибо на добром слове, – вздохнул князь Григорий, встряхнув бобровой шапкой. – Вона и снежок опять полетел, зима на землю ложится, морозы грядут неминучие… Ишшо горше нам будет, отец келарь. Уж ноне служки, дабы могилу выкопать, рубль просют и боле, да еще отказывают: руки-де в кровь все изодрали…
Воевода помолчал, потом, опустив плечи и словно сразу обмякнув всем телом, продолжал:
– Слышь, отец келарь, я приказал всех убиенных в одну яму закапывать…
– Ох, не по чину то вышло, княже! Сего еще не бывало у нас в обители.
– Сам ведаю, отец келарь. Да ведь война все боле жесточает, а мы все запасы приели… Також и гробов не стало, и делать их некому, да и не из чего… Ох, отец келарь, иной час, каюся тебе, головушка моя кругом идет – обстала нас беда, и нету ей конца. А боле всего нам надобны люди да хлебушко… люди, подмога… где ж они? Послали мы наших мужиков в Москву – Шилова да Слоту… Наказано было им твердо: быть на Троицком подворье у келаря Авраамия. А что они там добыли, те Никон да Слота? А сам келарь Авраамий Палицын о подмоге нам, горьким, перед царем старается ли? Вызволяет ли нашу докуку? Ништо не ведаем…
Воевода подавленно замолчал. Симон Азарьин только сейчас заметил, как сильно сдал дородный боярин: аксамитовый [115]115
Бархатный.
[Закрыть]зеленый кафтан вялыми складками лежал на плечах и груди.
– Спосылать бы еще кого… – растерянно соображал вслух воевода, – да ведь некого – всякий человек в счет идет… Ох, отче, скажи ты правду: може, что худое отписал тебе Авраамий, а ты в тайне держишь?
– Ни единой весточки нету у меня от Авраамия.
– А все ж скажи, богом прошу!
– Богом тебе клянуся, княже, ничего не спосылал мне Авраамий, ни единой весточки.
Серые глаза келаря Симона Азарьина смотрели прямо и строго. Воевода безнадежно вздохнул, взял шапку и пошел к дверям.
Над крепостью уже крутила ноябрьская метель, суля еще новые неисчислимые беды.
«Тогда бо ми не бывшу во обители чудотворца, во осаде бывшей от польских и литовских людей и русских изменников, но в царствующем граде Москве, по повелению самого державного. И пребывающу ми в дому чудотворца на Троецком подворий».
Авраамий Палицын. «Сказание об осаде», изд. 1822 г.
Прискакав в Москву, Никон Шилов и Петр Слота сразу направились на Троицкое подворье.
В просторном церковном дворе с высокими, как терема, сараями, конюшнями, хлевами сладко и сыто пахло свежими калачами и каким-то добротным варевом. Никон и Петр переглянулись голодными глазами: крепко и вольготно живут в Москве на Троицком подворье!
Гонцов «осажденного града» провели в баню. Вдосталь попарившись, Никон и Петр пошли в трапезную. Казалось, еще никогда не едали они так вкусно и сытно. А вместе с сытостью все ярче расцветала в них надежда, что помощь, за которой они пришли в Москву, будет оказана самая скорая и самая щедрая. Они уже представляли себе, как двинутся из Москвы конные и пешие полки, как нагрянут они на проклятое «воровское войско» и размечут его так, что от него и праха не останется.
Полные надежды, Никон Шилов и Петр Слота ждали келаря Авраамия Палицына, который с минуты на минуту должен был вернуться из Кремля, куда уехал по царскому зову. И это обрадовало посланцев: с помощью Авраамия легче будет передать царю челобитную грамоту осажденной крепости.
Наконец, Авраамий прибыл. Мордастый, румяный служка провел гонцов в покои келаря.
– Экая лепота да богачество, светы мои! – прошептал Слота, изумленно тыча локтем Никона.
Сводчатые потолки и стены были расписаны неведомыми цветами и зверями. Десятки подвесных лампад нарядно и весело горели перед богатыми иконами в золотых и серебряных окладах.
В покое приятно пахло кипарисом, ладаном, елеем и сухой сладостью трав. От широкой изразцовой печи шло приятное тепло. Никон Шилов шепотком напомнил Слоте, что у них в Троицкой крепости уже начали жечь клети и сараи. Оба покачали головами – и увидели Авраамия Палицына.
С его смугловатого лица еще не сошел румянец первого морозца. Он быстро оглядел посланцев небольшими пронзительными глазками и опустился в глубокое кресло.
– С чем пожаловали, братие? – спросил он, оправляя золотой нагрудный крест.
Никон и Слота передали грамотку и рассказали о цели своей поездки в Москву.
– Зарез приходит, отче Авраамие! – закончил рассказ Никон Шилов. – Без подмоги людьми да хлебом нету сил крепость держать… За войском, за стрельцами прискакали мы в Москву!
– За войском… гм… – повторил Авраамий, и глаза его вдруг скрылись под нависшими темно-желтыми, как гречишный мед, веками.
– Трудно сие… – вздохнул он. – Зело трудно, братие.
Никон Шилов и Петр Слота переглянулись и побледнели. Авраамий молчал, разглаживая черную, посеребренную сединой бороду.
У Никона вдруг больно зазвенело в ушах, будто издалека донесся к нему зык сполошного колокола в Троицкой крепости. Не в силах больше терпеть это молчание, он толкнул локтем Слоту и, шумно увлекая его за собой, повалился в ноги Авраамию. Оба умоляли вперебой:
– Не губи нас, горемычных, отче Авраамие! Страждет русской народ в прежестоких битвах… малолюдье нас терзает, бесхлебье тож… воины наши уж чуть держатся, страшный глад и мор нас ожидают… Яви божецкую милость, выпроси у царя подмоги войском… отче Авраамие, келарь преславной, вечно за тебя будем бога молити!
– Ну, ладно, братие, – сказал наконец Авраамий, опять опуская темно-желтые веки. – Я челобитчик за вас перед царем буду. Подите пока, ждите до времени, позову вас.
Прошло два дня, а келарь еще не звал гонцов в свои покои.
Никон и Слота языки себе обчесали, спрашивая всех на подворье, что делает Авраамий, ездил ли он в Кремль к царю и когда собирается поехать.
Румяный служка отвечал неохотно, зато часто предлагал им «поснедать что бог послал». Но и обильная еда на подворье не могла утишить тревоги посланцев: им никак невозможно ждать, а келарь тянет и тянет.
Наконец, на третий день вечером келарь вызвал гонцов к себе и сказал, что говорил с царем об их деле.
– Но… темен лицом государь наш… не внял он моленьям моим, братие…
– Станем сами его просить! – страстно крикнул Слота и, забыв, что он в келарских покоях, тряхнул Никона за плечи, как, бывало, в Клементьеве, когда вместе выходили засевать свои суглинки. – Эй, Никонушко, айда в одночасье царя Василья о подмоге молить!
– Вымолим! – вспыхнул Никон и заговорил о том, как они со Слотой расскажут царю обо всем, что видели собственными глазами. Царь ужаснется, пожалеет народ – и повелит выслать отборное войско, одного вида которого враги испугаются и побегут, как зайцы от половодья.
Передохнув, Никон низко поклонился Авраамию.
– Просьма-прошу, отче Авраамие, подсоби нам к царю пройти… а?
Но Авраамий молчал. Его белая волосатая рука неторопливо играла нагрудным крестом. Нависшие веки скрывали его взгляд. Казалось, он что-то обдумывал, взвешивал, выбирал.
Гонцы ничего не могли понять и беспокойно переглядывались.
– Отче Авраамие, свет-надежа наша! – уже с мольбой обратился к келарю Никон. – Мешкать нам никак не можно – народ-ат страждает, отче! Не мешкай, отче, богом тебя молим!
– Ступайте, братие! – наконец, вымолвил Авраамий и поднялся с кресла, высокий и статный, с длинной седеющей бородой и строгим, важным лицом – такому бы только архимандритом быть и служить в Успенском соборе обедни в особо торжественные дни.
Так думал Никон, и надежда вдруг снова проснулась в его измученном ожиданием сердце.
Но келарь сказал, как и в прошлый раз:
– Идите с миром, позову вас.
Румяный служка опять настойчиво приглашал гонцов в трапезную.
– Дела-то не видно, зато нас будто гусей на закланье хотят закормить! – сердито проворчал Слота, садясь за длинный стол, который со всем своим обилием уже опостылел обоим гонцам: не стол, а ловушка!
Напротив гонцов за столом оказался пожилой поп в щегольской шелковой рясе, остроносый, с веселой кустистой бороденкой, с бойкими глазами, голосистый и разбитной, словно пирожник с Красной площади. Он назвался Иваном Зубовым, «пастырем из-под Москвы», который прибыл в столицу по своему делу.
То подшучивая, то соболезнуя, он выведал все у троицких гонцов, а потом начал уверять их, что в Москву они заявились совсем зря, что ничего у них не выйдет. Пусть лучше гонцы едут скорей обратно в свою осажденную крепость и пусть передадут воеводам и всем защитникам, что «преужасное кроволитье» можно прекратить в любой день. Ивану Зубову доподлинно известно, что «знаменитые паны» Лисовский и Сапега уже хотят мира и заключат его тотчас же, как только военные и церковные власти «святого Троицына града» протянут им руку примирения.
Шилов и Слота ошалело смотрели на бойкого попа: ни о чем подобном и речи не было, когда их посылали в Москву.
Ивана Зубова вдруг позвали к келарю, чему гонцы чрезвычайно изумились, а вскоре и забеспокоились: Ивана Зубова келарь не заставляет ждать, а им, облеченным доверием сотен людей, приходится все вымаливать у келаря – почему же это? Что же это такое?
Никон погрузился в безрадостные размышления, а вспыльчивый Слота встрял в беседу нескольких пожилых монахов и попросил разъяснить ему, что за путаницу несет бойкий поп Иван Зубов… Может быть, здесь, в Москве, известны такие дела, о которых гонцы еще не знают?
Монахи ответили, что они «люди божьи» и мирскими делами не занимаются. Только один маленький монашек с болезненным лицом сказал, что Иван Зубов уже не впервые здесь на подворье. Слышно, он много якшался с поляками, а теперь, как он сам однажды спьяну сболтнул, послан ходоком от Сапеги в Москву. Тогда же, спьяну, поп Иван Зубов хвастался, что ляхи «пожаловали» его в архиереи, что живет он в стане Сапеги «в почете и легкости» и даже имеет пригожую домовницу, которая заботится об его столе и добром здравии. Зачем Иван Зубов нынче приехал к келарю в Москву – про то монашку ничего не было известно.
Слота еле устоял на ногах – вот так открытие, вот так судьба! Посланцы осажденного града, оказалось, сидели за одним столом с ходоком Сапеги, которого здесь тоже принимали!
– Мыслимо ли такое дело? – и Никон в ужасе взмахнул короткими руками, а сердце его тоскливо застучало.
– Слышь, Петра, – взволнованно зашептал он, вспомнив величавую повадку келаря Палицына, – да, може, келарю и невдомек, что попишко сей подлый злыдень, сапегин прельститель? А, Петра?
Слота решительно тряхнул сивой головой.
– А коли так, надобно о том келаря упредить!
– Без зову к нему придем! – оживился Никон при мысли, что представится возможность опять поговорить с келарем об их кровном деле.
Но румяный келейник и близко не подпустил гонцов к покоям – келарь занят важными делами.
Авраамий Палицын сидел за своим дубовым стольцем и неторопливо писал ответ на послание польского гетмана Сапеги, переданное Иваном Зубовым.
Нынешнее послание Сапеги было особенно многозначительным и многообещающим.
Сапега просил Авраамия «царским словом» приехать в стан под Троицким монастырем, «чтобы землю умирити и кровь боле не лити». Приезд Авраамия Палицына сразу положил бы конец страшным битвам и всем происходящим от них несчастьям. Все польские полководцы бесконечно ценят «пресветлый ум и письменность» Авраамия Палицына и готовы отблагодарить его как и чем он только пожелает. Польским полководцам известно, что Авраамия Палицына на Москве не ценят. Он келарь, а ему давно пора бы стать архимандритом того же прославленного Троице-Сергиева монастыря. Польское панство на золотом блюде преподнесло бы ему звание архимандрита, и все преклонились бы перед ним. Далее в послании своем гетман Сапега уже везде называл Авраамия архимандритом, «князем русской церкви», «дивным светоносцем» и тому подобное.
Авраамий Палицын откинулся на спинку кресла и задумался.
Он и сам давно знает, что мог бы стать архимандритом Троице-Сергиева монастыря или даже еще выше. Царь Иван Васильевич, – не будь он к ночи помянут, – наслал на Аверкия Ивановича Палицына многие кары. Для сохранения жизни пришлось постричься в монахи – Аверкий Иванович, дворянский сын, стал Авраамием. Не помешай ему царь Иван Грозный, далеко бы пошел Аверкий Иванович, возвысился бы до ближнего боярина при дворце, владел бы огромными угодьями и животами и был бы одним из тех, на ком стоит государство русское. Впрочем, и в монашестве он мог бы возвыситься, если бы царь Василий Шуйский был подогадливее, вернее, – если бы не боялся царь возвышения людей, которые превосходят его умом и знаниями. Оттого и оставил он архимандритом Иоасафа, который в сравнении с Авраамием просто беспомощный скудоумец!.. Ох, царь Василий, лукавый царь Василий! Сколько обещаний он надавал в своей «крестоцеловальной записи», вступая на престол, – и ничего не выполнил. Положение его непрочно, его поддерживают только родственники да «нецыи бояре», которые вместе с купчишками, сапожниками и пирожниками «выкликнули» его царем на Красной площади. Царь любит прихвастнуть, что его-де застаивают «величайшие» бояре: князья Воротынские, Трубецкие, Голицыны.
Народ его боится. Казни, свершенные по его приказу над болотниковцами, наполнили ужасом Москву, Новгород и другие крупные города.
А сам он, царь Василий, сидит, как сыч, в своем дворце, всех боится, на всех злоумышляет, никому не доверяет. Уж на что храбр и умен молодой полководец Михайло Скопин-Шуйский – так и на этого человека царь стал коситься и завидовать ему. Скопин-Шуйский, храбрый воин, очень был бы нужен в Москве, а царь услал его в Новгород – с унизительным поручением: просить помощи у шведского короля, кстати сказать, не так давно отвергнутой тем же царем Василием Шуйским… Ох, лукавый, злоехидный царь, слабый правитель, который не щадит даже самую крепкую ветвь своего рода… Не усидеть долго такому царю на престоле, не усидеть!
Авраамий взял перо и опять склонился над письмом.
В доверительном тоне он писал Сапеге, что в Москве «всем щадно, всяким людям!», что «седенья на Москве будет немного», то есть царю Василию считанные дни осталось сидеть на престоле. И хотя на все «божья воля» и «соизволение господне», – все же он, Авраамий, «нищий царской богомолец» и смиренный монах, «преподобного отца нашего Сергия постриженник», полагает, что с поездкой в стан Сапеги лучше обождать и посмотреть, как развернутся события дальше… А что будет дальше? Увы, никто не знает. Лихолетье взбаламутило всю землю русскую. Все поднялись, от мала до велика. Смута в делах, смута в душах человеческих, все смешалось и перепуталось, все бурлит, несется куда-то, как раздурившаяся полая вода. Кто выплывет, кто победит? Конечно, победят богатые и сильные, но чья сторона возьмет, опять же никто не знает. Как келарю Палицыну уберечься от безвременной гибели среди этого грома и крови битв, разрушительного движения и ломки жизни? Надо самому двигаться осторожно, рассчитывая каждый шаг. Надо держаться сильных, но прилепляться только к тому, у кого явный перевес над другими; определенно никому ничего не обещать, но и не отказываться наотрез, как это он, Авраамий Палицын, сделал сейчас в ответном письме Сапеге, – никто не знает, сколько времени еще будут рыскать поляки по русской земле.








