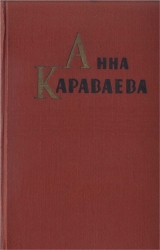
Текст книги "Собрание сочинений. Том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице"
Автор книги: Анна Караваева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц)
– Ништо-о!.. – теплым шепотом ответил Марей… – Видно, судьба наша за народушко живот положить… Видно, сгодились!..
Снаружи загремел замок. В низкую узкую дверь ринулось на миг солнце, осветило, как пожаром, высокую прямую фигуру Качки и сутулые плечи коменданта Фирлятевского.
Качка, в прусском мундире летнего образца, поправляя серебряную малую звезду на груди, сразу сорвал голос на торжествующем вскрике:
– Что, разбойник?.. Что, бунтовщик? Попался? Теперь не убежишь!.. А это кто? Фу, мерзость! Ну, образина! Подлинно у подлых господь даже лик человеческий отымет. Сквозь строй пройдете… Прошибет вас насквозь. Праха вашего не останется…
Гаврила Семеныч вдруг поперхнулся, обожженный молчанием. Оно обступило его, раскаленное, плотное, как стена.
Оттягивая на жилистой шее воротник, Гаврила Семеныч сказал скучающим голосом:
– Комендант Фирлятевский, допросите их – где остальная шайка скрывается… Их надобно всех искоренить, яко чуму… яко чуму.
Он мельком взглянул на распластанное на соломе тело Акима.
– Перед средствами не стойте, даже для сего… дохлого… Они проводниками должны быть при поимке всего преступного сброду.
– Врешь! – сухо треснул вслед Качке голос Степана.
Едва хлопнула за Качкой дверь, стал неузнаваем пришибленный сутулый комендант Фирлятевский. Он выпрямил грудь, на его жидких щеках выступил гордый румянец. Капитан с размаху ударил кулаком в широкую грудь связанного Степана.
– Попался, подлец?.. A-а!.. Ведаете ли вы все, что вы в моей власти? Ведаете? А? Зачем пожаловали? Опять за конями да за железом?.. Мало я за вас страху принял… у-у…
– Нече пинаться-то! – почти равнодушно сказал Марей, подбираясь подальше к стене.
– Ну!.. Еще что?.. 3-запорю!
Русый связанный молодец жарко сверкнул глазами:
– Запороть-то, вашбродь, недолго, зато тогда не узнаешь ничего.
Фирлятевский сразу осекся.
– Сказывайте, зачем были? Ну! Ж-жива!
Марей покачал головой:
– Так разве ты поверишь? Глупство человеческое довело, больно много веры в сердце ношено.
– Ты… не очень тыкайся, башка корявая. Толком говорите. Вы в моей власти, разумейте!.. Ты, гайдук беглой, Степка Шурьгин! Все сказывай, все!..
Степан поднял голову и глянул на оконце потухшими глазами.
– Сказывать недолго. Была едина на свете родна душа, девушка жалостлива, да и ту отняли, испоганили. Она ж меня и товарищев в руки вам предала.
– Холуй несчастной! Смеет о молодой даме, супруге служащего главной конторы…
– Хо!.. Вона как! Ва-ажно!..
Уже который раз спрашивал Фирлятевский, все более свирепея:
– Где всей шайки вашей житье? Где?
И ответ звучал все тот же:
– Не ведаем.
– Ну, как, сударь мой? Узнали?
– Никак нет-с, ваш… пр…схо…дит…ство. Весьма упрямой и закоренелой народ.
– Плохо сие. А я целью себе поставил отыскать сие гнездо ложных поселян, дабы молва прошла о сем великая, и все бы недовольные начальством помнили: от глаза главной конторы никуда не уйти! Ах, плохо вы помогаете мне, сударь мой.
– Ваш… пр… сход… ство… Клянусь. Я… я… добьюсь своего, добьюсь! Верьте слову!
Комендант Фирлятевский почти не спал ночью. Наутро надумал. Узкий лоб его светился от обильного пота и дрожал возбужденно голос, когда комендант догнал Качку на прогулке в лесу.
– Честь имею доложить-с о моих планах-с.
Качка спросил в нос:
– Ну-с?
– Ваш… пр… сход… ство, я сих двух остолоп… тьфу-с… сих двух беглых-с… не буду-с пока… а вот над третьим, что полудохлой-с, ваш… пр… сход… ство, думаю некой опыт сделать… Прошу… Лекарю ва-шему-с полечить-с третьего… Телом он весьма некрепок, и даже самой малой боли не перенесет-с…
Качка спросил сухо:
– Не понимаю, сударь мой, то лекаря надо, то боли не перенесет.
– Так-с мыслю: мы его подлечим-с, а потом допрос учиним, пока рана еще не зажила… А ежели сольцы на нее бросить, то…
Лицо Качки передернулось гадливой гримасой:
– Фу, мерзость! Знать об этом не хочу, как и что вы по сему делу предпримете… Жалко, изволили мне прогулку испортить, сударь.
Но, боясь, как бы Фирлятевский не остыл в своем рвении, Качка добавил другим тоном:
– Знайте одно, сударь, что престол российской верных своих слуг помнит.
Аким Серяков очнулся ранним утром и чуть не вскрикнул от радости – тело умиротворенно протянулось на чистой холстине. Аким видел в окно солнце, сосны, слышал, как поет труба на крепостном валу, – жизнь возвращалась.
Открылась дверь. Вошел Фирлятевский и маленький сухопарый человек в седых букольках. Аким вздрогнул, вспомнив, как длинноногий этот офицер целился в него, как его пуля ранила Акима в ногу. Сухопарого в букольках Аким не знал. Фирлятевский похлопал Акима по плечу и склонил над раненым худое лицо, с нечесаными серыми бачками.
– Я – комендант форпоста «Златоносная речка». Вот пожалели тебя… и… лечим…
Обратясь к сухопарому старичку, комендант спросил:
– А ну-ка, господин Пикардо, какое ваше мнение ныне?
M-r Picardot осмотрел, пощупал ногу Акима и вскинул на переносье лорнет:
– Лючче… Лючче…
Фирлятевский допытывался:
– Совсем скоро заживет? Аль долго еще?
Но француз забормотал что-то по латыни.
Лекарь вообще чувствовал себя обиженным: во-первых, по совершенно непонятной причине ему было приказано лечить «разбойника», во-вторых, приходилось иметь дело с Фирлятевским – человеком, который не умел даже произнести правильно его фамилии. Дворянина же, не умеющего изъясняться на прекраснейшем в мире языке, лекарь и за дворянина не считал, и к коменданту исполнился презрения.
Фирлятевский же возненавидел лекаря за его надменную сухость, молчаливость, за франтоватый фра-чок, за букольки и лорнетку.
«Экая обезьяна заморская!» – думал он про лекаря.
Но француз был по-своему «лицо» – и комендант растянул худосочный рот в любезную улыбку и добился-таки от француза заключения: рана скоро заживет, но кожица на ней еще долго будет очень тонка, и надо соблюдать осторожность.
После обеда, жирного и сытного, над изголовьем Акима склонилось длинное лысолобое лицо коменданта и свистящий шепот обжег ухо:
– Говори, где жилье? По какой дороге? Много ль вас там? По какой речке проходить?
– Ваше благородие… Ниче я не ведаю… Верьте богу… не ведаю.
Над ухом шипело:
– Значит, бунтовщикам потатчик? В начальстве ты жалость возбудил хворостью своей. Лечат тебя, аспида, кормят. Но ты сие заслужить должен. Проводи отряд до беглого жилья, токмо тропку последнюю покажи и награжден будешь до конца дней. Токмо до последней тропки доведи.
– Господи, батюшко-о!.. – простонал Аким. – Пошто больного человека морочить?
Акима прошиб холодный пот, когда на вопрос свой о товарищах он получил короткий ответ с тихим смешком:
– Они свое получат, а ты не будь дурак.
И Аким понял, для чего его лечат. Зеленая алтайская ночь за окном надвинулась чугунной тьмой и страшно легла Акиму на грудь.
Фирлятевский уже устал. Потный и злой, в последний раз склонился к сухонькому лицу Акима:
– Ну-ну!.. дьявол бергалий, покажешь, где жилье?
Аким не ответил.
Фирлятевский протяжно свистнул и перекрестился на черную деревяшку иконы.
– Прости мя грешного, угодниче Христов… Не хочешь, милый, не надо. Придется тебя поморить, придется. Ох-хо-хо-о!..
Уснул Аким крепко, а проснулся от рвущей тело боли во всех суставах. Попробовал встать – привязан. А рана горела так, будто кто прожигал ее насквозь. Кругом было темно, откуда-то дуло, в углу пищали мыши. Во рту все горело от жажды.
Аким застонал.
Заскрипела дверь. Глаза Акима резнуло мгновенной, узкой, как сабля, полосой света – с поднятым в руке фонарем подошел к нему длинноголовый человек с лысеющим, противно светящимся лбом.
Фирлятевский поставил фонарь и скучливо сощурился на Акима.
– Лежишь?
Аким почти не услыхал своего голоса.
– Пи-ить!..
– Пить? Не-ет!.. Сие дело нетрудное, но с упрямыми и я упрям… Слышь, бергал?
– Бо-ольно-о!..
Фирлятевский сказал, тихонько посапывая:
– Больно оттого, что сольцы тебе на рану насыпана малая толика… А перенесли тебя в погребок. Холодненько?.. И-и!.. Что делать, беглая душа! С меня служба требует, а я с тебя… Только скажи…
– Пи-ить!.. Пить!..
Акима прошибла каленая слеза. Он затрясся в расслабляющем плаче. Тело вдруг потеряло вес и поплыло куда-то в туман и тьму!
И как с другого берега донесся спокойный голос:
– Сейчас пить принесу… Хочешь пить?
Аким, остатком разума постигнув – будет, будет вода! – жадно открыл пересохший рот.
Голос спросил еще раз:
– На Бухтарму, что ль, ушли?
– Н-на… Бухтарму, – торопливо почти прокричал Аким, почуяв приближающийся к губам холодный край ковша с чистой родниковой водой.
Вечером Качка бегло спросил:
– Ну, как дела, сударь мой?
Фирлятевский поклонился.
– Чаю скоро благое окончание видеть. Хлипок весьма сей бергал.
Качка поморщился и чихнул преувеличенно громко, будто боясь, что комендант скажет что-нибудь лишнее.
Аким потерял счет времени.
Иногда рану обмывали, смазывали, давали пить, и Аким бездумно и блаженно погружался в крепкий сон. Но просыпался опять в веревках, наполненный болью непереносной и огненной жаждой.
Молил:
– Бросьте мне камень в башку!
Комендант качал головой:
– Упрямы же вы все, беглые! Умереть охота? Жи-ирно очень захотел.
И выдал Аким драгоценную тайну горного села, но коменданту еще было мало.
– С отрядом пойдешь до последней тропки, как уговорено было. А ежели наврал, то… – И комендант с силой покрутил в воздухе кулаком.
Комендант чувствовал себя обновленно. Худым пальцем с обкусанным ногтем водил по карте и, кажется, первый раз в жизни так свободно с главным начальством разговаривал. Становье беглых оказывалось по карте верстах в пятидесяти с небольшим.
Качка благосклонно похлопал коменданта по плечу.
– Хвалю, хвалю! Коли все удастся, сего не забуду.
– Господи! Я человек малый, ваш… пр… сходство… В надежде сей и стараюсь…
– Знаю, знаю!.. Токмо старайся, голубчик, чтоб сей бергал показал горную дорогу к жильям тех наглых ложных поселян, нарушителей порядка и преуспеяния государственного. Карты наши совершенствами большими те обладают, особливо в южной стороне; так должны вы, государь мой, Петр Иванович, дело с бергалами до конца довести.
– Ваш… пр… сход… ство! Не извольте сомневаться!
Качка решил отправить жену в город.
Стареющая прелестница ударилась в капризы, узнав, что горный ревизор останется вместе с Качкой. Марья Николаевна боялась, чтобы свежие щеки и темные глаза комендантши не занесли огня в ветреное сердце любовника. Разными уловками пробовала супруга уговорить мужа, но Качка стоял на своем.
– Поезжай, драгоценность моя! Слово мое неизменно. В военный поход направимся, так слабому полу тут не место. Уедешь послезавтра с камерфрау своей. А завтра арестантов двоих в город отправим.
Владимир Никитич, ревизор прекрасный, сегодня чаще обычного крутил золотистые свои усики и досадовал: как быть со свиданьями? Перезрелая страсть супруги начальника требовала накануне отъезда нежных уверений, вздохов, объятий, томных взглядов. В мыслях же горного ревизора как в лазурном облачке плавало тонкое синеглазое личико канцеляристовой жены. Та не просила о рандеву, а быть с ней хотелось. Но ссориться с женой Качки не входило в расчеты Владимира Никитича – ведь и в алтайской глуши молодому небогатому дворянину карьера обеспечена. Поразмыслив, решил сначала условиться о времени с женой начальника, а потом уже повидаться с Веринькой, любезной без прикрас. Так и сделал.
А Вера Андреевна мучилась бессонницей, поздними сожалениями, отвращением к собственной слабости, презирала свое трусливое жалкое сердце – и плакала в душистый платочек.
«Горькая, горькая моя судьба… Надо бы мне повиниться ему: я – мужняя жена, уходи, спасайся. Ах, зачем я так не сделала!»
Мученьям не предвиделось конца, и Вера Андреевна с ужасом думала: «Как я теперь жить буду?»
Но однажды утром, хихикая, рассказал ей капитан Фирлятевский, как выразился о ней беглый гайдук: ее «испоганили», она «предала». Вера Андреевна побелела, пошатнулась от стыда и страха, – что с ней будет, если Фирлятевский расскажет всем, что ее, Веру Андреевну, выбранили чуть ли не последними словами!
– Ах… злоба какая!.. – вскрикнула Вера Андреевна с непритворными слезами. – Ни минуты единой не думала я, чтобы ему зло сделать… Вот награда мне за былую мою доброту!
Вот и было куда сбросить тяготу с нежных плеч, к которым вовсе не приставал загар.
Мало ли что в девичестве случается! Если этот человек любил, зачем же он ушел, оставил ее без защиты? А ей было трудно, она же девушка одинокая, бедная, без роду, без племени. Перед сильными людьми с родом, с чинами, с деньгами девушка безродная просто букашка. А теперь свой дом есть – Качки и приданое дали. Муж жалованье получает неплохое. Если она, Веринька, ему помощница, то он и в чинах будет возвышаться. Ежели кавалер блестящий, столичный оказывает внимание – лестно, а для мужа полезно. От многих городских модниц она, Веринька, отличается и платьем, и прической, и обхождением. Так что, когда муж до большего чина дойдет, то стыда за нее терпеть не будет.
Так прошлое барской барышни с ее девичьей любовью к гайдуку все глубже и крепче уходило в землю. Следы же его затаптывались каблучками сафьяновых туфелек, последнего подарка мужа. Вера Андреевна поплакала напоследок уже от обиды и успокоилась на том, что она не из тех, кто спорит с жизнью.
Идя на рандеву, Веринька нарядилась особенно изящно, но строго, чуть шейку обнажив. И рандеву осталась довольна: к месту сумела намекнуть на тонкий свой вкус и на «несоответственное к сему довольствие мужа». Горный ревизор, разнеженный новой, юной свежестью, соединенной со скромным достоинством, обещал «принять меры» и перевести канцеляриста Залихваева в помощники столоначальника.
Вера Андреевна шла со свиданья и улыбалась, отгоняя веером мух. А чтобы не возбуждать подозрений у стареющей ревнивицы, направилась по тропке, что вьется по невысокому взгорью над крепостным двором.
Только хотела поправить кружево на плече… и замерла рука в воздухе.
Внизу, перед входом в подвал, стояла длинная, как гроб, телега с высокими боками. Ржали сытые лошади. Солдаты стучали прикладами и торопливо втягивали носами по хорошей понюшке.
На телеге стояли двое: темнолицый старик и Степан, к кому бегала когда-то по черной лесенке в каморушку. Молодая дама застыла на месте, и некуда было спрятаться, некуда бежать.
Степан вдруг выпрямился, глянул вверх, увидел. Загремела цепь на его скованных руках. Он дрогнул большим телом, как дерево перед последним ударом топора, тряхнул головой, подняв вверх белое, как известь, лицо.
– Здравия желаю, барыня молодая, Вера Андреевна. Хорошо ль гостится на вольном воздухе? Спокойна ль душенька?..
Усатый казак пихнул его коленом:
– Садись, анафема!
Он сел в середину, рядом со стариком. Кругом расселись солдаты и казаки.
Ветер вскручивал мягкие густые Степановы волосы, заносил через плечо длинную бороду старого Марея.
– Верховые! Н-на места!
На крыльцо гауптвахты вышел комендант Фирлятевский и махнул платком.
Из-за конюшен вынеслись и загарцевали конные казаки и четыре офицера. Обступили кругом телегу, закрыли ее живой островерхой стеной своих хвостатых пик.
Комендант опять крикнул пронзительно:
– Приказ помните?
Гаркнуло:
– Так точно!
Фирлятевский опять махнул платком:
– Ну, с богом!
А на горке молодая женщина в сиреневом платье завязывала дрожащими руками зеленые ленты шляпы. Глаза щурились на высокий столб пыли за воротами форпоста. Сердце уже переходило от дроби к мерным, тихим толчкам. К губам вновь притекла их алая кровь, которая не терпит помады. Еще срывался шепот:
– Господи! Какая ж я несчастная, что перенесть пришлось!
Но вечером Вера Андреевна, тихонько смаргивая слезу, уже деловито суетилась, укладывая корзины и баулы, – ее превосходительство собиралась домой.
Отправив жену в город, Качка приказал готовиться к походу.
Ложные поселянеКырту не однажды забегала в русскую сторону поселка. Все тревожилась о Степане.
– Нету, нету ишо дружка твово ледяною, – хмуро встречал ее взгляд Сеньча.
– Нету?..
И пропадала ожидающая улыбка смуглого лица.
Айка жалела Кырту.
– Проклятущи вы, быват, мужики. Извелась девка вовсе, с лица спала… А Степан вот привезет сюды женку свою городску, гляди тогда Кырту да слезы утирай.
– Поедет этакая, пяль рот шире, – фыркнул Сеньча. – На городском набалована шибко, вертнет хвостом – и припрется Степка, как черт, в купель маканой… Льзя ли барской девке верить?
Шли дни. В горы никто не вернулся. В поселке начали готовиться к косьбе.
– Плохо дело, робя, – сказал беспокойно Василий, – видно, пропали где товарищи наши…
Сеньча отозвался почти озлобленно:
– Коли сам медведь на облаву идет, ужли ему шкура дорога?
– Их ведь убить могли… Солдатье-то всюду рыщет… А жалко дюже Степку… Парень доброй, для себя не жадной, о людях болящой…
Вечером опять прибежала Кырту.
Черные глаза ее потускнели от слез.
– Степан?
Рудничные ребята уплетали баранью лапшу.
– Кого выглядываешь, девонька баска?
– Поди-тко, присядь сюда…
– Дался те Степка!
– Садись, девка, с нами!
Алтайка глянула было удивленно, вслушавшись в слова. Как услыхала про Степана, вспыхнула и злобно взглянула на хохочущих мужиков:
– Тьфу!.. тьфу!.. Дурак!.. Дурак!..
Один, другой повернулись к сердитой девке. К женскому гневу и непокорству на рудниках не привыкли.
– Ах ты, проклятуща!..
– Погоди, язык-от те пообрежем!..
– Вот брякнем ей сейчас про дружка…
Алтайка сорвала сердце и уже повернулась уходить.
– Стой, девка!
– Ну?
– Знаешь, где Степан-от? За бабой в город поехал, за женой… А ты ему хоть помри… Бабу вот себе привезет…
И рудничные показывали ужимками, как ладно будет Степану с привезенной из города женой.
Алтайка будто вросла в землю, руками сдавила грудь. Потом, не мигая, отвернула от уха звенящую подвеску из медных шариков и ярких бус и подошла ближе. Будто мучимая жаждой, она тихонько облизывала запекшиеся от волнения губы и, пугливо кося глазами, слушала злые, как полынь, вести.
– Ну, что стала? Поди, поди!.. – крикнул кто-то из рудничных.
Алтайка, как безумная, бросилась вверх по тропинке, царапая себе лицо и оглашая горы протяжными стонами.
Подошел Василий и упрекнул озорников:
– Зря вы хорошую девку обидели. Зла от нее никто не видал. Бессовестные вы люди!
Вскоре на рыбалке встретили кержацкие ребята охотников, что птицу возили в форпост «Златоносная речка». Охотники рассказали, что видели своими глазами, как увозили из форпоста беглых.
В поселке это известие встретили по-разному.
Сеньча закряхтел, зло мотая головой.
– Была у Степки заковыка в башке. От книжек это, от их самых… А Марей – связался черт с младенцем… Акимко… Ну, в том давно кровь испортили, с его что возьмешь… Ниче для себя не старался… И все они трое такие.
Ребята из кержаков всегда стояли за Сеньчу, – тоже о хозяйстве готовы денно и нощно печься: так-де и надо было ждать, что эти трое сгибнут.
– Дурачье! Аль вы вовсе без разума? – вдруг вскипел Василий. – Чай, их про нас пытали. Видно, они выдать нас не пожелали, а то бы их не увезли…
– Хы! Сказал тоже. Нас выдать!.. Да таких делов и быть не должно, коли люди с одной земли добро для своей жисти брали.
– Как на кого!
Рудничные, узнав про беду, вспыхнули как порох.
– Не, мы не дураки, тож оставаться.
– Теперя не обманешь.
– Видно, ишо не дошли до вольного места.
– Опять начальством запахло.
– Туда уйдем, где начальства и духом не слыхать.
– Тут нам не доля!
Решив уйти, они стали забирать себе косы, топоры. Наплели себе кошелок и до отказа набили их рыбой вяленой, картошкой, мукой. Налетели к их избушкам Сеньча, ребята из кержаков. Сеньча так и кипел непереносной хозяйской обидой.
– Чо, окаящие, творите? Хозяйство рушите? Тащить вздумали? А? Не дадим!
Молодые кержаки тоже наступали:
– Не дадим!
Рудничные же словно вина выпили. Они замахали косами, вытащили и топоры из-за поясов, бранью и криками встречали миролюбивые уговоры Василия:
– Брось, робя!.. Ей-бо!.. Уж начали жить и будем дале тут…
– Наживесся тут курой во щи… Хо-хо!..
Василию полюбилась красивая кержачка Татьяна.
Услыхав, как она кричала и препиралась – и сам ввязался в ссору.
Вставало солнце, желтое, словно курма – горный цветок с пушистым, как щека ребенка, листом. Заря разгоралась, обливая пронзительным светом взбушевавшийся поселок.
Стояли друг против друга две породы людей: домовитые хозяева и переметный, неспокойный, легкий на подъем рудничный люд.
Уходящих на лучшие вольные места было больше, чем остающихся. Те и другие расстались, добра не вспомнив.
– Зря мы вас приняли, дьяволы.
– Свой хлеб-от ели, хайлы жадные!
– Сами хайлы! Изб добрых после себя не оставили…
– Будете хвастать, так в наследье подпалим ишо…
Большая горластая толпа ушла в горы. Сеньча помрачнел, но к полудню разошелся.
– А бастей так будет, робя! Теперя дружней будем по-нашенски жить. Мышины души, струсили… Не слыхивал я, чтобы с Бухтармы людей ловили. Алтай-хребет, батюшко наш, не допустит сюды незнакомого человека.
И с песнями началась косьба.
Рота дружно взбивала пыль.
За ротой лениво покачивались казацкие пики. Казаки скучали и то и дело прикладывались к флягам у поясов. Солдатам было труднее. Пыль набивалась в рот, в ноздри. Черные треуголки грели солдатские лбы. Офицеры били в скулу, а то и в зубы, если нарушался ранжир.
Молоденький прапорщик, узкогрудый, с сутулой спиной, сосредоточенно-сердито подергивал поводья. Ездил он плохо: дергался, съезжал с седла, и острые его лопатки беспокойно двигались, как крылья еще не окрепшего цыпленка. Прапорщик знал, что ездит никудышно, и злился.
Позади ехало самое большое начальство края, и прапорщику хотелось гарцевать, красуясь на красавце коне. Но лошадь была под стать седоку; низкорослая, вислозадая, – было отчего злиться девятнадцатилетнему прапорщику, которому еще так недавно улыбалась за обедом ее превосходительство. И прапорщик, перекашивая еще мальчишески-румяное пушистое лицо, орал ломающимся басом:
– Эй, ты! Шаг у тебя какой, подлец?
– Брюхо подбери, шку-ура!
Горные офицеры ругались крепко, и ему не хотелось отставать от людей.
Солнце жгло. Привал был короток, и отдохнуть вдосталь не успели. Солдаты устали от офицерских кулаков и матерщины, от духоты, от горячей, как железо, земли.
Впереди ослепительно сияли белки. Ниже – прохладные леса, ниже зеленые скаты алтайских нагорий. Под уступами, в выбоинках, среди цветов и мшистого камня бьют рудниковые струи. Тут бы лежать, курить или хотя бы голову освежить под струей родника!.. Эх!.. И солдаты враждебно думали о «беглой сволочи», что заставила их шагать по жаре.
– Доберемся до вас, щучье семя! Погоди!
– Всыплем! Инператорские законы соблюдай!
На белом коне ехал Качка в шляпе походной, с малой кокардой и пером.
Рядом ехал Фирлятевский, чуть покачиваясь на седле. Он обливался потом, страдал, но не снимал белых перчаток – хотелось попасть в тон небрежной, изящной манере Качки.
– К обеду будем у цели, ежели воля господня сохранит погоду столь благоприятной.
И Качка благоговейно перекрестился.
В передних же рядах, в крытой повозке, окруженный дулами ружей и остриями казацких пик, сидел Аким. На худом иссохшем лице горели запавшие глаза. Аким видел только солдатские спины, колыханье большого белого полотнища с золотым орлом. Знамя то свивалось, как жгут, то вновь развертывалось, вздувалось, золотой орел сиял, рос и вонзался клювом в отупевшую голову Акима.
Акима колотили по плечу.
– Вставай, варнак, вылезай! Поведешь!
Спала жара. Ковыль на степи – серебряная река. Над самой же головой Акима выступы, кряжи, обвалы каменных глыб, площадки обомшелые, семейки веселые хвойные, пестрядь цветов – ревнивая тайна, изначальный узел дорог к родному гнездовью.
Аким рухнул на коленки, обнимал чьи-то пыльные сапоги, шпорой оцарапал в кровь себе щеку… Гладил ноги, глядел кому-то в лицо. Слезы изжигали, слепили ему глаза.
– Ваше благородие… братцы… голубчики… убейте… застрельте на месте… на своих веду… Братцы родименькие… совесть ведь… не могу…
Встряхнули за плечи так, что прикусил язык.
– А соль помнишь, аспид? А? Помнишь? Соль да пуля для тебя, обманщик, всегда наготове.
И Аким повел…
В молодой лиственничной рощице, откуда последний извив тропинки ведет прямо вверх к селышку, вспорхнуло Акимово сердце, послало вестку своим – свистнул он охотничьим тревожным посвистом.
И пал под выстрелом рядом с тропкой, еле примяв тощим телом молодую траву.
Посвист охотничий, последнее дело Акима на земле, услыхала Анка, на бревнышке она кормила ребенка.
– Наши ребята идут!
Анка прижала к себе еще сосущего Сеньку и побежала к травяному выступу над тропинкой поглядеть и первой поздороваться с запропавшими мужиками.
Высунула Анка улыбчивое лицо над тропой… и, чуть не уронив Сеньку, рванулась назад – так белка несется по стволу от охотника.
Снизу шла серо-зелено-красная, рассыпная, головастая лавина, колючая от штыков. А над ней взвивалось белое с золотым орлом, царское знамя.
Анка, не помня себя, неслась к косьбе.
Задыхаясь, полупадая и затыкая рот ревущему Сеньке, крикнула:
– Мужики-и! Солдаты идут!
Крикнула бы Анка: «Бухтарма высохла» – не было бы того с Сеньчей и со всеми. Только Сеньча простонал неслышно:
– Да чо ты, баба?..
Анка крикнула истошно:
– Да ведь солдаты идут! Мужики!
С косами наотвес понеслись все к выступу горы над тропой.
– A-а… За душой идут…
Сеньча весь дрожал от напряжения.
– Тащи, бабы, камни! Боле! боле!
На коленях, приникая грудью к земле, он размахнулся.
Ринулся камень вниз, а оттуда раздался жалобный вскрик. Затрещали выстрелы. Белое полотнище встало, развеваясь золотым орлом.
Убрали на носилки тело молодого прапорщика с мальчишечьим лицом. Ему размозжило голову камнем.
Сеньча ясно улыбался, кивая вниз:
– Одним у их мене. Мы ж целы. Беги, Татьяна, к Удыгаю.
Бежала Татьяна, и ветер свистел в ушах.
Удыгай же справлял скорбное торжество. Молил могущество водяного бога указать, где найти ему милую дочь Кырту, красу аула. Весь день сидела вчера Кырту над водопадом. Не пришла домой.
А на остром выступе нашли клок расшитого мехом нагрудника Кырту. Бог водопадов, рек и ручьев должен был тронуться мольбой Удыгая и указать, куда унес он Кырту.
Задохнулась отчаянием Татьяна, видя безумие молитвы. Вертелся, падал, плясал, пел высоко и самозабвенно молодой кам [43]43
Шаман.
[Закрыть]Орылсут. К теплой отдыхающей земле простирали руки коленопреклоненные родичи бедной Кырту.
Татьяна топала, рвала на себе волосы, кричала во весь голос:
– Солдаты идут, солдаты! Помогите!..
Но если вдохновлен кам и буря в глазах его и теплое дуновение веет вокруг его бубна, погибель вечная тому, кто сойдет с места.
И никто не тронулся с места…
Татьяна прибежала назад с воплем:
– Молются, не слышат нас!
Ей никто не ответил. Может быть, даже и забыли, что посылали ее. И она, как и Анка, стала носить камни. Пороху уж давно не было, издержали на охоте за зиму. Одной рукой держась за глыбы у края, чтобы спрятать голову, другой бросали вниз камни. Пот все жарче обливал лица. Казалось, лился пот даже из глаз. Осажденные содрали себе ногти, и стерли кожу на руках до крови, и все бросали, бросали камни.
Вдруг совсем ясно, так что и воротники красные видны и треуголки, из-за выступа горной тропы показался один, другой, третий, целая цепь солдат. Обошли где-то со стороны леса, карабкались вверх, держа штык наизготовку.
Василий шепнул, свистя пересохшим горлом:
– А вот чичас угостим!
Встал, покачиваясь от тяжести камня, изловчился…
Щелкнуло снизу… еще… еще…
Василий качнулся, будто ему перешибло коленки. Мотнулся, упал и словно прирос к земле.
Качка же с Фирлятевским, горным ревизором, лекарем и несколькими офицерами стояли на просторной площадке правее тропинки. Тут было безопасно – и чем выше поднимались солдаты и казаки, тем были они виднее.
Принесли тело прапорщика. Качка сказал торжественно, прикрыв его собственным плащом:
– Сие есть целая война с варварами первобытными. И се жертва и первая и безвременная. M-r Picardot, примите меры, дабы сохранить тело для похорон, достойных героя… А ладно наступают наши молодцы. Лезьте, лезьте! Храни вас господь. Но все ж, сознаться надо, велика злоба у сих бунтовщиков. Держатся изрядно.
Горный ревизор, складывая лорнетку, устало мигнул глазами.
– Все же хотел бы я знать, ужель сегодняшний поход до ночи затянется?.. Солнце уже силу свою теряет… Как досадно сие…
Когда убили кержака Алеху и двух ранили, камни уже никого не могли остановить.
Сеньча, страшный, с налитыми кровью глазами, в клочьях рубахи, облипший мокрыми волосами, еще нацелился напоследок… но вдруг потеряли ноги опору. Наваливалась на спину гора человечья, ревущая, уже непобедимая…
Солнце лениво закатывалось за гору. Повевало нежно-прохладным ветерком. На каменистую площадку, откуда начальство наблюдало за неравным боем, вскарабкался шустрый черноусый прапорщик.
– Честь имею донести… Бунтовщики схвачены и побеждены-с.
– Хвала создателю! – обрадовался Качка.
– Ваше… пр… сходство!.. – с веселым отчаянием вскричал прапорщик, – еще… имею честь добавить… Неподалеку обнаружено становье алтайцев, дружественных, несомненно, с сими бунтовщиками.
– Что с ними?
Прапорщик рапортовал бойко:
– Хотя сии последние в бою участия не принимали, но моленье ихнее показало, что они просили о ниспослании победы их сообщникам. Посему, ввиду желания нашей доблестной роты и храбрых казаков, а также ввиду обилия женщин в сем становье, было разрешено уставшим частям… э… устроить себе веселье в сем месте-с… с приказом не колоть лошадей.
– Молодец! – крикнул полным голосом Качка. – Поздравляю вас, любезный юноша, с чином поручика. – А вас, – обернулся он к Фирлятевскому, – поздравляю, уважаемый и любезный комендант, со званием штаб-офицера.
Фирлятевский вспыхнул, мигнул воспалившимися за день глазами и бурно поцеловал пыльное плечо Качки:
– Ваш… пр… сход… ство… Ваше… Ох… я… я… счастлив превыше сил… Благодарю…
Качка наставительно поднял палец вверх.
– Его благодарите, всеблагого к нам справедливца небесного.








