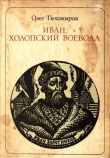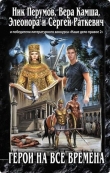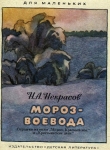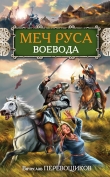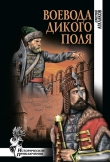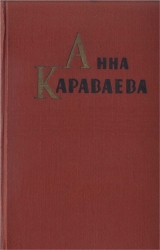
Текст книги "Собрание сочинений. Том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице"
Автор книги: Анна Караваева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 34 страниц)
К утру кончилась кровопролитная битва, а холодный осенний дождь смыл с зубцов и стен кровавые следы боя.
Вечером Симон Азарьин записывал в своем летописном своде:
«В битве, зело кроволитной, велию храбрость показали многи стрельцы, и пушкари, и пищальники, и тяглые люди, своею волею на стены сии восходившие. Имена сии суть: Федор Шилов, Данило Селевин, Петр Слота, Никон Шилов, Иван Суета, просвирник мужик Игнашка. Тот Игнашка купно со всеми из пищалей и пушечек постреливал, а также всех боецких людей силы подкреплял. Да простит ему бог-господь и святые его угодники – тот Игнашка своевольно кормил всех просфорами!.. Но теплые хлебцы плоть и сердце боистые согревали. Правды скрыть не могу: отменную помочь на стенах оказали двое людей гулящих, сказаемо – скоморохи, а имена их: Афонька да Митрошка. Не умея стреляти, сии гулящие людишки у зубцов стенных врукопашную с врагами билися и, сами бывши ранены, никак своего ратного места не оставляли и нерушимую крепость духа и силы своея показали. Еще упомяну о служке троицком Корсакове. Сей человек допреж жития в обители рудознатцем был и в деле военном також познания имеет. Сей Корсаков умыслил в кузнице нашей ядра для стреляния из мелких камней сбивать да их же свинцом да железом оковать, то доброе указание тут же на пользу пошло: те ядра во вражеском стане великие шкоды учинили…»
«Месяц Септемврий, 25. „Память преподобного Сергия чюдотворца“. Бдение да корм чюдотворцев большой: калачи и пироги и оладьи и рыба и мед».
«Троицкие столовые обиходники XV и XVI века» (Часть II).
«Как и в других монастырях, строгие нравы ослабели от постригшихся бояр… У Троицы в Сергиеве благочестие иссякло…»
Из письма Ивана Грозного, около 1578 года. «Историческое описание Т.-С. Мон-ря», 1841 г.
Минул день 26 октября 1608 года. Во вражеском стане было тихо.
Лазутчики донесли воеводам, что в польско-тушинском лагере пока даже не помышляют о бое: многие неприятельские туры разбиты русскими пушками, и потребуется несколько дней, чтобы возвести вновь эти укрепления.
– Знамо, опосля наших им уронов, сим ляхам, яко драным волкам, приходится бока свои зализывать да в норах отлеживаться, – насмешливо сказал воевода Долгорукой, и эта шутка облетела все переполненные людьми дворы и закоулки крепости. Маленький воевода Голохвастов, обходя стены, сказал:
– Ино помалкивают ноне ляхи проклятые! Угостили мы их обедом огненным, опосля такого обеда и лях мудёр.
И эта шутка стала известна всем. На стенах и во дворе люди заметно повеселели. Шел дождь со снегом, ветер пронизывал до костей. Но всюду было людно и шумно. Впервые после многих страдальческих дней все досыта наелись гречневой кашицы.
Просвирник Игнашка заделался кухарем и длинным черпаком помешивал в котле. Скоморохи Афонька и Митрошка, не усидев в духоте избы, притащились к кострам, где толкался и галдел народ.
– И-их, тесненько ж тута, пред огоньком-то, робя-я!
– Тесно, да советно.
– Ныне, бают, ляхи стрелять убоятся.
– Пусть-ко сунутся!
– Уж как щука ни остра, а не взять ерша с хвоста!
– Куды шелому с чупруном [105]105
С перьями..
[Закрыть]супротив наших зипунов!
– Каша кипит, каша кипит!
Насытясь, все еще больше расшутились. Скоморохи позубоскалили на радостях, потом Афонька затянул песню, а Митрошка подтянул грудным баском:
Зима вьюжливая, заметслистая, закуделистая!
Из тех новых из ворот
Идет с боярыней холоп.
Как боярыня холопа стала спрашивати:
«Ты раздушенька-холоп,
Где ты был-побывал.
Где ты ночку ночевал?»
«Сударыня-боярыня, у тебя в терему,
С твоей дочерью».
«Ты раздушенька-холоп, пошто сказываешь?»
«Сударыня-боярыня, пошто спрашиваешь?»
«Ты раздушенька-холоп,
Поди вон из хором!»
«Сударыня-боярыня, без посылу вон пойду,
Три-то беды я соделаю:
Я на первую беду – воротечки растворю.
На вторую-то беду – пару коней уведу.
А на третью-то беду – твою дочку увезу».
Никто не замечал, как из окошечка маленькой новой кельи следит за веселящимся людом чей-то мрачно насупленный взгляд. То был недавно постриженный бывший боярин Михаил Пинегин, а ныне «смиренной мних Софроний». Скучая в иноческом своем одиночестве, он сердился и проклинал черных людишек, которые осмелились шуметь под окнами его кельи. Месяц назад он собственной рукой просто надавал бы им тумаков, а скоморохов приказал бы высечь на конюшне. Но сейчас приходилось только втихомолку сжимать кулаки.
Постриженный боярин принялся за прерванное чтение книги Иоанна Лествичника. На картинке была изображена «лествица блаженства» с тридцатью ступенями. Наверху стоял розовощекий господь Саваоф и, как хозяин гостей, принимал восходящих к нему с правой стороны иноков и святых. А по левой стороне лестницы скатывались в геенну адову все те, кто, погрязнув в земных грехах, пытались-таки пробраться к золотым вратам рая. Бывший боярин неизменно видел себя в длинной шеренге черных ряс, которые поднимались прямехонько в рай. Лишь одного он никак не мог решить, где ему следовало находиться: в конце шеренги, в середине или совсем близехонько к толстому седовласому богу. Иначе и быть не могло: он, боярин, лишившийся наследника рода, постригся в монахи, и жена его постриглась и, разлученная с ним, нашла приют в женском монастыре в Хотькове. Все имущество, земли и холопей отписали они Троице-Сергиевой обители. Право, уж трудно дать большую цену за спасение души своей!
Бывший боярин опять вперил взгляд в книгу, но так как на дворе все еще шумели, гнев обуял его с новой силой. Он накинул на дородные плечи крытый черным бархатом армяк и крупным шагом направился к архимандриту Иоасафу.
Старик полулежал в постели, закутанный до пояса в парчовое подбитое лисьим мехом одеяло. Утомленно шевеля тонкими и желтыми, как свечки, пальцами, он слушал доклад старца Макария. Втиснувшись бочкообразным телом между подлокотниками низкого «веденейского» стульца без спинки, старец листал толстую книгу – столовый обиходник обители – и ворчливо гудел:
– Ино чту дале, как питали мы братию до сего скорбного времени. Писано в обиходнике о прошлой год: «Месяц октоврий, первого дня, покров пресвятой богородицы. Рыба, да пироги, да по пять мер меду, да икра, да пиво сычено». А ноне пирогов-то не пекли, а токмо хлебушко пшенишной, а меду дали по три меры, а пива не довелось сварити. Блюдники [106]106
Прислужники при трапезной.
[Закрыть]сказывают: братия ропщет, отче архимандрите, ропщет братия-то…
– О господи… – проронил архимандрит, подтягивая повыше одеяло и ежась хилым телом, – с утра откуда-то дуло, он никак не мог согреться, у него ныла спина и ноги. – О господи, отче Макарие, сказано в писании: накормим голодных, напоим жаждущих, заслужим небесное царство.
– А дале пошло ишшо хуже, отче архимандрите, – невозмутимо продолжал отец Макарий, не обратив ни малейшего внимания на слова о небесном царстве. – Октоврий, восемнадцатого – день святого апостола и евангелиста Луки. Яства на сей день: капустники да пиво обычное… И что ж, отче?.. Замест пирогов с капустой дали мы братии паки же хлебушко с наипростой кислой капусткой, а пива и вовсе не дали. Блюдники сказывали мне: братия наша по столам ажно кулаками стучала.
– О господи… – простонал архимандрит, – сказано же: не хлебом единым…
Архимандрита уже подташнивало от ядреного запаха дегтя, которым старец, неутомимый ходок по всем углам и закоулкам обители, мазал свои толстые яловые сапоги. Но этот запах приходилось терпеть, как и старца Макария, самого упрямого и злоехидного из всех известных ему старцев. «Ох, прилипчив же он, яко смола горюча!» – горестно думал архимандрит, но терпел, зная, что от старца Макария можно избавиться только тогда, когда он сам пожелает уйти.
– А ныне память мученика Дмитрия Солунского, по уставу положены яства: рыба свежая на сковородах да мед. А иде она, рыба-то? До прудов ноне никак не доехати, да и маслице-то ноне все в кашицу народную льем да льем, конца тем тратам не видно. Объедают нас пришлые людишки… ох, объедают зело… – нудно жаловался отец Макарий.
– А ведомо – мужицкое брюхо и долото перемелет, ему токмо подавай, – вставил словечко бывший боярин Пинегин. – Мы, братия, которые вкладами именья своего обитель обогатили, из-за тех черных людишек страждем, яствами обедняли, а те людишки нам за то спасибо не бают… да ишшо перед, нашими же очами шум да всякое шпыньство учиняют… Людишки вовсе изнаглели.
И бывший боярин, а ныне «смиренной инок Софроний», не скрывая гнева, рассказал, как возмущают его сборища во дворе и то, что «людишки вовсе изнаглели».
– И в старину то ж бывало, отцы… Вздыманы бывали черны люди, иной раз секли главы господам своим! – все горячее рассказывал боярин-инок. Его бывшая жена, ныне инокиня Антонида, происходит от одной из ветвей древнего новгородского рода Мирошкиничей. Кое-кто из ее пращуров – Мирошкиничей – лет триста назад были убиты в своих новгородских хоромах во время кровавого мятежа «черного люда».
Старец Макарий слушал очень внимательно, его круглые светлые глазки жмурились и мутнели, будто наливаясь пьяной брагой. Когда боярин-инок закончил свою речь, слово взял соборный старец Макарий. Он был во всем согласен с иноком Софронием, и благодарил его за «око бдительно», и считал, что «приспело время народишко обуздати, яко дикого коня».
Архимандрит напомнил ему:
– Мы не едины начальники ноне – воеводы пер-вее нас, отче Макарие!
– Ништо! – зло и весело сказал старец, и глазки его заиграли. – Мы людишкам таковы страшны чудеса покажем, что душа у них вострепещет, яко дитя малое!..
Старец быстро заходил по горнице. Его грубые яловые сапоги попирали чудодейные цветы, травы и арабески персидского ковра, подаренного архимандриту царем Борисом Федоровичем.
– Благослови, отче архимандрите, на святое дело рождения чудес великих! – и старец склонился жирной широкой спиной перед ложем Иоасафа. Архимандрит простер над ним восковые руки и благословил.
– Еще прикажи соборному попу Тимофею по моему розмыслу умом пораскинуть да с твоим благословением дело начать.
Архимандрит опять простер руки.
Тут же был вызван красавец поп Тимофей, которого Иоасаф посадил на край постели, чтобы говорить «ухо в ухо», – предстояло сугубо тайное совещание. Инок Софроний поднялся с места и счел приличным уйти. После его ухода старец Макарий велел принести особо любимого архимандритом ставленного [107]107
Любимый старорусский напиток – мед, настоенный на ягодах.
[Закрыть]вишневого меда, а для себя малинового. Поп Тимофей попросил для себя простецкого питейного меду, броженого, с кислинкой, с хмелем и пряностями.
Совещание продолжалось до позднего вечера. Старец Макарий, забыв о своих жалобах, что монастырь-де «зело объедают», распорядился принести из малого соборного «погребца» кое-чего повечерять во славу божию. После вишневого меда и архимандрит разогрелся, сошел с ложа и подсел к столу, уставленному блюдами, мисами, сулеями.
– Эко, икорка-то пречудная… – не удержался поп Тимофей. – Никак такой же царя Василья ублажали, егда он был у нас на моленье?
– Икорка та сама, в ледок засечена… – ответил Макарий. – Зернь от зерни отлична, что жемчуг рассыпной…
– Царска икорка! – повторил Тимофей.
Макарий фыркнул в кулак.
– При разумении и мы у Троицы не хуже царей живем!
Утром ранехонько, средь мокрого мрака, загудел большой колокол на Успенском соборе. Люди, как встрепанные овцы, побежали в собор. Там вдоль стен, на клиросах, уже было черным-черно от монашеских ряс. Монахи хриплыми голосами тянули надрывно-унылые, будто заупокойные псалмы, хотя никого сегодня не хоронили. Качались черные клобуки, взметывались вверх воскрылия широких рукавов – и словно густой черный туман тяжелыми волнами ходил под высокими сводами собора. Паникадила темнели над толпой, как большие клубки паутины, а слабые огоньки лампад и малых подсвечников стлались, юлили в воздухе рыже-черными хвостиками, мельтешили в глазах, неверные, опасные, и каждый миг грозили потухнуть. В соборе становилось все теснее и душнее. Монахи завывали, качался черный туман. Никто ничего не понимал. Две женщины, окруженные ребятишками, не выдержав, громко вскрикнули. Ребятишки жалобно заплакали. В толпе завздыхали, заохали, послышались сдавленные рыданья. Наконец, зажгли паникадила, распахнулись позолоченные врата, и на амвон вышел соборный поп Тимофей.
Глаза попа Тимофея горели, как у одержимого. Размашисто крестя притихшую толпу, он призывал всех преклониться перед чудесами, которые начались уже несколько дней назад. Восемнадцатого октября инок Софроний, в миру боярин Пинегин, объявил, что во сне ему явился сам Сергий и «предуведомил», что враги нападут на монастырский огород, что воеводы тут же сделают вылазку и что стрелецкий голова Василий Брехов будет убит. На другой день все, решительно все сбылось. А тут случилось другое чудо: пономарь Иринарх тоже увидел во сне святого покровителя Сергия, который сообщил ему, что в ночь на двадцать пятое неприятель полезет на стены и будет отбит. И опять все в точности сбылось. Наконец, не позднее как вчера вечером произошло третье чудо. На сей раз святой Сергий явился самому Тимофею, наполнив его келью ароматами райских садов: святой был «зело гневен» и приказывал всем молиться днем и ночью, каяться во грехах, чтобы предупредить страшные беды, нависшие над осажденным градом.
– Покайтеся, покайтеся, грешники нечестивые! – загремел луженой глоткой поп Тимофей.
Чей-то ребенок поперхнулся от страха и заплакал. Всхлипнула старуха. В толпе уже рыдали, стонали, громогласно каялись в грехах. Ребячий плач испуганно звенел, как чистый колоколец, затерянный во мраке умоисступления.
Поп Тимофей начал служить молебен. Кругом выли и плакали. В соборе стало так жарко, что свечи гасли, паникадила дымились. Безумие разгоралось.
Пока шел молебен, иноки всюду проталкивались с кружками, и потные мужицкие копейки, как дождевые струи, сыпались в щели монастырских копилок.
Утром двадцать восьмого октября воевода Долгорукой сидел и, мрачно играя перстнями, слушал донесения лазутчиков. Когда они ушли, воевода вышел на стену и припал лбом к отсыревшим кирпичам крайнего зубца. Казалось, ноги еле держали князя. Минуты не прошло, как все на стене узнали, какую страшную весть принесли лазутчики: враги роют подкоп, враги хотят взорвать крепость!
На военном совете впервые за все время осады воеводы Долгорукой и Голохвастов говорили согласно и порешили единодушно: «Денно и нощно вызнавать, где тот погибельный подкоп начало имеет, дабы, вызнав то проклятое место, навечно его изничтожить».
Как огонь по нитке, весть о подкопе летела из уст в уста и опаляла каждого, отравляла все мысли. Покаянные моленья, навеянные «чудесами», смешались с черным страхом смерти, – и безумие объяло всех. Оно проникло и на стены: на верхний, средний и подошвенный бой. Стрельцы, пушкари и пищальники поодиночке и кучками, не сказавшись начальникам, уходили бить поклоны в соборах и церквах. Многие из окрестных дворян и бояр, а также многие богатенькие торговые люди из посада, заражаясь друг от друга страхом «смерти неминучей», торопили «наискорейше» постричь их в монахи. Беднота посадская, горькие тяглецы, глядя на богачей, расстающихся с земными благами, тоже загорались желанием приготовиться к смерти, «ангельской чин прияти». Но, по уставу «царской обители», вступающие в этот «чин» должны принести с собой щедрые вклады: деньгами, землей, драгоценностями. Тяглецы и посадская беднота бросились умолять архимандрита постричь их без вклада. Архимандрит выходил несколько раз, а потом устал и заперся у себя в молельной.
Целый день звонили большие и малые колокола на соборах и церквах – и глухой медный гул сотрясал небо над обезумевшими людьми, обреченными на смерть.
К вечеру воевода не выдержал и, поборов в себе боярскую гордость, отправился к архимандриту.
Иоасаф, подремывая, лежал в постели, закутанный в лисье одеяло. Старец Макарий сидел около постели, благодушный и торжествующий.
Стараясь не встречаться взглядом с белесыми, бражными от победной ухмылки глазками Макария, воевода заговорил холодно и важно:
– Аз есмь начальник, небольшой воевода, царем посланной… На стенах сих должен я государство московское защищать и славу его охранять… и ратных людей под рукой моей должен я тому ж учить. Но какая польза будет от слов моих, коли многие ратные люди со стен на моленья уходят…
– Ино пусть ходют во славу господню! – весело пискнул Макарий.
Воевода позеленел от злости и, еле сдерживаясь, строго произнес:
– Дивлюся речам твоим, отче. А когда польские пушки вновь начнут по стенам нашим стрелять, кто ж тогда защищать нас будет?
– Силы небесные, силы небесные, вот кто! – и Макарий торжествующе перекрестился на большой киот, блистающий золотом и серебром окладов. – Ино не худо и тебе, воевода-батюшко, помнить: сил небесных и нас, молитвенников смиренных, победить не мочно… Да и уж больно ты черным людишкам волю дал, шибко они, людишки, взбодрилися, словно и бояться им некого. Ох, верь ты боле силам небесным, нежели суете земной, батюшко-воевода!
Воевода глянул на короткопалые жирные ручки Макария, которые безмятежно перебирали четки, и выругал себя ослом и остолопом: Макарий, под шум и гул «чудес», отомстил-таки ему за недостаток почтения к монастырскому начальству… И, надо сказать, очень хитро и зло отомстил, проклятый святоша!
Поднимаясь на башню, оскорбленный воевода кипел яростью. Как они ему надоели, эти продувные бестии в рясах!.. Эти разжиревшие князья церкви, эти отцы духовные, его, большого воеводу, хотели бы видеть своим слугой, который слушается их приказаний. Нет, такого сраму над собой он творить не позволит. Он человек военный и обязан прежде всего заботиться о своем деле и опоры искать себе в своих ратных людях.
Взойдя на верхний бой, Григорий Борисович увидел беспокойно вопрошающие глаза пушкаря Федора Шилова. Немного поодаль, с такой же сдержанной тревогой смотрел на воеводу Данило Селевин, а на лестнице стоял великан Иван Суета…
Когда враги будут побиты, каждый сверчок уберется под свой шесток, а теперь… теперь надо быть последним дураком, чтобы держаться за отцов преподобных с их благолепным размазней – архимандритом Иоасафом. Нет, чем быть им потатчиком, лучше быть начальником над стрельцами, пушкарями и тяглецами.
Вот почему воевода благосклонно ответил на обращенные к нему вопросы:
– Ноне станем вместе размышлять. Кто лучше удумает, то и примем.
– Я чаю, князь-воевода, – сразу начал Федор Шилов, – допреж всего надобно нашим заслонникам приказати на стены воротиться!
– Дело баешь! – похвалил воевода. Он взглянул на Данилу Селевина и Ивана Суету.
– Ну, молодцы, – бодро сказал он, лихо повертывая мурмолку на лысеющей голове. – Идите к церквам и соборам да сыщите там заслонников наших. Так ли?
– Так, воевода! – твердо ответил Данила Селевин, а Иван Суета с такой подзадоривающей силой двинул могучими плечами, что воевода даже восхищенно крякнул про себя: «Ох ты, дьявол!»
Воевода взглянул на зипунишко Ивана Суеты и ласково подмигнул ему:
– Ну-кось, оденем и тебя, детинушка, в государев кафтан, дабы никто не смел противу слова твоего идти. Поди-тко, сотник Данила Селевин, да моим именем прикажи на сего детинушку кафтан надеть.
Будто раздумывая вслух, воевода продолжал, играя волнистыми прядями своей бороды:
– Гляжу, ратному делу ты стал навычен, Суета, страхом не прельщаешься. Ино назову я и тебя, Суета, такожде сотником – тебе, Данила, в подмогу!
– Спасибо, воевода! – Все трое низко поклонились.
Увидев в церковной толпе военный кафтан мясного цвета, Иван Суета легонько хватал его за ворот.
– Куда волокешь, сатана? – взъярился один из таких богомолов, уже выведенный Суетой на паперть Успенского собора.
– А ну, оглянись, красноперый окунек, оглянись! – добродушно сказал Суета и выпустил ворот.
– Тьфу… ты, Иванушко!
– Корсаков! Матвеюшко, пошто ж со стены-то сбежал?
– Да ведь страх берет… неровен час вздынут нас ляхи на воздусях – и пропали наши душеньки…
– Вздынут, вздынут… доглядывать надобно, на то мы и ратные люди стали.
Корсаков стыдливо почесал овсяную бровь.
– Да уж ладно, ладно… Айда, что ль, помогу людишек за шиворот от ладана тащить…
– Доглядывать надобно! – вдруг вскинулся Корсаков, и в его леноватых глазах вспыхнула искорка. – Слышь-ко, запамятовал я, как у Строгановых в Урал-горе мы руды добывали… бывало, пророем в земле ходы, называемы «слухи», и умнем слушать, как. встречь ли, копают…
Тут подошли Федор Шилов и Данила Селевин. Федор рассказал, что вместе с Данилой Селевиным ему удалось вернуть на стены десятка четыре «красноперых окуньков». Данила, подтягивая нитку у полуоторванного рукава своего кафтана и смущенно посмеиваясь, добавил, что, не будь он сам силен, его здорово исколотили бы: некоторые ратные люди гневались, что им мешают «спасать душу», и лезли в драку.
Иван Суета заставил Корсакова повторить рассказ о подземных «слухах».
– Чаю, что сгодятся те слухи и ноне, – и умная усмешка осветила грубое, остроскулое, с коротким, словно обрубленным носом лицо Корсакова. – Те ходы-слухи надобно глубоко рыть, дабы проведать, где лопаты стучат, где ляхи под нас подкоп ладят…
– Рудознатец! – воскликнул Федор и бурно обнял Корсакова. – Дороже клада златого слова твои!
В тот же день бывший рудознатец Корсаков получил от воеводы Долгорукого разрешение копать под землей «слухи» – в направлении с юга на запад.
Маленький Голохвастов назвал это дело «блажью» и «беззаконием» – видано ли это, чтобы люди, как кроты, вгрызались в землю? Надо ловить «языков» и выпытывать у них, где роют подкоп. Кроме того, надо послать в Москву гонцов и просить царя Василья о помощи людьми.
Князь Григорий задумался. Как ни ссорились они с Голохвастовым, маленький воевода часто был прав: да, «языков» надо хватать и надо просить у царя помощь людьми. Но кого послать в Москву?
Перебрав в памяти множество людей, воевода наконец нашел: он пошлет Никона Шилова и Петра Слоту…
Он тут же велел разыскать обоих, привести к себе и объявил им, что они отправятся в Москву нынче же в ночь.
Когда Никон Шилов в переполненной людьми душной избе сказал об этом Настасье, жена бросилась ему на грудь и заплакала от страха.
– Батюшко ты мой! На смерть едешь, на скончание живота! Не пущу я тебя, не пущу…
Если бы не люди, Никон так и замер бы на верной Настасьиной груди.
Правда, стыдиться ему было нечего: на широченной печи, на полатях, на лавках и под лавками теснились люди такие же обнищавшие и несчастные, как и он сам. Однако что-то мешало Никону отдаться своему чувству. Он хоть и насильно, а все же сурово притопнул на жену:
– Эй, будя! Бабьего воя в ступе не утолчешь. Поди-ко сбирай меня в путь-дорогу, непутевая!
Но во тьме ночной, прощаясь с Настасьей, Никон заразился ее тихими слезами и тоже всплакнул.
– Ништо, Настенька, ништо, матушка моя… авось все справно будет… – шептал он, торопливо гладя мокрое от слез лицо жены. – Коли мы с Петром сгодимся да не покривим душой, – вызволим подмогу из Москвы… Народушко спасем и сами, мать, спасены будем.
Никон вырвался из ее объятий и побежал к стене, где уже ждал его Слота. Оба подтянули сапожонки и нахлобучили поглубже шапки, в которых были зашиты грамотки: у одного к царю, у другого – к келарю Авраамию Палицыну, который по делам обители задержался в Москве и теперь уже не мог добраться до Троице-Сергиева.
Малые окованные железом воротца подошвенной части стены открылись в черную бездну осенней ночи. У Никона захолонуло сердце. Слота прерывисто вздохнул, как испуганное дитя. Крутая насыпь рва чернела над ними, как могила. Воротца тихо закрылись. Еще не поздно постучать в них, чтобы их открыли, но надо было уходить – обоим чудилось, что весь осажденный голодный народ с упорством и надеждой глядит им в спину.
Надо было идти.
Оба перелезли через ров и поползли мимо вражеских постов. Миновав польско-тушинский лагерь, побежали лесом что было сил.
К полудню они были в безопасной местности, купили там добрых коней и помчались к Москве.
Корсаков со своим отрядом все глубже и дальше вгрызался в землю. Прорыли низкий лаз сажен на двадцать. Корсаков вползал туда несколько раз на дню, вслушивался до звона в голове, не копают ли где вражеские лопаты, но не слышал ни звука.
Воевода Голохвастов зло посмеивался над «землеройками» и даже распустил слух, что никакого подкопа не существует: князь Григорий его со страху выдумал.
Воеводы теперь ссорились еще чаще.
Роща-Долгорукой ни на минуту не сомневался в существовании подкопа и убедил в этом всех других военачальников. Кроме стратегических соображений, заставивших поляков рыть подкоп, князь Григорий принимал в расчет честолюбие их полководцев, «честь воинства», которая «волчицы жаднее». Сапега и Лисовский как полководцы, конечно, крайне озлоблены, что не могут взять крепости, которую удерживает жалкая горсть защитников. Сапеге и Лисовскому «срамно» уйти без победы, и, конечно, главная их надежда теперь на подкоп. Поэтому воевода несколько раз на дню справлялся, не слыхать ли под землей подозрительного стука, а однажды даже попробовал сам вползти в подземный лаз, но дородного боярина вытащили из-под земли полузадохшимся.
Польско-тушинский лагерь спал. Только временами глухо доносилась перекличка часовых, да во сне смутно ржали кони.
Молодой ротмистр пан Брушевский засиделся над письмом к своей невесте в Краков. Ротмистр был так увлечен писанием, что даже храп десятка офицерских глоток не мешал легкому течению его мыслей. В низкой рубленой избе, убранной коврами, которые пропитались запахами крепких табаков и пота, было жарко, как в предбаннике. В бронзовом шандале, изображающем поднимающуюся змею с разинутой пастью, оплывала свеча. Свечное сало капало на стол, пачкая тонкие сухие руки молодого человека. Он, кусая губы, нетерпеливо вытирал пальцы надушенным, затасканным в кармане платком. Проклятая война, проклятый поход! Еще никогда в жизни не был ротмистр так неопрятен, как здесь, в этом несносном лагере под монастырскими стенами. Хотя он каждый день угощает хлыстом и подзатыльниками своего камердинера Казьку, все-таки даже бритья вовремя здесь не добьешься. А какая теснота: по десять офицеров в одной маленькой избе. Ах, если бы его Марильця увидела его сейчас. Как презрительно она сморщила бы хорошенький ангельский носик!
«…Вы просите, дорогая Марильця, написать о наших военных подвигах. О, caro mio [109]109
Сердце мое (итал.).
[Закрыть], право же, это будет скучно для вас – военная жизнь очень трудна и сурова. Но на то мы и солдаты, чтобы терпеть все это, не теряя храбрости.Вы спрашиваете, когда кончится война? Увы, дорогая, я ничего не знаю. Я знаю только, что все эти смуты заварились из-за царя Димитрия, которого русские прозвали Лжедимитрием. Бог знает, может быть, этот Димитрий и вправду был монах Отрепьев или какой другой бродяга – меня это в конце концов мало интересует. Вы же знаете, любимая Марильця, что я не политик и мечтаю только скорей очутиться в нашем милом Млочнёве и ввести туда хозяйкой вас, ясновельможную госпожу моего сердца! Но увы!.. Пока все это мечты, дорогая Марильця! Я не политик – и скажу вам на ушко: многие наши шляхтичи, что поменьше, уже не рады, что ввязались в эту российскую смуту. Для Европы нам, Польше, приходится говорить, что Димитрий был сын Ивана Грозного, но я слышал, что это был просто ловкий и сметливый бродяга, который жил в челядне Сендомирского воеводы.
Ах, дорогая Марильця, вся эта военная сутолока не стоит ломаного гроша! Я понимаю одно: наше ясновельможное панство надеется увезти отсюда многое множество сокровищ и этим сильно поправить свои денежные дела. Я тоже не хочу себя считать хуже других и тоже мечтаю увезти отсюда не один сундук золота, парчи и драгоценностей. Правда, для этого придется еще повоевать, милая Марильця, ах, придется! Уже много дней мы стоим под стенами Троице-Сергиева монастыря, одного из богатейших в Московии – и вообразите, не можем взять его!.. Все наши старые полководцы неприятно изумлены упорством, с каким осажденные отражают все наши приступы. Наш знаменитый полководец Лисовский, опустошив Владимир и Переяславль-Залесский, надеялся очень скоро справиться с этим монастырем. Но – увы! Ужасная досада!..
Мы пробовали воззвать к здравому смыслу защитников – как им, горстке воинов (всего две тысячи!), воевать с отборными сытыми войсками короля Сигизмунда? Не лучше ли им сдаться на милость победителя? Так нет, они предерзко ответили нам пушками!.. Лазутчиков к ним подослать невозможно, так как на стенах день и ночь стоят люди. Хорошо бы просто подкупить кого-нибудь, о чем деятельно заботятся наши начальники.
Ах, дорогая, несравненная Марильця, если бы такой задорого купленный человек открыл нам ворота крепости!.. Вот было бы торжество, любимая моя панна! Не потребовалось бы много времени, чтобы расправиться с ее защитниками.
Ах, несравненная Марильця, опять скажу вам на ушко: только потому и можно терять время вокруг этой горы Маковец, что все мы предвкушаем радость захвата многочисленных сокровищ этого старого монастыря, который все русские цари так щедро одаривали.
В особых потаенных шкафах стоят ларцы, окованные серебром, в которых хранятся алмазы величиной с яйцо, изумруды ярко-зеленые, как весенние травы, игристые сапфиры, как ваши очи, несравненная Марильця, и чудные лалы, сочные и красные, как ваши уста!.. Если нам удастся подкупить какого-нибудь русского дворянина или даже хлопа, мы с торжеством и громом войдем в эту монастырскую крепость и прославимся на всю Европу. Тогда считайте за мной: жемчуга и алмазы, из которых придворный бриллиантщик в Кракове, monsieur Perier сделает для вас дивное ожерелье. И – готов биться об заклад – все придворные панны будут умирать от зависти, глядя на вашу лебединую шейку, окруженную бриллиантовыми гроздьями чистейшей воды!.. Я привезу вам золотую и серебряную парчу – ведь русская церковная одежда необычайно роскошна!.. Я привезу вам кубки и чарки из золота и индийского перламутра, которые русские цари и князья дарили своему монастырю. Наконец, я привезу вам персидские и шемаханские ковры, которые, уверяю, будут ничем не хуже ранее посланных вам из Москвы. Ах, если бы только нам удалось подкупить кого-нибудь!.. Тогда все эти сокровища были бы у нас в руках!.. О, если бы я мог распоряжаться временем!.. Но оно, к горю моему, не принадлежит мне, а моим военачальникам и нескончаемым битвам под стенами этого ненавистного монастыря.
Увы, божественная, все мы наемники войны и смерти, но все мы per fas et nefas [110]110
Правым и неправым путем (лат.).
[Закрыть]хотим избегнуть ее пагубной секиры. Но, проливая кровь и тратя время, мы, конечно, жаждем самой щедрой оплаты наших неудобств и страданий. Будет чрезвычайно досадно, если подкоп не удастся и нам не придется войти в распахнутые ворота при звуках труб и литавр. Неужели же мы, ясновельможное панство пресветлой Польши, не сможем взять этот монастырь с его двумя тысячами защитников?.. Наши знаменитые паны Сапега и Лисовский с каждым днем все больше приходят в ярость и говорят: „Надо, наконец, взорвать это гнездо!“ Наши военачальники приказали рыть подкоп, который в назначенный ими день решит судьбу похода под Троице-Сергиев монастырь.Уже глубокая ночь, мои товарищи спят крепким сном, а я только и хочу мечтать о вас, дорогая, несравненная Марильця. Я вас так люблю и так тоскую о вас, что готов иногда молиться: „Liber nos ab Amore!..“» [111]111
Освободи нас от любви! (лат.).
[Закрыть]
Пан Брушевский наконец поставил под любовным посланием свою подпись, украшенную красивыми завитушками тонкого росчерка, запечатал письмо алым сургучом и положил в карман кунтуша. Потом набросил на плечи бархатный плащ, подбитый мехом, и вышел подышать ночным воздухом.