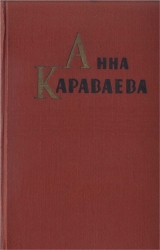
Текст книги "Собрание сочинений. Том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице"
Автор книги: Анна Караваева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 34 страниц)
Ох, трудное время, смутное, лихое! Одно ясно Авраамию: не для того родилась на свет его умная голова прирожденного властителя, философа, ритора и любомудра, чтобы безвременно погибнуть.
Авраамий Палицын может сохранить свою голову, если сумеет ходить по земле «аки барс», проползать «аки змея» и ворковать «аки голубь сизокрылой».
Вошел румяный келейник и сказал, что Иван Зубов спрашивает, готово ли, наконец, письмо.
– Тамо еще двое тяглецов троицких дожидают тебя, отче, – напомнил келейник. – Уж который раз приходют… Пустить?
Ах, да, да… вот еще – народ, тяглецы, холопи, посадские. Их со счетов никак не скинешь, как самое землю. Прогонят поляков от стен монастыря – и доведется считать каждого тяглеца. Да и полезно келарю Палицыну создать для себя славу «доброго пастыря, хранящего малое стадо свое».
– Отпущу Ивана Зубова, опосля зови мужиков, – приказал келарь.
Вошел Иван Зубов. Келарь вручил ему письмо, милостиво обнял и отпустил с миром.
Ивана Зубова за дверью келарских покоев встретили два голоса, полных презрения:
– Погань, переметчик проклятой, польской блюдолиз, пес продажной!
Как ни боек был поп Иван, а и его пробрало: завертелся бесом и выскочил, как ошпаренный.
Увидев Шилова и Слоту, Авраамий размашисто и щедро благословил их и сказал:
– Ну, братие, завтра поутру к царю пойдем.
Гонцы радостно пали ему в ноги.
На рассвете оба помылись в бане и часу в десятом, когда московские колокола уже отзванивали обедню, отправились с Авраамием в Кремль.
«…Каждую ночь в Москве их водили сотнями, как агнцев на заклание, ставили в ряд и убивали дубиною по голове, словно быков, и тела спускали под лед…»
Исаак Масса. «Краткое известие о Московии».
Царь Василий Иванович Шуйский сидел в одном из малых покоев дворца.
Поднявшись с колен, Никон Шилов сначала изумился незнакомой диковинке – стеклина в медной оправе, в которой он, как в тумане, увидел свое отражение, потом пришел в себя и поглядел на друга. Слота в это время с удивлением смотрел на часы, которые висели на стене в дубовом резном коробе. Вдруг распахнулась дверца, оттуда выскочила деревянная птица, горласто прокуковала десять раз и скрылась за дверцей.
– Хи… хи… хи! – весело расхохотался царь. Кафтан из голубой объяри, казалось, струился вокруг его небольшого щуплого тела. Тряся реденькой, выцветшей бороденкой и щуря подслеповатые желтые глазки, царь спросил с тем же мелким смешком:
– Ну, кого ты приволок ко мне, отче Авраамие?
Келарь передал царю грамоту и рассказал о цели приезда троицких гонцов в Москву. Царь слушал, сначала зевая, а потом сердито сморщил свое и без того морщинистое лицо и отшвырнул ногой бархатную скамеечку.
– Подмогу, баешь, просют? Ишь, хитрые, нанося!.. А мне на Москве войско свое зорить, на все стороны раздавать?
Шилов и Слота, холодея, переглянулись: неужели пропало дело?
Подтолкнули друг друга в бок – и опять дружно повалились в ноги.
– Не оставь, надежа-государь!
– Призри на малых сих, заслонников обители твоей!
Царь заходил по комнате, то трепля бороденку, то накручивая ее на сухой палец. Голубой кафтан его сверкал льдина-льдиной.
Никон, отчаянно простившись про себя с жизнью, с Настасьей, крикнул во всю грудь свою:
– Батюшко-царь, пожалей нас, сидельцев осажденных!.. Дюже страждет народ наш!
И он, торопясь, начал свой рассказ «самовидца», как с каждым днем все тает число защитников крепости, как страдают люди от голода и болезней.
Временами царь обращался к Шилову и Слоте с каким-нибудь незначительным вопросом, но сам думал о своем.
Да, вот третий год, как он, наконец, получил власть, долгожданное царство. Он мечтал о нем под окриками царя Ивана Васильевича. Глотая голодную слюну, он, Василий Шуйский, смотрел на возвышение Годунова, завидуя ему ежечасно и неутомимо ненавидя. О нем, Шуйском, потомке князя Рюрика, никто не говорил так, как о Годунове, этом выходце из татар; например, посол Елизаветы английской, Горсей, называл Бориса «великим князем», «лордом-протектором» и другими лестными именами.
Когда Годунов стал царем, зависть к его государственному разуму – выскочки, перегнавшего Рюриковича, сжигала Василия Шуйского. Но чем злее мучили его зависть, ненависть и властолюбие, тем искуснее он носил личину смирения и покорности. Она так приросла к лицу его, что даже бдительное око Бориса не могло пронзить ее.
Василию Ивановичу, конечно, ясно было как на ладони, что Лжедмитрий совсем не сын Грозного, но грязный проходимец попался ко времени ему на пути, и он поклонился ему. Личина и здесь помогла. Правда, он чуть было не сорвался: голова его, Рюриковича, уже лежала на плахе, но в самый последний миг Самозванец помиловал его. Василий Иванович опять надел личину смирения и преданности. Он даже был дружкой на свадьбе Самозванца, испытывая при этом лютое желание отравить, зарезать, переломать кости своему благодетелю. Он только тогда сбросил личину, когда Самозванец был убит, как смрадный пес.
И вот наконец она, царская власть, ради которой Василий Шуйский пресмыкался, лгал, ненавидел, завидовал, хитрил, изворачивался, проползал, как змея, предавая без конца, – и никого не любил, кроме несыти властолюбия, сжигавшей его мысли и тело. И вот он на царстве. Нет места выше. Вот тут бы и красоваться, блистать, повелевать, упиваться всеобщим преклонением. Но трон его будто стоит на песке, подмываемом со всех сторон. О, если бы выловить всех недовольных, связать, обезвредить, а то и просто уничтожить, как уничтожил он всех, кто шел с Болотниковым, – и оставить бы одних покорных и смиренных…
Царю вдруг захотелось вырваться куда-то, на свежий ветер, на метель, что завывала на улице. Он хотел шагнуть – и вдруг увидел устремленные на него лица троицких гонцов.
Он смотрел на них, пораженный светом, который сиял в их безбоязненных глазах на все решившихся людей. Эти двое, в грубых рубахах и зипунишках, ничего не хотели для себя, не знали и представить себе не могли, какие пропасти разверзаются в некоторых душах человеческих. Эти двое не боялись ни смерти, ни унижений, ни лишений, потому что не отделяли себя и своих помыслов от пославшего их народа, они, словно капли, сливались с общей волной горя, которая занесла их сюда в Москву. В упорстве их взгляда царь вдруг увидел пронзительный чистый свет – и испугался этой чистоты. Такое выражение случалось ему видеть у схваченных людей Ивана Болотникова. Не веря никому, он не боялся подлости – тут оставалось только выбирать оружие, какое больше подходило. Но эти упорные взгляды неподкупной чистоты больше всех пугали его – над ними у него не было власти!
– Подмога? Войско? – вдруг визгливо закричал он и отпихнул сапогом стоящих на коленях гонцов. – А что на Москве будет?.. Мне самому войско надобно!
Но тут подошел Авраамий и стал убеждать царя послать «хоть малую толику» войска. Это была привычная уху Шуйского царедворческая речь, содержащая в себе и намек на кое-какие выгоды, и кивки на Европу, которая, наверно, думает всякое о царе Василии…
– Ладно, – сказал наконец царь, – пошлю с вами… полсотни воинских людишек!
Никон Шилов и Петр Слота, пошатываясь, вышли на Красную площадь.
Полсотни воинских людишек вместо большого войска, от которого побежит враг! Полсотни людишек! Из-за этой горсточки посланцы осажденного града томились, умоляли, ползали на коленях!
– Ну, спасибо царю Василию! – судорожно вздохнул Слота.
В эту минуту на площади кто-то крикнул:
– Выплыли! Выплыли!
Площадь охнула, и все побежали к Москве-реке.
Никона Шилова и Петра Слоту толпа вынесла вниз, к самой воде. Из сизо-бурых осенних волн мертвенно высвечивали вздутые голые тела. Двух мертвецов выбросило на берег. А поблизости по макушку еще двое лежали в воде.
– Горемычные!.. – зарыдала какая-то старуха.
За ней глухо, как на похоронах, загудели голоса:
– Болотникова-то войско из-под воды выходит!
– Ох, и топил же их царь Василий бесперечь всяку ночь!
– А в Нове-городе, а в Туле реки-то сплошь утопленными забиты… Страсть!..
– Захоронить бы их, голубчиков! – слезно вздохнула стоящая рядом с Никоном пожилая женщина в заплатанном дубленом полушубке. – Захороним их, а… добрые люди?
Кто-то зло и печально ответил ей:
– Ни рук, ни лопат недостанет, мать, – гляди, поутру новых опять на берег выкинет…
Здоровенный детина с длинным шестом в руках вдруг подошел к утопленникам и одного за другим отпихнул от берега.
– Господи, упокой души их! – сказал он, крестясь и низко кланяясь, потом пошел в воду и стал осторожно и ловко работать шестом. Скоро все четыре трупа закачались на волнах.
Пожилая женщина всхлипнула.
– Упокой вам, убиенные… страдальные вы наши!
И низко поклонилась плывущим в безвестную даль.
Никон и Петр тоже крестились и кланялись мертвецам, все дальше уплывающим по течению реки.
– Ох, народушко-о, мученской ты мо-ой! – вдруг опять слезно вздохнула женщина. – Ох, народушко, режут, топят тебя. Откуда сила-то у тебя берется?
Она вдруг так стала похожа на Настасью, что Никон молча обнял ее и припал к ней головой. Так постояли они молча, не двигаясь, – и Никон прочел во взглядах притихших, прижавшихся плечом к плечу людей неизъяснимую, под спудом таимую силу, которая объединила их всех одним дыханием горя.
Когда все понемногу разошлись, Никон сказал Слоте:
– Петруха, соседушко… царь Шуйский людьми реки без счету забил, заполонил, а нам, сидельцам-заслонникам… полсотни людей отпустил…
– Зря поимели мы надежу на него, Никон.
– Едина у нас надежа: сами всем народом беремя на плеча возьмем, окромя нас – некому!
Полсотни стрельцов, прячась в перелесках, а потом ползком во рву, глубокой ночью пробрались в крепость.
– Неужто сие… вся подмога? – сурово изумился князь Григорий, увидев полсотни стрельцов, измученных, голодных, в замызганных кафтанах.
– Боле нам царь не дал, – глухо ответил Никон.
Скоро из больничной избы прибежала Настасья, обняла Никона и начала ощупывать его, как цыпленка.
– Батюшки, уж и тощой же ты стал, Никонушко… все косточки торчат… На-кось, вот сухарей для тебя припасла, пожуй-ко с водицей-то, батюшко мой!
– Да ты поди сама недоедала, Настенушка?
– И-и, милой, уж так-то ела, так ела, что глядеть на хлеб неохота.
Молодая жена Петра Слоты ничего не припасла для мужа, а соседи шепнули ему, что его Ульяшка гуливала с молодыми чернецами. Жена во всем созналась, и Слота избил ее до синяков.
Ему было так тяжело и горько, что он пожалел, что теперь негде напиться и забыть свою тоску. Но тосковать было некогда. Утром зазвонил сполошный колокол. Поляки опять полезли на приступ. Когда поляков отбили и стрельба поутихла, Никон пошел искать друзей. Увидев Данилу, Никон был поражен, как похудел и пожелтел Данила.
– Что с тобой подеялося, Данилушко? Разнедужился, что ли?
Данила поднял на Никона запавшие глаза.
– Пал позор на честной мой крестьянской род – Оська к ляхам убежал.
Неделю назад, утром, после кровопролитной битвы в углу стены часовые увидели конец веревки – кто-то, значит, спустился по ней вниз, во вражеский лагерь. Стали доискиваться – и обнаружили, что ночью убежали пятеро. Осип Селевин, дружок его Пронька Теплов и еще трое посадских.
Даниле никто худого слова не сказал, но он сразу впал в тоску.
Во время боя он забывал о ней, но стоило ему сойти со стен, как она сразу впивалась в сердце. Лежа за большой корявой печью в стрелецкой избе и чувствуя теплое дыханье Ольги, Данила шептал пересыхающими губами:
– Ведь он, подлой, в руках у меня был! Я ж его возле двери ляха уследил! Мне бы тут его и схватить да под замок, под замок!.. А я, дурачина, злого коршуна выпустил, устыдился, что он про тебя помянул… что ты мне женой стала…
Ольга, уже не раз слышавшая о том, как все произошло в Каличьей башне, пыталась утешить Данилу:
– Ох, кабы меня не было, не пришлось бы тебе и стыдиться, голубь мой!..
– Что ты, что ты? – испуганно шептал он, гладя ее густые, мягкие волосы. – Люба моя, иссох бы я без тебя, как трава без солнушка… Нет, мне бы, скудоумному, ответствовать тому врагу моему: «не твоей посадской деньгой можно было сердце Ольгушеньки укупить, не тебе было ее удержать».
– Ино так, свет мой… Усни ты, Христа ради, малость усни.
– Ох, уж он, проклятой, ляхам все поведал, а те легохонько отыщут, где стены наши утлы, где пушечки износилися… И выходит, я проклятой Оськиной шкоде потворщиком стал…
Пленный раненый казак Дедилов потребовал к себе попа, умоляя не медлить: он хочет открыть тайну, которая мучит его душу. Случайно поблизости находился келарь Симон Азарьин, которого и привели к умирающему. Дедилов умолял простить его, «злосчастного, винного человека», покаялся в измене и открыл: подкоп поляки уже прорыли. Место подкопа: между мельницей и круглой башней нижней монастырской стены.
Симон Азарьин закрыл глаза Дедилову, побежал к воеводе с радостной вестью: наконец-то найдено место проклятого подкопа!
В ту же ночь указанное Дедиловым место под наружными стенами оградили крепким частоколом и укрепили турами. Особый отряд заслонников должен был непрерывно следить за этими турами. Медлить, однако, было никак нельзя. Поляки, обозленные тем, что их злодейская хитрость раскрыта, уже с раннего утра начали рыскать вокруг огороженного места. Их отгоняли огнем, но они возвращались опять.
– То не дело! – сказал Долгорукой и решил как можно скорее взорвать подкоп.
– Спосылай меня, воевода! – сказал Данила Селевин, и его сумрачное лицо слабо осветилось просительной улыбкой.
Воевода отмахнулся.
– Не дури-ко, сотник! Для такого случая легкий телом человек надобен. Да и для угляденья того подкопа тож малой да вьюркой человек потребен.
Вдруг воевода увидел Шилова и Слоту, которые вмазывали кирпичи в стену.
– Эй вы, гонцы московские, подите-ко сюды! – обрадовался воевода.
Оба подошли. Воевода милостиво похлопал Слоту по заплатанной спине.
– Слышь-ко, Слота, уже больно ты росточком сгодился!
– Ась, воевода? – не понял Слота.
– Баю, легонькой ты, словно перышко. Налегцах и со стен спустишься.
– Пошто мне со стен спускаться, воевода?.
– Надобно тот смертоносной вражий подкоп изничтожить, дабы следу его не осталось. Вызволяй-ко товарищей себе, гонец московской!
– Што ж, доведется вызволять, – улыбнулся Слота, смущенный тем, как крепко на него надеются. И, вытирая руки о полу зипуна, Слота повторил:
– Доведется уж вызволять, сие как пить дать.
– Эх! – даже заметно обидясь (как это о нем-то забыли), сказал Никон. – Уже мне, Петра, от тебя не гоже отставать.
– И то!.. Двое и ступайте, – решил воевода и тут же приказал бывшему рудознатцу Корсакову рассказать, как нужно запаливать зелье в устье подкопа.
Шилов и Слота все внимательно выслушали и стали ждать сумерек.
Засовывая сухари в карман Никону, Настасья вдруг всхлипнула и припала головой к его плечу. Никон неодобрительно заворчал:
– Полно-ко, мать, полно… То в Москву ходили, а ноне под самыми стенами будем. Изладим дело, свистнем, – и нас в обрат наверх подымут. Постыдися-ко голосить-то, словно неразумная.
А Слота наказывал своей моложавой и ненадежной жене:
– Ты у меня, баба, сиди смирно, а то – вот те крест – ворочусь… и будет тебе на орехи, Ульяшка!
– Ой ли? – похохатывала Ульяшка, скаля мелкие кошачьи зубки.
«…и взорва подкоп, Слота же и Никон ту в подкопе сгореша…»
«Сказание об осаде»
В сумерках Никон и Петр благополучно спустились со стены. Поляки их не заметили.
К ночи стрельба прекратилась. Кругом все затихло. Накануне была оттепель, снег стаял, с утра землю обдуло теплым ветром, и была она еще чуть пахнущая увядшими травами, – Шилов и Слота не слышали своих шагов. Они долго бродили, обшаривая каждую пядь земли, но ничего не могли найти.
Под стенами стало уж совсем темно, только на вражеской стороне лохмато пылали костры. Ветер принес запахи свежего печеного хлеба и мяса, которое варилось в котлах и жарилось на вертелах. Слоте захотелось похлебать щец, хоть бы вчерашних, пососать мозговую косточку… В крепости только через двое суток дают крупяное варево, почти без соли, а сегодня и этого нищего варева не было. В крепости людям и нечего и некогда поесть, а проклятые ляхи объедаются с утра до ночи – да еще вот разыскивай их бесовский подкоп.
«Тати окаянные, грабители, злодеи!» – думал Слота, тряся худым кулаком, и казалось, еще никогда не горел он такой ненавистью к врагам, как в этот вечер.
Грозил врагам и Никон Шилов, который ходил поодаль. Как и Слота, он посылал самые страшные и позорные беды на врагов, на все их разбойничье торжество.
«То нашу кровь варите в тех поганых котлах, слуги адовы, народа грабители, убивцы окаянные!» – думал Никон. Голод тоже мучил его. Он хотел было присесть, развязать узелок, пожевать сухарей, но вдруг вспомнил: сумасбродная ленивая Ульяшка не дала ни крошки хлеба Слоте, а тот, мучимый ревностью к жене, забыл попросить ее об этом. С молодых лет друзья Шилов и Слота привыкли делиться хлебом на охоте в лесу, на рыбной ловле. И Никон, как ни терзал его голод, решил с едой повременить.
Вызвездило, а устье проклятого подкопа все еще не было обнаружено. Вдруг, протаптывая землю вокруг кустарника, Никон провалился в неглубокую яму. Начав копать, он провалился еще глубже – и вскоре уперся ногами в стенку довольно широкого лаза, укрепленного бревнами.
Никон чуть не вскрикнул от радости – устье подкопа было найдено!
Никон тихонько свистнул Слоте. Юркий Слота прополз вовнутрь – и тут же скрылся в глубине земли. Никон остался сторожить у входа. Через полчаса Слота приполз обратно. Он достиг самого конца подкопа, который поляки еще далеко не довели до стены, – этому помешали бои. Помня советы рудознатца Корсакова и небольшого пушкаря Федора Шилова, Слота считал, что взорвать подкоп следует подальше от его устья, чтобы вражеская работа была вчистую уничтожена. Никон согласился: да, так они и сделают.
– Пожуем, Петра, робить станет бойчее, – сказал Никон и первый сухарь дал Слоте. Оба продрогли и сели на бочонок с пороховым зельем, спущенный вместе с ними со стены, тесно прижавшись друг к другу. Сразу обоим стало теплее. Ржаные Настасьины сухари казались сейчас вкуснее разносолов московского троицкого подворья.
Крупные звезды горели чистыми, как слезы, белыми огнями. Вдруг Никону показалось, что какая-то беспокойная звезда прочеркнула искрами черное небесное поле и упала вниз, сгинула где-то за черными тихими лесами.
Никон вспомнил сказки детских лет: когда человек умирает, звезда его судьбы падает с неба и потухает, а на небе загорается новая звезда.
– Ну, айда, Петра!
– Айда, Никонушко!
Друзья вкатили бочку пороха в устье и поползли на коленях, подталкивая ее в глубь подкопа.
– Поди хватит уж? – спросил Слота прерывистым голосом; пот лил с него градом.
– Ладно… отседова и запалим… – ответил Никон, тоже весь парной от натуги. – Видно, уж стареньки мы с тобой стали, Петра!
Никон нащупал отверстие на левой стороне бочки с «зельем», вынул из кармана шнур и начал пальцем проталкивать в отверстие. В кромешной тьме Никон как следует не нащупал, достаточной ли длины конец остался для запала.
– Ну, Петра, – сказал он глухим от волнения голосом, – запалим, благословись!
Слота высек искру, а Никон, приложив трут к концу шнура, раздул огонек.
– Пошло! – радостно шепнули оба друга и торопливо поползли к устью подкопа.
Вдруг земля вздыбилась под ними, страшно ударила в спину и подняла их высоко, высоко, к огромному пожару золотых звезд…
В тот самый миг, когда на стенах крепости услышали грохот взрыва, что-то теплое, сильное брызнуло на щеку Федора Шилова, что-то небольшое мягко шлепнулось сверху о ствол гафуницы и упало на кирпичный пол «верхнего боя».
Федор, удивленный, вытер щеку и поднес ладонь к фонарю. Ладонь была в крови. Федор снял фонарь и начал шарить возле пушки. Вдруг он увидел страшную, оторванную ниже локтя руку. Он вгляделся и обмер: перед ним лежала знакомая широкая рука, с кривоватым, после вывиха еще в детстве, большим пальцем – рука его брата, Никона Шилова. Как завороженный, Федор смотрел на короткие пальцы, выпачканные землей.
– Царство небесное! – прошептал Федор.
– Иди-кось, воевода зовет! – крикнул ему Иван Суета.
Федор молча поманил его. Суета подошел, глянул и перекрестился трепетной рукой.
– Упокой, господи… Знамо, оба сгибли…
– Оба сгибли.
Федор завернул мертвую руку в холстину и пошел к воеводе.
Князь Григорий, едва увидев Федора, нетерпеливо спросил его:
– Ну, пушкарь, розмыслова голова, как по-твоему: наши извели тот проклятый подкоп?
– Извели, – глухо ответил Федор и добавил, осененный внезапной мыслью: – Вот, о том мне брат вестку подал.
Федор развернул холстину. Воевода испуганно закрыл лицо, потом снял шапку и размашисто перекрестился.
– Слава тебе, спасе, и упокой рабов твоих Никона и Петра.
Утром по приказу воеводы и архимандрита в обоих соборах, во всех церквах велено было служить панихиду «о живот положивших за братьев своих, верных заслонниках града нашего» Никоне Шилове и Петре Слоте.
Настасья Шилова, будто высохшая за ночь, опираясь на руки Ольги и Данилы, спрашивала с беззвучным упорством:
– Да где ж ты, Никонушко, свет ты мой, пошто ж не видно мне головушки твоей!
Она жалобно настаивала, чтобы перестали наконец прятать от нее тело ее мужа. Ее подталкивали, чтобы молилась и кланялась, но она все искала Никона и ласково бормотала, чтобы шел скорей с ней в избу, а то на улице ветер.
Из бойниц среднего боя, со стороны мельницы, в прозрачном воздухе была видна взбитая буграми, словно вывернутая наизнанку земля. Вражеский подкоп был вчистую уничтожен.
Еще до полдня ударила «трещера».
Утлая западная стена зашаталась, из пробоин с грохотом посыпались кирпичи.
Федору на миг показалось, что он видит у пробоин приземистую фигуру брата и маленького подвижного Слоту. Но это были мужики-печеклады из села Молокова.
Сердце Федора заныло от тоски и боли. Он быстро смахнул слезу и прильнул к щели. Сквозь рассеивающийся дым он вдруг ясно увидел на горке проклятую «трещеру», ее пасть, дымящуюся, как у дракона.
– Вот мы на тебя, людожор окаянной! – сказал Федор, и горькое торжество вдруг охватило его: Шилов и Слота уничтожили вражеский подкоп, а они, все троицкие пушкари, уничтожат «трещеру»!
– Недаром ты мне вестку послал, брат мой милой! – словно клятву повторял Федор. – Недаром кровушкой своей меня окропил, дабы я дюжей работал!
Федор побежал к воеводе и рассказал ему свой план: в «трещеру» надо бить со всех сторон, бить дружно и неотступно до тех пор, пока и пасть и казна ее не разлетятся!
– Наддай, робя-я! – кричал Федор в яростном восторге уверенности и силы. – Наддай, робя, во славу града нашего! Эх-х!..
Он знал, что пушкари среднего боя стреляют в ту же сторону, а пушкари подошвенного боя бьют понизу, – чтобы помешать врагам исправлять повреждения в турах, наносимые русскими ядрами.
Через два часа прибежал стрелец со среднего боя и знаками пояснил, что уже четырежды ядра «трещеры» зарывались в землю, не долетев до стены. Все поняли: такой стрельбы враги не ожидали. Впрочем, они пытались поправить дело на северной стороне, против Конюшенной башни, и против Сушильной башни, на восточной стороне. Но Данила Селевин со своей сотней на северной стене и сотник Иван Суета на восточной стене отразили атаку ляхов.
Данила стрелял, рубил, лихорадочно и зорко примечая мельканье чужих злобных лиц, но Оськи среди них не было.
Улучив минутку, Данила подбежал к кадушке, зачерпнул кружку воды – и увидел такого же потного и дымного Ивана Суету. Данила вытер усы и прокричал в ухо Ивану Суете:
– Коли узришь Оську-изменника, бей его до смерти!.. До смерти.
Иван Суета согласно кивнул – и опять убежал к зубцам крушить врага.
Через четыре часа после начала боя «трещера» перестала стрелять. Двое «языков», которых захватили к вечеру, показали, что русские пушки разбили «великую пани-трещеру» и что все укрепления вокруг нее тоже разрушены. «Языки», кроме того, рассказали, что польские военачальники растерялись перед «зельным» [116]116
Большим, исключительным.
[Закрыть]умением и «силою стреляния русского», а также – перед меткостью русских топоров и сабель, «кои бьют нещадно». При этих словах воеводы переглянулись – и, кажется, впервые без взаимной злости. Князь Григорий вершил бой на западной стене, а маленький Голохвастов «правил» боем на северной и восточной стенах.
Гордо вздернув мочалистый клочок бороденки и распахнув тяжелую шубу, подбитую куницей, маленький сухопарый Голохвастов временами даже хитренько подскакивал и покачивался на носках – при таком выигрыше ему хотелось быть высоким, важным, плечистым.
Князь Григорий, однако, считал героем дня себя: проклятую «трещеру» разбили оттуда, где он вершил бой. Не теряя времени, он тут же вызвал Алексея Тихонова и продиктовал ему грамоту царю Василию Ивановичу, в которой воевода поздравлял царя «со счастливым и зело благоприятным избавлением града сего от поганого зверя железна, огнь и смерть изрыгающа».
«Ишь ты! – кусая губы, думал Голохвастов. – И всюду-то умеют они поспешить, постылые богатины! Того гляди, от царя даров-почестей добьется!»
Князь Григорий, выйдя из башни на стену и жмурясь от солнца, действительно уже мечтал: что-то теперь пожалует ему царь за «трещеру». Но, спустившись вниз на крепостной двор, князь сразу помрачнел: отовсюду несли убитых. Казалось, мертвецам счету не было: пробитые вражескими ядрами груди, рассеченные головы, плечи, оторванные руки и ноги…
На белые, в веселых зеленых и красных полосках катанки воеводы – их делали свои вотчинные шерстобиты и катали – вдруг упало несколько капель из пробитой груди стрельца, которого пронесли мимо. Буро-красные пятна сразу расползлись по веселому поярку. Князь Григорий прибавил шагу и, придя к себе в горницу, нетерпеливо переобулся.
– И-их ты… сколько кровищи есть в человеке… – бормотал он, брезгливо моя руки.
Ему видно было, как во дворе разбивают ломами мерзлую землю, чтобы выкопать братскую могилу. Такого множества убитых еще никогда не бывало, «приуготовить» их к отпеванию в соборах и церквах теперь было явно невозможно. Мертвецы лежали рядами, лицом к небу, на свежевыпавшем голубом снегу, который цвел щедрым алым цветом их крови.
Вокруг толпились женщины, старики, ребятишки. Пенье монахов сливалось с воплями женщин.
Дедушка Филофей, обросший изжелта-белой сединой, длинной и густой, как мох на древней ели, толкался в толпе. На него никто не сердился, будто это ходило само неизносимое время. Он бродил, вглядываясь в мертвые лица, и грозно бормотал что-то.
Увидев Данилу Селевина и Ивана Суету, он обнял их огромными, обросшими мшистым волосом руками и отвел в сторону от панихидного пенья и стука могильных лопат.
– Слышь-ко, парнишки… – загудел он хриплым басом. – Народу-то ноне полегло… Стра-асть!.. Ишшо сколь надобно будет народу, парнишки!.. Слышь, я туто все башни своими руками по камушку клал, все подполья мне ведомы… Слышь, робя, ноне Диомидко спьяну сказывал: в подземелье под Каличьей колодники по сю пору томятся…
– Колодники? – вскрикнули Иван и Данила. – Да неужто ж там живы человеки суть?
– Живы, да токмо на смерть глядят! – подтвердил злой и смешливый голос Игнашки-просвирника. Его щуплое, словно костяное личико посинело от ветра, ноги в старых, заплатанных валенках выбивали дробь, он мерз, но беспокойное любопытство гнало его из просвирной избы.
– Пробрался я в закоулок, – рассказывал просвирник, – и углядел в щельное оконце: сидят люди томны, изможденны, ноги в колодках, а которые чепями к стене прикованы…
– Пойдем! – решительно прервал Иван Суета. – Пойдем, братие, народ выручать!.. Аль мы с тобой, Данилушко, кабацкому Диомидке руки не скрутим?
– Скрутим, – ответил Данила и, усмехаясь, поиграл могучими жилистыми кулаками.
– Эх, златой ты мой народушко! – восхитился Игнашка. – И я от вас не отстану!
Заслонники-скоморохи Митрошка и Афонька шли навстречу с лопатами на плечах – копать братскую могилу. Узнав, куда идут люди, скоморохи повернули туда же.
– Мертвому вскрёсу не будет, – сказал Митрошка.
– Коль помер – богов, а коли жив – то наш, – решил Афонька. – Мертвому помины, живому именины. Айда, ребята, народушко выручать!
Встретились им стрельцы из сильно потрепанных сотен Данилы Селевина и Ивана Суеты.
– Эй, сотники! Куды народ ведете?
– За народом же! – пророкотал Иван Суета. – За помощничками идем.
– И мы с вами!
По дороге и еще кое-кто пристали к шествию. Данила оглянулся, тихонько усмехнувшись в золотые усы. Мыслимо ли было подобное дело два месяца назад?.. О колодниках под Каличьей башней, конечно, многие знали, жалели несчастных, но никто, и он сам, Данила Селевин, не посмел бы нарушить монастырский запрет: «грешникам» и ослушникам «самим богом положено» каяться и томиться, пока не пройдут назначенные им сроки… А ныне никому в голову не пришло усомниться насчет «греха» и запрета – погордел, расправил спину народ.
«Был пуганой, стал вздыманой народ», – повторил про себя Данила любимую мысль Федора Шилова.
Игнашка-просвирник звонко ударил кулаком в железную ржавую дверь.
В решетчатом оконце показалась волосатая опухшая рожа монастырского тюремщика Диомида – и скрылась.
– Наляжем плечиками, братие, – спокойно пробасил Иван Суета.
– А ну-кося! – промолвил Данила Селевин, и оба налегли на тюремную дверь.
Десятки кулаков вышибли двери в подземелье. Через несколько минут всех колодников вывели и вынесли на свет. Их оказалось сорок два человека. Обросшие волосищами, покрытые промозглыми лохмотьями, живые скелеты с землисто-серыми лицами, они почти лежали на руках, плечах и спинах своих освободителей. Полубезумными взглядами, как сквозь сон, который вот-вот прервется, озирали они все вокруг: просторное небо, подъятое густым и чистым пламенем угасающего дня, высокие опорошенные снежком шатры крепостных башен, а пуще всего – людей, множество человеческих лиц, от которых, как от большого костра, шли тепло и свет.
Люди словно воскресали из мертвых, оживая у всех на глазах, среди благоговейного молчания.
– Ослушники безумные! – вдруг хрипло гаркнул одышливый голос, – то соборный старец Макарий, без шапки, в распахнутой шубе, катился на толпу, потряхивая высоко поднятым в руках крестом.
Тимофей, поп-кудряш, совсем без шубы, злобно оскалившись, махал крестом, как палицей.
– Что вы содеяли? Грешников подлых спасаете?
Он хотел было врезаться в живое кольцо, но оно сомкнулось еще теснее вокруг спасенных.
– Братие, братие безумные! Грешникам, богопротивцам волю дали?
– Они перед народом не грешны! – сказал Данила Селевин, и десятки голосов один за другим вспыхнули, взорвались, как порох от искры:
– Людей живьем в могилу кладете?








