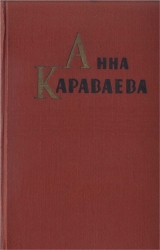
Текст книги "Собрание сочинений. Том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице"
Автор книги: Анна Караваева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 34 страниц)
В Орехове баб зовут по именам мужей: Мареиха, Сергеиха, Петреиха… Ореховские мужики, как и многие другие, бывают дома – случаются такие года – как желанные гости. Конечно, потому на ба́бье, вдовье при живом муже житье ложится имя мужа, как на главу семейства.
Мареиха просыпалась всегда раным-рано. Спешно ополаскивала сморщенное лицо из глиняной носатки, что висела возле крыльца, торопливо крестила давно высохшую на мужичьей работе грудь и шла на сеновал будить девок.
Она ударила жилистым локтем в скрипучую дверь и крикнула:
– Ну-ка-ась! Девки! Вставайте!
За дверью не отозвались. Спали, видно, девки крепко. Мареиха, осердясь, забила кулаками в дверь:
– Вот подлые, прости господи. Вста-ва-ать, чертовки!
Сонный Ксюткин голос протянул сквозь зевок:
– Ну-ну-у… Не реви-и… А-а-а…
– Вставай, ленивушша! Я пойду корове пойла дам. А ты пойди квашню помеси.
Ксюта вяло подняла с пахучего сена свое отяжелевшее тело. Крепко спала, без снов, и просыпаться было все труднее – так бы вот лежала долго, закинув руки на мягком сене, и смотрела бы на голубой клок неба в оконце на крыше, но мать, неугомонная, придет и стащит еще с лесенки.
– Он, ой, – торопливо шепнула Ксюта, разглаживая расползшиеся вширь бока. С сожалеющим вздохом оглядела себя: живот стал тугой, как кочан осенний, выпятился вперед, вздуло груди, а вчера в ручье солнечном видела Ксюта отражение своего лица с отекшими щеками и поблекшим румянцем. Глядя на свой высокий живот, прошептала раздумчиво:
– Видно, парня рожу.
Она совестилась матери и потому с утра туго-натуго обертывала вокруг себя полотенце, морщась от боли и жалобно охая. Но крепче всего Ксюту тревожила мысль: вдруг поп приедет скоро. Ездят больше попы из Бийска, горластые, жадные до сборов. И страшнее всего – за «грех» заставят деньги платить. А откуда их возьмешь, деньги-то? Только бы поп дольше не приехал.
Ксюта встряхнула толстой свалявшейся косой, отгоняя тревожные мысли. Затянулась полотенцем, потом тихонько начала спускаться с лесенки.
Мареиха вышла за плетень на поскотину, где две круглобокие большемордые коровы замычали ей навстречу.
Старуха поставила подойник и хотела было взяться за розовые набухшие коровьи соски, как вдруг увидела на пригорке у леса яркое пятно – это бежала по тропке младшая дочка Феня. Мать мигом узнала ее синий сарафан с красными полосами на подоле.
Мареиха пожевала губами, нахмурила седые брови и сердито дернула вымя.
– Пог-годи, я те зада-ам… Ишь… в новехоньку празднишну одежу вздумала оболокнуться, – нанося!
Девок своих Мареиха никогда не стесняла. К вечеру, как только поползут тени от крыш по дороге, девки кончали работу по дому и шли вместе с другими на берег Бии, где на высоком нагорье шумит кедровыми верхушками густой пахучий бор. Ничего удивительного не было в том, что Феня домой вернулась на утре, Мареиху рассердило, что дочь надела новый сарафан – дочь не должна была трепать по лесу плоды долгой любовной старухиной работы на тряских «краснах» в углу низкой избы.
Феня шла домой задами. Уже слышны были ее шаги между кустами и хруст веток под тяжелым, плотным подолом синей полушерстины.
Еле успела Феня перелезть через плетень, как старуха сгребла у нее с головы платок.
– Чо… пакостница-а?.. богата стала? Кто по лесам празднншну одежу таскат? Кто-о? А для чо бусы надела?
У Мареихи бешено заколотилось сердце от обиды, она дала дочери такого подзатыльника, что Федосья еле-еле устояла на ногах.
Опомнясь, дочь гневно сверкнула темно-карими глазами, поправила заветную драгоценность – мелкие стеклянные бусы на шее – и крикнула звенящим слезами голосом:
– Пока молода да ядрена – вот и праздничай… До твоего доживешь, так ниче не надобно… Чай, я с бережью ношу… Работай, словно кобыла, да ишо и гульнуть нельзя… Тятя так жалобей тебя, чует, как у младости сердце горит… А ты… словно пень-колода!..
Феня дернула плечами и пошла сердито к крыльцу. Мареиха махнула рукой: востроязыка девка, не рад что свяжешься. Да ведь и то, у девок слободских, как придут настоящие года, так и горе: и выдал бы замуж, а работа как? В свекрову семью прибыль, а от своей убыль горькая.
Мареиха полезла руками под брюхо коровы. Привычно тянули пальцы тугое вымя. Певуче цыркало молоко в подойник.
Солнце поднялось выше над нагорными лугами, припекало спину, и старые кости будто выпрямлялись от тепла.
Доила тетка Мареиха не торопясь и по привычке давней говорила сама с собой:
– И пошто ты незадачливый такой, старик, а? Вон люди, которые с передыхом работают… Повозит уголь куда, бревна и опять, глядишь, дома… А вот ты, Мареюшко, всее-то зимыньку да и весну прихватил… Уж так бы оно лучше было все: помытарил бы, помытарил, да и опять дома, хоть бы на малый срок… А тут вот управляйся одни, бабьей силой… Ох, старик, старик! Поди, обовшивел весь, грязной, рубахи некому помыть… Живем, Мареюшко, тяготу маем, когда и конец…
Молоко тоненькой струйкой текло в подойник. Корова стояла тихо, будто слушая привычные утренние жалобы. Старуха же качала головой в линялом ветхом повойнике и изливала душу в утренней тишине.
Со двора закричала резко Феня:
– Мамынька! Беги сюда, с Ксюткой неладно-о!
Старуха схватила подойник и побежала в избу.
Возле лавки лежала на боку Ксюта. Она не успела домесить квашню, как тяжело упала на бок, подвернув под себя босую ногу. Размоталось полотенце, под которым Ксюта спрятала тело, несущее в себе новую жизнь.
Старуха сжала губы:
– Туды ж, как люди!
Сдернула тряпицу с пучков дикой мяты в углу, выдернула один пучок, смяла, натерла себе ладони и крепко прижала их к носу Ксюты. Без злобы и удивления глядела на большой дочернин живот, на синяки под глазами. Спокойно и сурово держала голову со спутанной косой на коленях и терла ладонью под носом.
– Ну-ну!.. Будя-я! Вставай, девка, очухайся!
Ксюта чихнула и открыла осоловелые, тусклые глаза. Вмиг опомнилась, вспыхнула, жалко улыбнулась, закрыв себя руками.
Старуха обернула голову к Федосье.
– Выдь-ко. Выдь. Ну!
Феня вышла.
Мареиха молча подняла большое, тучное тело Ксюты и хмуро сказала:
– Подь, отлежися.
Ксюта громко сглотнула слезы.
– Мамонька-а… грешна-а…
Старуха присела на край кровати.
– Кто бает – не грешна? Доброго, девка, мало. Неужто, думаешь, я брюхов-то твоих не вижу? А? Давно вижу. Гляди, скоро опрастываться надо. Кто дал? От Ивана, поди?
Дочь ответила еле слышно:
– От кого же ишо?
– Чо Иван-то бает?
Ксюта блеснула глазами.
– А чо? Ра-ад! Бает: мальчонку приноси, работника будем растить…
Старуха вдруг вскипела:
– Ишь ты! Кому этта работник-от? Ивану? Чай, твое брюхо выносило, так и наш парень, а не Иванов! Годкам к десяти могет лошаденку в поле свести, коров попасти… К шашнадцати годкам, глядишь, в наряд заместо деда поедет… Отдохнет тогда Мареюшко. Ужли до седьмого десятку Марею не дожить? До-живе-ет! Господь с им, уезживают ево, а все старик крепок… Гляди, Ксюта, нам тоже парня надо, деду помощника…
– Слышь, а как Иван себе сыночка запросит?
– О… о… Кукиш ему на сковороде покажу!.. Наш хлеб ешь, а не Иванов…
Стояла за окном нежащая вешняя теплынь. Обе женщины глядели рассеянно на сияющие перья мелких облаков в голубом небе и вели тихий разговор о будущем ребенке.
На сеновале же металась Феня. Ломала сильные смуглые пальцы, зарываясь головой в сено, стонала, вздыхала прерывисто:
– О-о… батюшки! Горемышная!..
Сегодня впервые не Лешка удерживал ее в кедровом бору, а она, Феня, певунья, хохотунья, удерживала Лешку – был он сегодня сумрачен и не ласков.
Весь день Феня ходила по пашне, наваливаясь высокой грудью на соху и ударяя хворостиной по крутозадой лошаденке. Не прикоснулась к хлебу, только много раз сворачивала на тропку вниз, к ручью, пила горстями льдистую воду, раздувая ноздри и глубоко дыша, как красивый зверь, усталый от погони.
Еле дождалась вечера. Задами, через плетни и закуты, Феня побежала к Лешкину двору. Лешку уследила в огороде. Мотая светлыми волосами и топыря верхнюю пушистую губу, Лешка выправлял на камне старый гвоздь.
Она позвала из-за плетня горячим шепотом:
– Лешенька-а! Родно-ой!.. Лешка-а, сокол!..
Нахмурясь, он посмотрел в ее зовущие глаза.
– Ну?
Феня умоляюще зашептала:
– Лешка-а… сердце болит! Поспрошать те хочу…
– Поспроша-ать?.. Н-ну, так ступай в кедровник – тамо жди…
Буйно колотилось сердце у Фени, пока она прислушивалась к каждому хрусту. Придет ли?
Пришел Лешка вразвалку, насупленный, неразговорчивый.
– Лешенька-а… Да не могу ж я! Аль опостылела тебе вовсе?
Он мял в руках баранью шапку и начал недовольно, отводя глаза:
– Вишь, како дело. Мать жениться велит… Шш… Стой, сто-ой! Не таращись! Ну, жениться… Больно, бает, долго отец-то твой не едет.
– Да пожди, пожди!.. Будет он скоро!
– Э… чо ждать? Самому мне, девонька, надоело таючись с тобой. Мать-то ведь меня уж сговорила, слышь… Сирота тут в соседней слободке, как есть кругла сирота у мужика одного работничат. Девка работящая, здоровая, хоть куды… Зимусь-то матери прясть помогала.
– Аринка? Белоглазая?.. Она?..
Феня вдруг встряхнула его за плечи, взвизгнула, но он сбросил ее руки.
– Кака она белоглазая? На лицо неплоха. А нравом, мать бает, хороша.
Феня уже не слушала. Качаясь из стороны в сторону, кричала, запустив пальцы в волосы:
– Ой-ой… горюшко-о!.. Мать твоя ведьма, проклятущая ведьма, смутила тебя, девку подсунула! Под-ло-ой! Со мной целу зимоньку гулял… Кидашь? По материному уговору!.. Попомни! Я… я девку твою… я ее…
И Феня, упав на траву, забилась в тяжком, безумном плаче.
Орехово недаром так прозвано. Места тут для пашни не всегда хороши: лога, выбоины, в низинах толстые слои глины, а чернозем накидан будто насмех, где попало. Зато кедровник – на сотни верст, пожалуй, не сыщешь такого дерева: прямостволое, с раскидистой пышной хвоей, а среди смолистых его ветвей крупные шишки, с малую баранью голову, и вызревает в них сладкий кедровый орех. До глубокой осени вывозят из бора возы с шишками. Бойкие торгаши наезжают из города к бору обдирать пахучий, отягощенный ореховыми плодами кедровый бор на веселой реке Бие.
Поэтому заводятся деньжата у ореховцев только к осени. Конечно, цен ореховцы не знают: сколько кладут на твердую темную ладонь бойкие бийские и барнаульские торгаши, столько и принимают, даже в рядку не пускаются – ведь орехи-то в город везти все равно некому.
Осенью же играли и свадьбы, правда, редкие. В Орехове выдавали девок замуж только те, у кого, кроме девок, есть сыновья. Бессыновные же девок дома держали крепко. Но уж так велось в Орехове, что девки без поповского венца замуж выходили. Зазора же горького не видели в том, что в семье возле бабок и дедок вертелось голопузое ребятье, ореховских девок «пригулки».
В Орехове сорок дворов. Рос поселок тихо – немногих могла удержать тут на себе скудная, неудобная пахота.
Кажется, никто так не жалобился на жизнь в Орехове, как Лешкина мать, высокая, тощая Терентьевна. Были они с мужем новоселы, беглецы из-под Казани. Вывезла Терентьевна из родного села лютую злобу к барину-графу и смиренную любовь к благолепной сельской церковке, где венчалась когда-то степенной красивой девкой, где крестила Лешку. В родном селе привыкла и в горькой доле выполнять истово все крестьянские обычаи. Тосковала Терентьевна обо всем: о девичьих посиделках, о сговорах, о свадьбах с причитаниями, плясом и заказными песнями. Овдовела она рано, оттого была всегда хмурой, всех пересуживала, а девок ореховских прямо возненавидела.
Сироту Аринку, тихую нравом, проворную пряху, облюбовала себе в снохи. Сыну проходу не давала рассказами об Аринке, а в Мареевой Федосье находила изъян за изъяном, Лешка сначала ругался, но мать была властна, и ее неторопливые, ядовитые речи были сильнее Лешкина задора. Опять же и то надо было посчитать: Мареиха без мужа Федосью не выдаст никак, а Аринку получить к страде удобно как раз, да и собой девка свежая, как морковка, слова не скажет против, на работу ловка, да и утайки с женой венчанной уже не будет.
– Все изладим, сынок, по чину. Научу девчонок песням, причитаньям. Охота сделать по-людски. Народ-то здесь дикой… Вот батюшек дождемся, поди, скореича приедут, дойдет и до нас черед.
Лешка смирился, стал избегать Федосью.
Нагрянули вдруг дожди. Ореховские курные избенки нахохлились низкими крышами и подслеповатыми оконцами, где промытый бычий пузырь отсыревал, темнел, и оконца походили на большие унылые бельма.
Феня осунулась, пожелтела, запали глаза. Ее грызла тоска, как неуловимая пронырливая мышь. Ничего не видала Феня за свои семнадцать лет, кроме мужичьей работы по дому да Лешки, светловолосого, широкоплечего, с искристыми его глазами и крепкой обнимкой. Мир был в Орехове, а жизнь – в Лешке.
Феня трепала прошлогоднюю куделю и, зло сжимая малиновые губы, посматривала на старшую сестру. Зависть обжигала сердце Фени: вон какая стала Ксюта – рыхлая, ходит вперевалку, как утка, а вот поди ж ты, Иван ее любит, и видятся они каждый день. А вот Феня не нашла себе доброй судьбы. Если бы не сидели у стола мать с сестрой да не валялся бы на печи брат Сергунька, несчастный калека, – так и каталась бы Феня по полу, с воем рвала бы на себе волосы, кричала бы истошно, чтобы оглохнуть, устать до одури, забыть бы горе и обиды.
Ксюта вечером забралась с Иваном в дальний угол сеновала. Тесно прижавшись друг к другу, лежали они, почти не двигаясь, говорили теплым шепотом:
– Чай, Ксютушка, скоро принесешь?
– Ох! Гляди, скоро… Господи батюшко…
– Ты что?
– Только бы попы не приехали… Боюся я попов-то. Ежели опять приедет горластый-то, тот… поп Ананей… то-то шуму наведет… Учнет баять… пошто не венчаны…
– Так мы рази с радости не венчаны? Твоей матке не с голоду ж помирать, а моя старуха вот как те примет!
– А от начальства-то бумажину большущую как опять учнет поп вычитывать… тогда как? Боюсь я, Вань, бумажины-то! Там велено девкам венчаться, а кто с пригулками, то страх платят. А и где страх-то возьмешь, Ванюшко? Чай, ведь все орешны деньги за страх отдашь.
– Дьяволы!.. Мало ишо в пасть им прет…
– Запамятовал аль нет, как у Паньки Крюковой всю зимоньку тятька в остроге в Барнауле сидел – страху поповского заплатить не мог.
Иван вдруг крепко обнял ее.
– Ну, Ксютушка, будя… Может, не приедут дьяволы долгогривые, пасти широкие… Чо умом-то раскидывать? Бро-ось.
Она посмотрела в его улыбающиеся голубые глаза, на худощавое лицо в веснушках и затихла, слушая его ровный голос.
– Мы с маткой моей надумали: уж ежели дядя Марей долго не придет, дак вместе нам всем сойтись, за один, знамо, кусок сести… Твоя матка вроде как вдовуха завсегда, моя и вовсе вдовуха… Изба у нас большая, всем места хватит. Ты хозяюшка станешь, старушням в задор не от чего входить… Тогда и Федосья взамуж смогет пойти.
Иван прижал к себе осторожно ее отяжелевшее тело.
– Гляди, я мальчонка жду… Станем работника растить. Пусть баской растет, все равно как ты.
Но, опять что-то вспомнив, она посмотрела на него потемневшим взглядом и боязливо заговорила:
– Иду, знашь, я даве к колодцу… Гляжу – Игнашка Лисягин идет, орехи щелкает… Ишь, бает, кака ты жирна стала… Отколь бог прибыль дал?.. Вот батюшки приедут, так покажут те, как в кедровнике с парнями спать… А я ему плюнула в харю: нету, мол, твоих делов, с кем я сплю, постылый!
– У, старостино отродье!.. Он этак-то и для меня указку ладит. Забыл, подлой, как ему бока зимой намял. Думат, тятька старшина, так ему палец в зубы суй для потехи.
– Уж и вязался он ко мне, Ванюшка! А сам-то слюнявой да рыжой-то. А тятька-то у него ябеда, да и он сам горазд… ой, я его испужалась…
– Да ну его! Чай, ты не одна, а со мной… А у меня ведь кулак-то доброй. Давай лучше парню имечко надумывать, – успокаивал ее Иван.
По соломе крыши глухо и лениво дохлестывал дождь. В широкие щели стены уже виднелось серое, встрепанное от мокрых туч, робкое голубеющее в просветах небо.
А по угорьям, перекатываясь из лога в лог, ехали на тряских подводах поп Ананий, дьячок да двое солдат из Бийской крепости.
Поп Ананий, грузный, чернобородый, шмыгал и подсвистывал большим сизым носом, толстым внизу, как груша. Волосатыми, пухлыми руками поддерживая жирное свое брюхо, поп охал, иногда крестился и согнутым крепким пальцем тыкал в спину возницу.
– Ну-ко, ну-ко, не вывали!.. У-ух!.. Святители… чуть язык не откусил!.. Гляди пуще, где дорога прямей. Ме-р-за-вец народ! Господи, прости мя грешного, не наказуй мя болестью… аще ни дня ни ча… Стой, чер-рт! Ку-да несешься?
Лошади круто вынесли из лога и поехали спокойнее. Поп же все еще бережно поддерживал ладонями брюхо, страдальчески морща мясистый нос.
– О-о… Езди-кась вот тут по душам человеческим, спасай их, аспидов и грубиянов, аки вепри и тигры… Обессилел я от сего мученья: ездишь-ездишь, яко обреченный, а тебя даже ни единая душа светлым оком не встречает… Сколь темен и беспросветен народ наш… Дай-ка, Дормидоша, хлебнуть.
Дьячок Дормидонт, поднимая острый, будто всегда вынюхивающий нос и осклабив бледные десны, подносил к поповскому обросшему бородищей рту дорожную флягу с анисовкой и тихонько чавкал при каждом глотке попа Анания. Потом хихикнул, поглаживая короткое горлышко пузатой фляги:
– И-хи-хи-и!.. Отец Ананий, чтой-то у меня к сердцу подступает… Сосет будто тоска… Очень уж ныне грязь большая, отец Ананий, так затуманило мне очеса… И аз, раб грешной, молю: да коснется влага сия опаленных уст моих… А… отец Ананий!..
И скорчил уморную рожу.
– Будь ты проклят! – весело прыснул поп и ткнул ему в оскаленные зубы флягу.
Позади же лениво переговаривались солдаты, толкаясь друг в дружку:
– Житье попам! Нальется сам и грехи тут же отпустит. Ишь, пьет, не подавится.
– Езди вот с им, с чертом носатым! Хоть бы глотнуть дал!
– Где тут даст? Вишь дьячонок и тот по-собачьи просит.
Подводы по ступицы хлюпали в черной грязи низины. Лошади мотали замызганными гривами. Визгливо потенькивали бубенцы.
В Орехово приехал поп Ананий поздно вечером и встал на ночлег у Лисягина. Поп захлебисто храпел на чистой холстине, услужливо наброшенной Лисягиным на свежее сено. Спал сладко Дормидонт, блаженно полуоткрыв рот. Спали в сенцах солдаты, почесываясь от невыживаемых из рубах и штанов упрямых армейских вшей.
А Лисягин Игнашка ходил по поселку и орал во все окна:
– Батюшко-о приехал!
Возле Мареевой избы приостановился, разодрал мокрогубый рот и, брызгая слюной, хохочуще забасил:
– Накатили поп-ы-ы со дьячками, со солдата-ми-и!.. Пошто-о гулялися? Пошто-о не венчалися-я-я? Сымайте рубахи и платите-е страхи-и-и!..
Игнашка не успел зайти за угол, как две цепких руки схватили его за плечи. Луна осветила бледное, подергивающееся лицо старой Мареихи.
– Ты… ты… што мелешь, озорной?
Он хохотнул ей в лицо:
– Да уж поп вот у нас дрыхнет! И солдатни двое прикатило.
И пошел Игнашка барабанить дальше палкой по стенам темных изб, баламутя душный избяной сон.
Мареиха же, не чуя ног, кинулась назад в избу.
Ксюта забилась в угол.
– О-о-о, господи-и… Мамынька… бумажины я боюся. Наложут, как на Паньку о прошлый год.
– И-и-и, не болтай зря! Тогда, значит, коровешку отдай. И-и, не бай зря, девка!
Из огромного враждебного мира накатила гроза и нависла над головой. Мареиха и Ксюта всю ночь не сомкнули глаз.
Утром дьячок Дормидонт обегал многие избы, собирая холсты.
– Разве ж возможно сие, чтоб богослуженье на голой земле и на голом чурбане производить? Устилать надобно – то богу угодно!
Ему отказывали, но он не уходил, хихикал, угрожал, зубоскалил. Бабы хмуро совали ему в потные руки трубки холста.
– Не принесешь ведь, выжига… Холст-от остан-ной тянете!
– Для бога-господа, тетушка! Спаси тя Христос! Яичек-то не запамятуй сготовить на послеисповедь да маслица… Дашь благословись.
От него отмахивались, как от поганой мухи:
– Готовишь уж хайло-то… Поди, поди!
Но Дормидонт хорошо знал алтайского заводского мужика в бесцерковиых селах, привык зубоскалить в ответ на неласковые окрики сельчан.
– Ты на меня не больно, тетушка! Худ я, аль хорош, а токмо мой язык божьи, ангельски словеса выговаривает. А твой язык всегда одно житейское мелет. Вот помрешь, так муку за сие словоблудие потерпишь, станешь в аду перед князем тьмы денно и нощно на голове ходить, а под оной уголья каленые насыпаны, а сатана на тебя: р-р-р!.. Охо-хо!
Дормидонт строил страшную рожу и рычал. Жмурилась невольно и бледнела баба, совала скорей свою долю холста, а Дормидонт кланялся низко и фыркал в полу.
За деревней, на песчаном пригорочке, разостлали холсты, поставили стол с чашей.
Поп Ананий, всовывая лохматую голову в епитрахиль, спросил густым басом у вертлявого старичонки Лисягина:
– Народ-то тут весь? Мало што-то!
– Не радеют, отец Ананий.
– А ну-ко, служивой, дерни, протруби.
Солдат приставил к губам старую помятую медную трубу, и визгливо-стонущий звук прокатился над поселком.
Бежал народ отовсюду, а старичье, с испугу тыкая как попало палкой, шлепало по грязи, нашептывая что-то беззубыми ртами.
Стояли молчаливым кругом, обступив песчаный холмик. Тоненькие желтые свечки чаши горели бледным, немощным светом. Ударяло солнце в лысеющий красный лоб попа Анания, в грязный парчовый лоскут епитрахили. Дормидонт вскруживал кадило. Сизый дымок взвивался невысоко над головами и тут же пропадал в солнечном голубом воздухе.
Поп служил обедню, заплывшими глазами грозно разглядывал напряженно застывшие лица. Пронзительно запевал «Херувимскую», «Достойно» и «Отче наш», громко выкрикивал ектении, – боек и страшен был поп Ананий.
Стояли понуро ореховские девахи. Приезд попа всегда был ушатом ледяной воды, что выплескивался наотмашь на горячие от вешнего похмелья головы. Не одна пара глаз украдкой взглядывала на щуплого старичонку Лисягина, что подсыпал в кадило ладан, кривил загадочной улыбкой свое хитрое лицо. Чуяли девахи, что Лисягин-ябеда нашептывает попу на всех, кому охота ему отомстить. Игнашку Лисягина поколачивали парни, отца же боялись трогать – правая рука у попа, известен начальству, за каждый синяк на нем пришлось бы дорого платить высидкой в остроге, «где клопы да мыши живьем человека сжирают, а бьют два раза на дню – в обед да в ужин».
В ужасной смуте душевной крестились девахи и складывали в голове корявые, неуклюжие молитвы, чтобы «лопнул скорее собака Лисягин», чтобы «господь-бог послал бы ему окочуриться», чтобы «Игнашке-охальнику башку кто бы свернул», и это была самая искренняя и горячая молитва.
Старухи, бабки древние, те, пожалуй, и рады бы о грехах помолиться, да никогда не приезжали попы с добром, а напротив – пугливая тишь охватывала весь поселок. Старухи слушали загадочные, полные тайны слова, вдыхали приторно-сладкий ладанный дух и крестились сокрушенно, не чуя легкости и умиления.
Отслужил поп и панихиду по всем умершим за год. Громовым голосом корил ореховцев, зачем не построят церквушки – «для бога жертвы и жилища». Сердито кропил склоненные головы и, не кончив кропить, повелительно сказал, что за обедню и панихиду следует по яйцу с человека и по пригоршне масла.
Бабы же тянули головы вверх, перешептывались, считали холсты: их было настелено едва половина!
Непостеленные, ясное дело, пойдут попу и дьячку, а эти грязные поп отдаст Лисягиным: то-то у них рубах много да полотенец!
После панихиды поп строго затряс пальцем и приказал нести все в лисягинский двор, где после обеда будет он, поп Ананий, всех исповедовать. Дьячок Дормидонт, мотаясь в разные стороны поджарым телом в залощенном подряснике, кричал:
– А за исповеданье грехов каждый принеси по куску доброй солонины с ладонь мужичью, или тож по яйцу, или по пригоршне масл-а-а!.. Всегда ныне и присно и во веки веков!
Поп, снимая епитрахиль, басовито кончил:
– Аминь!
После исповеди и проповеди попа вздыхали ореховцы вольнее – ведь страшное самое прошло. Ежели быть сраму, так он уж прошел, только знай суй попу деньги, сколько назначит.
Тишина такая настала в поселке, будто и собаки боялись тявкнуть. Присмирело ребятье, попряталось по дворам возле матерей.
Робко шушукаясь, шли в лисягинский двор девчонки недоростки. Нехотя спокойно шагали девки, еще не сведавшие прелести ночной в кедровнике. Заплетающимся шагом несли свое полное жизни тело мужние девки, как говорилось по-ореховски.
Старичье, баб, всех недоростков и обычно парней спрашивал поп скоро и рассеянно, смотря только за тем, чтобы все складывали в наготовленные посудины масло, яйца и солонину. Если масло казалось на вид сомнительным, поп пробовал тут же, прерывал исповедь, крича: «Горькое, язви!» – и отправлял исповедника назад, приказывая:
– Перед очеса господни надо с добром приходить, без обмана. Ворочайся да свежего неси, а то… анафема!
К некоторым же девкам и парням поп Ананий был ныне просто свиреп, к девкам особенно. Глядел пронзительно, щупал, давил живот и бока, гремел, тряся трехперстием:
– С кем блудила-а? Разврат перед господом и начальством. Штраф плати, мзду богу своему за грех содеянный!
Тут же записывал имя и отпускал.
А в чулашке сидели, давясь от смеха, Игнашка Лисягин и дьячок Дормидонт.
Иван встретил Ксюту на улице. Шла она понурясь, стыдливо пряча большой живот под узелком с дарами попу за требу. Иван протянул к ней руки.
– Ксютушка…
Она отмахнулась, пугливо сверкнув глазами, и пошла быстрее, насильно прямясь и как-то жалостно вздергивая плечами.
С исповеди пришла изжелта-бледная, измученная стыдом от прикосновения поповских рук, от зазорных вопросов, от гремучего, грозного голоса. Пришла и повалилась на лавку.
– Платить надобно, мамонька-а… Я баю: свенчай нас, батюшко-о, а он: все едино, блуд сие… для покаянья души должно на молитву дать…
– Не дам! – взвизгнула вдруг Мареиха. – Коровешку, останное добро, не дам… На одежу на зиму отколе взять? Не дам!..
– Он и баял: у вас, бает, две коровы… Вот грех и прикроется-де… Коровешка-де первотелок… цена ей-де малая…
Мареиха топала деревянными чоботами и визжала, даже вся вспотев:
– Не дам, не дам!
Феня пришла с исповеди почти спокойная, ее поп отпустил скоро. Загоревшись злым румянцем, она корила старшую сестру:
– Во-от! Наблудила, а за тебя, язва, ходи без одежи!
– О, господи-и, – беспомощно стонала Ксюта.
Утром опять прокатился ухающий рокот солдатской трубы. Поп зазывал на проповедь.
Воздевая волосатые руки к небу, поп говорил-говорил, колебля гремучий голос заученной дрожью сухой слезы. Дьячок Дормидонт шмыгал носом и по временам дурашливо-истово крестил прыщавый лоб. Ореховцы прикладывались к темному, зацелованному кресту бесчувственными губами, ибо видели вылезающую из поповского кармана белую упругую трубку казенной бумаги.
Поп крякнул, с сухим шелестом развернул бумагу и начал вычитывать приказ от главного начальства Колывано-Воскресенских заводов.
Резали глаза ярко-красные нашлепки больших конторских печатей. Перешептывалась молодежь.
– Будто куски мяса окровелые присохли-и!..
Поп вычитывал неторопливо и четко, выпятив тугое пузо:
– «…а начальствующих всех лиц, буде то большое лицо иль малое, принимать крестьяне заводские с уважением отменным обязаны… а паче всего к отцам духовным с превеликим почтением крестьяне заводские относиться должны…»
Проста в Орехове жизнь. Люди родятся, растут и стареют, как дерево, чтобы потом протянуться в сосновых досках и занять отведенную яму, в низине, под Ореховом, в стороне от дорожной тропы, удобрять собой землю убогого кладбища, где пышный и сочный растет малинник. Мир, который был понятен и близок, – кедровник, пашня, бахчи, где вызревают круглые, сладкие арбузы, солнце, дождь, ветер, молодежные гулянки, веселая река Бия… Если бы не поповские да летом нарядчиковы наезды, если бы не уход мужиков да парней в «заводску повинность» – ничего бы не знали ореховцы о шумном, жадном мире, где живет начальство, дающее в руки попам приказы на белой толстой бумаге с кроваво-красными нашлепками печатей.
Полуоткрыв рот и унимая стук сердца, ореховцы слушали, как торжественно вычитывал поп:
– «…Имея о добром поведении заводских крестьян неусыпное старанье, главная контора Колывано-Воскресенских заводов его императорского величества кабинета сим приказывает…»
Поп поднял палец, оглядел грозно напряженно поднятые головы и опять загудел:
– «…разврат и блуд в молодых крестьянах прекратить. Родителям же девок своих в брачном возрасте на домашности не задерживать, а выдавать замуж, дабы сей позор – детная девка – искоренен был в корне. Девок же, кон, не выходя замуж, зазорным поведением себя заявили, облагать штрафной мздой, смотря по мнению надзирающего отца духовного… Девок же, кои зазорность поведения своего в незамужнем состоянии показали и штраф платить отказались, наказывать оных в назидание духовное плетьми, вреда большого для здоровья не нанося оным девкам, число же плетен по усмотрению…»
Солнце перешло на другую сторону, но обед не в обед, солнце не солнце, – в лисягином дворе рядка с попом.
– Возьми, бать, ягнашку!
– Эко!.. Какой прок от ягнашки?.. На твою девку штрафу пять целковых. Гони телку, и никаких… А ты чо, старушня, бадейку с наперсток несешь?
– Да, ведь, батюшко-о, маслицо-то крупинка от крупинки…
– А по мне хочь какое, цена едина… На трешню, кои на твою девку, в два раза боле надобно. Тащи, тащи, не жмись! Господь пошлет…
– Кабы вот он, царь небесный, вымя другое коровешке дал, а то доится, язва-а рогатая, по кринке, и боле нет ниче…
Сидел поп на крыльце, отдувался от быстрого сердитого разговора. Кто расплачивался, тех отмечал дьячок Дормидонт в «ведомости».
Порой Дормидонт блаженно и дурашно закатывал узенькие глазки под прыщавый лоб; мечтал, как, приехав в Бийск, наденет он, Дормидонт, светло-гороховый сюртучок, цветистый жилет, начистит башмаки, навернет на шею кисейное жабо, напомадит вихор на лбу. И пойдет он, Дормидонт, не в залощенном постылом подряснике, а галантерейным молодым человеком, пойдет пить чай с вареньем к крепостной бригадирше, сметаннобелой, пышнотелой, в волнах розовых ситцев. Брало Дормидонта нетерпение, – скорей бы обнимать хихикающую бригадиршу, скорей бы кончить все в глухом поселке с лохматыми, грязными мужиками. Дьячок топал ногой в рыжем сапоге и покрикивал:
– Ну-ка!.. Не ляпайте зряшных речей… За грехи деньги платют… Чей черед? Не рядись, тетка, не рядись!.. Батюшка по-божески и по начальникову приказу… Ну, проходи, проходи!
Несколько девок, потупясь и жарко вздыхая, поклонились попу до земли… Среди них млела и дрожала Ксюта. Девок было пятеро. Разноголосо, кланяясь с каждым словом, уныло просили:
– Батюшко… нету… нечем страх-то платить… для спасенья души… выпори… сколь положишь… батюшко…
Ксюта, чувствуя, как ломит у ней поясницу, повторяла вслед за другими:








