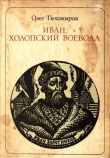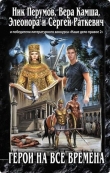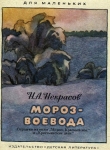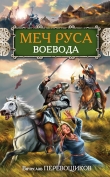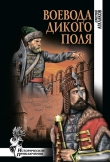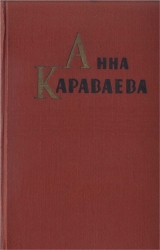
Текст книги "Собрание сочинений. Том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице"
Автор книги: Анна Караваева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 34 страниц)
Многие дети уже спали, лежа на коленях матерей, другие спали на подушках, принесенных из их кроваток. Дети постарше любопытно оглядывались по сторонам, старики дремали, женщины занимались разными мелкими делами: вязали, штопали, некоторые даже вышивали что-то на маленьких ручных пяльцах – в этих залах в тревожные вечерние часы установился даже какой-то своеобразный «лагерный быт», как шутя сказала одна из матерей. Она же поведала мне, что, уходя с ребятишками в метро, она «никаких, бомбежек» не боится:
– Ведь наше метро устроено не как-нибудь, а на совесть!.. Я и мои девочки чувствуем себя здесь, под Охотным рядом, в абсолютной безопасности, да и сидеть здесь совсем ведь не тягостно: чисто, светло.
В тот вечер мне вспомнилось парижское и берлинское метро, услугами которого мне довелось пользоваться летом тридцать пятого года. Уныло-стандартные, все как один, тускло освещенные перроны, узкие коридоры и лестницы, всюду серый камень, теснота и духота с застоявшимися запахами пыли, копоти и еще чего-то, напоминающего не то погреб, не то зеленную лавку, которую плохо содержат. Конечно, наше метро строилось на основе более высокой техники, но не в одной только технике дело. Не знаю, какие именно акционеры строили европейское метро, но убеждена, что стремились они к одному: как можно дешевле построить и как можно скорее и больше получить дивидендов. Серый камень как бы отмечен бездушным расчетом и равнодушием к удобствам людей. В заграничном метро абсолютно невозможно было бы разместиться такому количеству людей, в первую очередь – детей, разместиться с удобствами, в просторных, светлых залах, в чистом воздухе с его совершенной вентиляцией. В заграничном метро люди могут найти убежище главным образом в туннелях с их отвратительным спертым воздухом – едва ли акционеры заботились и в последующие времена об усовершенствованиях вентиляции. А у нас, пережидая часы воздушной тревоги под древней землей Охотного ряда, дети ровно дышали на руках матерей. А матери, большей частью совсем молодые, не спали: делились с соседками своими беспокойными думами о войне, о дорогих и близких, ушедших на фронт, но потом молодость все-таки брала свое. Начинались разговоры о детях, об их характерах, о том, как дети начинали ходить, говорить, как милы и забавны их первые самостоятельные игры и шалости. Одна из матерей, тоненькая, как девочка, с нервным бледным личиком, почти не участвовала в общем разговоре, а то и дело посматривала на своего мальчика лет двух, такого же хрупкого вида, как и она сама. То чуть касаясь губами его лба, то прикладывая ухо к детской грудке, она все заметнее волновалась и, наконец, задрожала, давясь слезами. Соседки принялись ее успокаивать, спрашивая, о чем она так тревожится? Молодая мать ответила, уже громко плача:
– У сыночка, наверно, начинается воспаление легких… слышите, как он хрипит… ах, не надо мне было выходить с ним из дому!..
В эту минуту спокойный, глуховатый голос спросил молодую женщину:
– А почему вы думаете, что у вашего ребенка воспаление легких?
Этот пожилой человек, с бритым актерского вида лицом с обвисшими складками, до этой минуты сидел невдалеке от меня и все время дремал, уронив на грудь крупную голову с седыми висками. Соседи, наверно, уже пригляделись к этой неподвижной согбенной фигуре, и то, что он так быстро проснулся и сразу сумел поймать нить разговора, удивило молодую мать.
– Я врач, – ответил пожилой человек. – У меня уже так уши устроены, что, как бы я ни был утомлен, я сразу слышу, когда говорят о болезнях и когда нужна моя помощь… Разрешите-ка, я осмотрю вашего молодца!
Он вынул из кармана стетоскоп, выстукал малыша и тут же поставил диагноз:
– Успокойтесь, никакого воспаления! Просто задеты немножко голосовые связки. Он пил что-нибудь холодное?
– Да, да… позавчера он, знаете, так хотел пить, что даже капризничал… и я дала ему стаканчик ситро, когда он бегал в садике…
– Ну, вот видите… а мальчик, наверно, был потный!.. Эх, молодые, неопытные мамы, не поддавайтесь капризам деток, следите за их здоровьем!.. Нет, нет, не закутывайте его – здесь отнюдь не холодно. Кончится тревога, вы подниметесь наверх – и простудите его… Э, да наш молодой человек уже опять заснул… не будите его!
Вернувшись на место, пожилой врач беспокойно посмотрел на часы и подосадовал вслух:
– Эх, не успел я до госпиталя добраться!.. Меня раненые мои ждут, да и товарищ не может уйти с дежурства.
Понемногу мы с ним разговорились. Он стал рассказывать о госпитале, о раненых, среди которых, наряду с бойцами и офицерами Красной Армии, есть немало жителей Москвы, пострадавших от фашистских бомб и от пожаров, вызванных «зажигалками».
– Особенно детишек жалко! – говорил мой собеседник, и его печальное, усталое лицо передергивалось от негодования. – Больно смотреть на безвинные страдания взрослого, но ребенок, изувеченный осколком немецкой бомбы… от этого зрелища сердце кровью обливается! Одному первокласснику, моему пациенту, я внушаю: «Петенька, твою бедную ручонку – правую! – изуродовали фашистские стервятники… запомни это на всю жизнь!»
Его голос, выражение лица, взволнованность, с какой он рассказывал об удавшихся и неудачных («уже ничего нельзя было сделать!») хирургических операциях, показывали, что своему труду он страстно предан.
– Можно сказать, что восемьдесят процентов наших воинов снова возвращаются в строй, на фронт – бить, громить немца! Этот факт дает нам, медикам, глубочайшее удовлетворение… И я чувствую себя отомщенным за все мои несчастья!.. Госпиталь, раненые, мой труд для них – это все, что у меня осталось в жизни, – добавил он глухо, и его утомленное, в серых складках лицо опять резко передернулось.
Его история была горестна и обычна в те грозные дни. Три его сына в первые дни войны пошли добровольцами на фронт: средний и младший – летчики, старший – полевой хирург. Летчики погибли в одном воздушном бою, а сын-хирург был смертельно ранен на своем посту во время обстрела полевого госпиталя немецкими самолетами и почти мгновенно умер от страшной потери крови. Не вынеся этих ударов, мать трех сыновей умерла от разрыва сердца.
– Мы жили так прекрасно… и жена моя была совсем не подготовлена к таким переживаниям… Вот, посмотрите… это мы все… снимались за неделю до войны…
Мой собеседник вынул из нагрудного кармана конверт из толстой бумаги и бережно извлек оттуда семейное фото. Муж, полный, представительный, орден Ленина красиво выделяется на лацкане темного костюма, который безукоризненно сидит на его широкоплечей фигуре. Жена, превосходно сохранившаяся, темноволосая и очень моложавая для матери трех взрослых сыновей. А сыновья: красавцы-летчики и старший их брат, похожий на мать, брюнет с серьезным и милым лицом.
Некоторое время сидящие поблизости созерцали это семейное фото, от которого, казалось, так и веяло прочным и глубоким счастьем. А потом мать хрупкого мальчика перевела взгляд с карточки на серое, измученное лицо человека, жизнь которого разбило фашистское нашествие.
– Боже мой… – тихо ужаснулась она. – Как может человек измениться… вот от такого горя люди и умирают… жизнь становится для них невыносимой…
– Нет, я не хочу и думать о смерти, – просто и твердо сказал хирург. – Я мечтаю дожить до того дня, когда мы будем громить фашистских гадов на их земле. Да и разве можно сейчас думать о смерти и призывать ее, спасаясь этим от тягот и горя? Я считаю это бесчестным. Из такого испытания можно с честью выйти только тогда, когда решительно каждый человек со всей страстью выполняет порученное ему родиной дело.
– Нет, я ведь в известном смысле вспомнила о смерти… – смутилась мать хрупкого мальчика. – Я хотела сказать, что человеку иногда невероятно трудно, а ведь он не железный…
– Не железный… – задумчиво повторил хирург, и вдруг его истомленное, бескровное лицо, как зарницей, осветилось упрямой и гневной усмешкой.
– Нет, молодая мамаша, наш советский человек может быть крепче железа!..
Он помолчал, шевеля сивыми хмурыми бровями, и, будто всматриваясь потемневшими глазами в самую глубь своей разбитой жизни, потом повторил медленно и чеканно:
– Наш человек крепче железа!
После желанного слова «отбой» все устремились к эскалаторам. На среднем эскалаторе я увидела хирурга. Он стоял, вскинув кудлатую голову с седыми висками. Его взгляд, устремленный вверх, его лицо, выпрямившаяся фигура, пальцы, непроизвольно отбивающие дробь, – все выражало нетерпение, святое нетерпение труженика, для которого любимый труд не только главный смысл жизни, но и неиссякаемый источник нравственной силы.
Я вышла на улицу, историей которой я занималась много дней. Теперь я видела ее в грознейшие дни истории нашего государства. Улица моя стояла строгая и спокойная, как будто множество людей, которые, подобно старому хирургу, поклялись быть «крепче железа», оставляли здесь частицу своей мужественной души. Наша новая Охотная улица, созданная советской эпохой, в тот вечер показалась мне сурово прекрасной. Густо-зеленое небо с крупными редкими звездами, словно огромный шатер из тяжелой парчи, раскинулось над многоэтажными массивами домов. Асфальт чернел внизу, как плотный бархатный ковер, и, казалось, таким же бархатом завешены широкие прямоугольники окон, чтобы ни одна искра не пробилась наружу. Мне представилось в те минуты, какая напряженная трудовая жизнь идет за всеми занавешенными окнами, жизнь, устремленная к свету, наперекор смерти и тьме, которую привело с собой проклятое нашествие. Новая наша улица была строга, спокойна и даже торжественна, как будто ее многоэтажные дома, словно живые, безмолвно обещали: «Выстоим!» Мне вспомнился хирург и весь разговор с ним, подумалось, как он теперь спешит к своим раненым, – и вдруг уверенность, что с улицей моей ничего не случится, охватила меня, как теплый ветер весной: да, с моей улицей, в истории которой отразилось столько эпох, ничего, решительно ничего не случится!
Некоторое время спустя была у меня на этой улице новая встреча в те дни, которая запомнилась еще сильнее. И эта вторая встреча также естественно соединилась в моей памяти с историей улицы, выражая ту простую и дорогую мне истину, что история городов есть прежде всего история людей, созидающих их.
Встреча эта произошла на совещании инициативной группы советских женщин по подготовке первого женского антифашистского митинга, который должен был состояться 7 августа 1941 года.
За окном высоко над Москвой угасало золотое небо жаркого дня. Обрывки серо-сизых туч, которые казались зловещими дымами, наплывали с запада, оттуда, где кипели тяжкие, кровопролитные бои с лютым фашистским зверьем. С высоты многоэтажного дома панорама Москвы казалась как бы двусветной: с запада плыли тучи, а на восточной стороне июльское небо еще светилось золотом. Тысячи окон горели рубиново-золотыми огнями, а крыши мягко темнели бархатно-черным, зеленым и красным. Ниже сплошной изумрудной грядой пышнела зелень бульваров. А с запада, под дымно-серыми навесами надвигающегося заката, окна домов словно покрывало свинцом, и все вокруг свинцовело, будто наливаясь гневом. В те дни привычный московский пейзаж воспринимался волнующе и остро.
Обозревая его, я не сразу заметила, что у соседнею окна стоит женщина в военной форме. Я увидела Марину Раскову. Наши взгляды встретились. Сощурясь, очевидно припоминая что-то, она сказала с серьезной улыбкой:
– За это время все так осунулись, что не всегда сразу человека узнаешь…
Я напомнила ей о приеме у нас в Союзе писателей в честь первых женщин – Героев Советского Союза, совершивших перелет на стальной птице «Родина». Лицо Марины Расковой просветлело, в глазах сверкнули теплые искорки.
– Да, помню, конечно, помню!.. Мы были в клубе писателей вместе с Полиной… хорошее было время!
Она опять улыбнулась, уже нежно, мечтательно, как улыбаются дети. В ту минуту мне показалось, что в такой улыбке, как эта, глаза Расковой меняются – то они серые, то карие.
– Хорошее было время… да…
Не договорив, она резко отмахнулась, как будто что-то себе запрещая, и ее сразу посуровевшее лицо словно выразило: не к чему сейчас заниматься воспоминаниями.
После совещания мы вышли на улицу вместе. Узнав, что я живу в районе Ленинградского шоссе, Раскова сказала:
– Мне как раз надо заехать в Воздушную академию, я вас подвезу.
Раскова подошла к маленькой машине серого цвета и открыла дверцу.
– А где же ваш шофер? – спросила я.
– Я правлю сама.
Правила она отлично. Ее маленькая машина мягко, словно мышка, скользила среди тяжелых военных грузовиков, «эмок» и «зисов», которые густыми торопливыми потоками катились по широкой, затихающей к ночи улице. Мы поговорили о некоторых вопросах, связанных с подготовкой к митингу, потом разговор перешел на важнейшую тему – о войне. Раскова поинтересовалась, как отражается война на работе Союза писателей, а потом добавила с легкой усмешкой:
– Ведь я и сама немножко литератор!..
До войны в журнале «Знамя» печаталась документальная повесть Марины Расковой, вызвавшая большой и заслуженный интерес в литературных кругах. Я напомнила об этом Расковой. Она опять задумчиво усмехнулась вслух.
– Нет, конечно, я пошутила. Какой я литератор?..
«Записки штурмана» я написала потому, что мной руководило твердое убеждение: пережитое мной – не только мое личное дело. Я считала себя обязанной – морально и профессионально – рассказать новым поколениям советских летчиков об этом не совсем обычном опыте дальних перелетов. Наша профессия летчика, вы представляете, требует, чтобы человек отдался ей весь, без остатка. Надо, чтобы, любя беззаветно свою работу, наш летчик учился всегда, дорожил бы каждой возможностью овладеть новым опытом – ведь известно, что в нашей профессии совершенное знание помогает храбрости.
Мне показалось, что слово «профессия» Раскова употребляет как-то по-своему. Некоторые матери, например, не любят ласкать своих детей в присутствии посторонних людей и даже как бы стесняются показать свою любовь. Признаюсь, такая сдержанность мне кажется более сильным проявлением любви, чем бурное ее изъявление, да еще, как говорится, на людях. Раскова напомнила мне одну из таких строгих, сдержанных матерей: мне казалось, что под суховатым словом «профессия» она открывает глубокую и неистребимую любовь к работе летчика, что есть у нее много задушевных и ярких слов о ней, но она их, может быть, никогда не скажет.
В лунном свете ее лицо казалось бледным и строгим. Руки четко белели на руле машины. По литераторской привычке, еще во время совещания наблюдала я за сменой выражений на лице Марины Расковой. Несмотря на строгую подтянутость военного человека, которая чувствовалась в каждом движении Расковой, ее лицо сохраняло выражение женственной нежности, ясного ума и затаенной грусти. Все это словно таилось в уголках неяркого рта, в глубине глаз красивого разреза, в чистой линии лба, в манере изредка поднимать тонкие длинные брови. Теперь, когда мы сидели в машине, мне бросились в глаза руки Марины Расковой, что белели на руле. Временами она снимала с управления то одну, то другую руку (может быть, привычный рабочий жест?) и тихонько расправляла пальцы. Тогда четко была видна в движении и покое вся рука Расковой, крупноватая для ее роста, рука мужественной и прекрасной формы: длинные, сильные пальцы, гибкая линия ребра ладони под мизинцем и в меру широкая ладонь с мускулистым бугорком под большим пальцем. Мне вдруг представилась эта рука в работе, когда Марина Раскова находится на своем штурманском посту и ведет самолет к цели, спокойная, уверенная, а глаза ее, зоркие и острые глаза женщины-орлицы, властно озирают небо.
Отвечая на вопросы Расковой о Союзе писателей, я рассказала ей о наших писателях-фронтовиках, об участии писателей в работе газет, радио, в агитбригадах Московского комитета партии.
– Это очень хорошо, – одобрила Раскова. – Всюду работа настраивается на военный лад. Вообще, знаете, мы выдержим!
Она сняла руку с управления, разжала и опять сжала пальцы.
– Мы все, все выдержим. Предстоят очень тяжелые испытания, но нас ведет партия. Надо только каждому из нас зарядиться терпением, решимостью и никогда не теряться!
Потом разговор перешел к сводкам Совинформбюро, тяжелым сводкам тех дней.
– Я убеждена, что перелома на фронте и военных успехов на нашей стороне ждать уже не так долго, – сказала Раскова с той же спокойной решительностью.
Она немного помолчала и заговорила опять, но уже тихим, ласковым голосом, как бы обращенным к тому заветному, бесконечно важному, что жило в ее душе.
– Знаете, эта мысль у меня сейчас самая любимая!.. Я начинаю воображать этот день перелома на фронте, когда победа уже краешком завиднеется… и так хорошо делается у меня на душе!..
Раскова вновь помолчала, а потом, круто обернувшись ко мне, спросила:
– Как по-вашему, большие разрушения в Москве?
– Нет, я считаю их незначительными.
Немецкие налеты на Москву, как помнят все, начались с 22 июля 1941 года, месяц спустя после нападения фашистской Германии на Советский Союз. До этой встречи с Мариной Расковой мне пришлось пережить немало неприятных впечатлений, связанных уже с несколькими немецкими бомбежками, принимая во внимание некоторые особенности нашего района, привокзального и индустриального. Об этих часах я и рассказала кое-что Расковой. Как ни тяжело было душевно в эти часы в нашей дворовой траншее или в подъезде дома, простая наблюдательность (которая в те моменты особенно обострялась) показывала людям, что разрушений больших не было. Учитывая фашистскую лютость и ненависть врага к нашей стране, нетрудно было представить, что немецких самолетов летело на Москву во много раз больше, чем то их количество, которое москвичи видели на небе. А видели мы в те тревожные июльские ночи (на нашем участке неба) только единичные фашистские самолеты, которых вылавливали лучи наших прожекторов. А потом мы видели, как в пронзенной огнями вышине металась ядовитая моль, которую наши зенитчики сбрасывали с неба.
– Да, фашистские самолеты прорываются только единицами, потому что вокруг Москвы – целый воздушный фронт! – гордо разъяснила Раскова. – Они там у себя «планируют» (ненависть и презрение зазвенели в ее голосе). Они ведь шлют целые эскадрильи, а наши летчики их перехватывают где-нибудь под Можайском, отгоняют и уничтожают их. Главные воздушные бои кипят на подступах к Москве, и великолепно дерутся наши соколы!.. А как радостно знать это, особенно в такое трудное и грозное время!.. И, знаете, они будут драться так же великолепно, сколько бы еще ни пришлось выдержать им вражеских налетов!..
В ее голосе, полном горячей гордости и уверенности в своих товарищах, каждый расслышал бы еще и ту верную, глубокую любовь к нашей родине, которая воспитывает в человеке твердость и бесстрашие. Впоследствии, уже в конце Великой Отечественной войны, когда мне доводилось слышать рассказы наших летчиков о многих совершенных ими победоносных боях в воздухе, мне всегда вспоминалась Марина Раскова. Мне вспоминалась ее гордая вера в силу души и мастерства наших соколов, вспоминался ее голос, ее лицо в тревожном лунном свете московского вечера сорок первого года.
Было еще светло, когда седьмого августа я подошла к Дому Союзов. На трибуне Колонного зала уже собирались члены президиума первого антифашистского митинга советских женщин. У стола я увидела Марину Раскову. Она читала газету. Гладко причесанные, на прямой ряд, русые волосы, заколотые узлом на затылке, мягко блестели под бриллиантовым светом люстр. Любимый москвичами, известный всей стране и за пределами ее Колонный зал, как всегда, сиял огнями. Вдруг припомнилось мне, сколько исторических событий, сколько деятелей нашей социалистической эпохи видели эти стены, эту чудесную колоннаду, созданную могучим талантом русского зодчего Матвея Казакова!.. Вспомнились дни Первого съезда советских писателей в августе 1934 года, когда с этой трибуны выступал Алексей Максимович Горький. Вспоминалось полное радостного оживления внимание, которое владело в те дни переполненным залом, когда молодая советская литература рапортовала родине и всему миру о своем творческом труде художников слова, новаторов и борцов в искусстве, сынов нашего великого времени. Вспомнилось, как делегации заводов, фабрик, культурных учреждений, как молодые метростроевцы в своей рабочей форме – романтически-широких шлемах и высоких резиновых сапогах – входили в этот зал. Это были еще небывалые в истории мировой литературы встречи художников с массовым читателем, с советским народом – ведь для него, для обогащения его духовной жизни был созван Первый съезд советских писателей.
Вдруг я услышала голос Расковой. Она меня спрашивала о чем-то.
– Простите, я задумалась… – и я рассказала ей о том, что мне вспомнилось. Раскова слушала меня серьезно, чуть прихмуривая тонкую бровь, а потом сказала просто:
– Я, например, стараюсь ни о чем не вспоминать сейчас. – Она положила на стол красивые крупноватые руки. То вжимая в ладонь, то разжимая гибкие сильные пальцы, она продолжала:
– Как бы ни были мы до этого счастливы, вспоминать сейчас о прошлом неразумно – от этого легче не станет.
– «Нет большей скорби, чем вспоминать о днях блаженных в дни несчастий…» – верно? – спросила я.
– «Нет большей скорби…» – и Раскова, повторив фразу, подняла на меня сурово-раздумчивый взгляд. – Чьи это слова?
– Это сказал Данте Алигьери.
– Очень глубокие слова.
Раскова помолчала и, отрицательно покачав головой, промолвила:
– Но одна только скорбь – это застой всех чувств!.. Я даже согласна иногда вспоминать о «днях блаженных» (серьезная улыбка чуть тронула ее губы), но только для того, чтобы еще яростнее ненавидеть врага и еще упорнее бороться с ним!
Вдруг Раскова привстала и, поклонившись кому-то, шепнула мне:
– Долорес Ибаррури.
В тот вечер я впервые увидела Долорес, хотя заочно я знала ее уже несколько лет.
В июне 1935 года, в дни Первого писательского антифашистского конгресса в Париже, я увидела на страницах иллюстрированного журнала чудесный фотопортрет: черные большие глаза женщины смотрели на меня бархатным, глубоким и в то же время искрящимся взглядом, в котором светились ум, доброта, смелость. Красивые брови, прелестный рот, чуть приоткрытый задумчиво-строгой и словно все понимающей улыбкой.
– Какое прелестное лицо! Скажите, кто эта женщина?
– Это Долорес Ибаррури, Пассионария, как зовет ее народ Испании, – ответили мне и кратко рассказали ее историю.
Долорес родилась в семье испанского горняка в 1895 году. С юных лет она узнала нужду и тяжесть подневольного труда. Еще подростком начала она участвовать в борьбе рабочего класса. Сначала Долорес вступила в социалистическую партию Испании, а в 1920 году – в коммунистическую организацию, которая возникла в то время в Мадриде. На съезде испанской компартии в 1929 году Долорес была избрана членом Центрального Комитета, а три года спустя – членом политбюро. В дни героической борьбы испанского народа за свою свободу и независимость имя Долорес Ибаррури для нас, советских людей, стало символом преданности родине, символом неподкупной любви к свободе, символом непримиримой, пламенной ненависти к поработителям, к черным ордам фашизма. Мы знали, что Долорес находится в самой гуще народной борьбы. Мысленно мы видели ее то в Университетском городке, то в Карабанчеле, то в парке Каса де Кампо. Карта Испании словно дымилась перед нами горячей кровью ее верных сынов, которые отдавали жизнь за свободную демократическую Испанскую республику. Имя Долорес Ибаррури, ее слова и призывы звучали, как гордая клятва борца, который умрет, но не сдастся. «Лучше быть вдовой героя, чем женой труса!», «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» Сколько людей повторяли эти слова благоговейно, как клятву.
И вот я увидела Долорес. Я сразу узнала ее: так естественно слилось с действительностью мое представление о Долорес на портрете. Испанка с черными очами, черное платье, строгая плавность движений, черные волосы, посеребренные сединой. Она пожала всем нам руки, глаза ее были серьезны.
Раскова некоторое время смотрела на нее пристальным взглядом потемневших глаз, а потом произнесла тихо, в суровом раздумье, которое было значительно старше ее нежного миловидного лица.
– Сколько пережила эта женщина – хватит на десятки жизней! Так храбро и верно бороться за свою родину – и потерять ее… и знать, что там, в Испании, еще свирепствует фашизм… и тысячи республиканцев казнены или погибают в тюрьмах… А теперь она вместе с нами несет тяготы нашей борьбы… Нам, молодым, бывает трудно, а ей каково все это переживать?.. А молодец она!.. Смотрите, как даже печаль в ней выражена спокойно и даже как-то важно… правда?
Пока Раскова делилась со мной своими наблюдениями, я представляла себе, как и в работе эта женщина-штурман наблюдательна и как умеет делать из этого важные для дела выводы. Конечно, руководить молодыми летчиками можно гораздо успешнее, когда замечаешь настроения человека, его навыки, его характер. Но спросить об этом я не успела – прозвонил звонок председателя, и наша беседа прервалась. Члены президиума начали занимать места за столом.
Я видела профиль Долорес, ее сосредоточенно и строго опущенный взгляд. И за столом президиума она сидела в той же позе – казалось, какие-то горькие и тяжелые думы мучили ее. Но вот произнесена первая речь, в зале гремят аплодисменты. Долорес поднимает голову, брови ее вздрагивают. Глаза ее блеснули, словно невидимая искра зажгла ее взгляд. Она озирает переполненный людьми сияющий огнями Колонный зал, она безошибочно чувствует настроение множества женщин, собравшихся сюда со всех концов затемненной, суровой Москвы. Кивком головы Долорес просит переводчицу сесть к ней поближе и, наклонив голову, внимательно слушает перевод каждой речи. И не только слушает: внимательными, зоркими глазами оглядывает она каждую женщину, поднимающуюся на трибуну, и, как видно, спрашивает, кто это и откуда. В этом зорком внимании Долорес к выступающим на митинге есть что-то от полководца, который, производя смотр боевых сил, словно проникает взором в душу каждого солдата.
– Слово предоставляется товарищу Долорес Ибаррури!
Долорес на трибуне. Молодым, легким движением смуглой руки она оправляет волосы на голубеющем виске. Голова ее чуть откинута назад, черные глаза смотрят вперед открытым и строгим взглядом, который будто говорит всем: «Подумайте, товарищи, в какой грозный и ответственный час мы собрались сюда!» Долорес начинает свою речь негромко и спокойно. Она говорит без жестов, прямая, строгая в своем черном платье. Но вот она слегка качнула головой, брови ее скорбно сжались, она подняла руку скупым, сильным жестом, и голос ее вдруг налился сдержанным упругим звоном. Так звучит туго натянутая струна, когда ее трогает опытная и точная рука, готовя к песне. Долорес говорит по-испански, но притихший зал понимает ее, спаянный общностью великих чувств. Дикция Долорес великолепна, каждое ее слово, произнесенное с безупречной четкостью, полновесно, как литое, и несет в себе завершенную и глубокую мысль. Да, именно эту боевую, взыскующую мысль, которая поднимает в человеке все силы его души, стремится передать своим слушателям Долорес. Она отлично знает, какие горькие заботы, тревоги и душевные муки наполняют в эту минуту сердца сотен женщин, которые сидят в сияющем огнями зале. Да и кому же, как не ей, знать, что значит тревога за судьбу родины?.. Кровь и муки истерзанной, но непокоренной Испании глядели из глаз Долорес, призывая всех матерей и жен советского народа бороться, стоять насмерть в грознейший час истории, чтобы потом не жить на коленях и победить, победить!..
После митинга, когда мы выходили из зала, Раскова показалась мне усталой и болезненно бледной. Вспомнилась ее подъемная, полная благородного гнева речь, зовущая к беспощадной битве с ненавистным врагом и выдержке, выдержке бесстрашных, сознающих свою историческую правоту. Вспомнилось: когда Раскова вернулась на свое место, щеки ее ярко рдели, глаза горели суровым и жарким внутренним огнем, большие, прекрасные глаза. Губы ее чуть-чуть дрожали, будто их жгли еще какие-то невысказанные, призывные, трибунные слова. В ту минуту мне вдруг представилось, что биографии Долорес Ибаррури и Марины Расковой чем-то похожи друг на друга, как сестры в большой семье. Возраст, национальные особенности людей, выросших в разных странах, отдаленных друг от друга тысячами километров – все это не совпадает, но ничто не может помешать силе нравственно-политического единства, которая объединяет и этих двух женщин-борцов. Я не знаю, общалась ли Марина Раскова с Долорес, но взгляд, которым она встретила ее появление на местах президиума, и то, что она говорила о ней и как слушала речь Пассионарии, – все это показывало духовное родство, крепчайшее в мире единство борцов против фашистской чумы. И этот взгляд, горящий вдохновением гнева и ненависти, и этот жарко рдеющий румянец на лице Долорес и Марины Расковой тоже были сродни. Да ведь и Долорес матерински-любовно смотрела на молодую женщину в военной форме со сверкающими на груди орденами.
Теперь, после митинга, смотря на бледное лицо Расковой и на ее потемневшие и словно потухшие глаза, я представляла себе, как глубоко и страстно переживает эта сильная натура все события, связанные с грознейшим моментом в истории нашей родины. Несмотря на считанные минуты, пока мы пробирались к выходу, нетрудно было увидеть и еще одну черту характера Марины Расковой – исключительную собранность всего ее существа. Быстро почувствовав, что все идущие рядом с ней заметили ее бледность, Раскова в какой-то неуловимый момент преобразилась. Легкое движение головой, плечами, и вот глаза ее опять заблестели, разжавшиеся губы чуть улыбались, а на щеках, будто налет теплого ветра, тонко вспыхнул румянец. Кто-то из идущих рядом женщин, назвав Раскову по имени, спросил ее о чем-то. Она ответила звучным спокойным голосом. Мне вдруг представилась Марина Раскова как командир, как старший товарищ – руководитель новых поколений советских летчиков. Вот так же, наверно, в трудный час звучит ее спокойный голос, такое же цепеустремленное оживление на ее лице, тот же скупой, уверенный жест, и та же только нашей советской жизнью созданная обаятельная воля новой прекрасной женственности, совсем иной, чем об этом полагалось судить на протяжении столетий в стихах и поэмах, посвященных слабой и покорной женщине-очаровательнице!