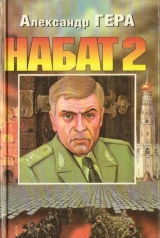
Текст книги "Набат-2"
Автор книги: Александр Гера
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 40 страниц)
Тертоний ввел закутанную до бровей Веронику в опочивальню прокуратора и удалился, едва притушив лишние светильники.
В полумраке она походила на статую грека Праксителя, дышала тайной и красотой непознанного, и Пилату захотелось немедленно узнать, так ли уж хороша она без одежды и правы ли те, кто считает Веронику писаной красавицей. Сестра безумно любила своего несчастного проказника братца, это еще больше разжигало любопытство прокуратора.
– Сбрось покрывало, – приказал он.
– Я не понравлюсь господину, – сказала она.
– Зачем же пришла?
– Просить о милости.
– Сразу догадался. Раздевайся.
Она развела руки в стороны, и тяжелое покрывало соскользнуло с се плеч и свалилось к ногам.
– Великие боги! – воскликнул Пилат и привстал на ложе: прекрасное тело иудейки заканчивалось густой черной порослью на ногах, которая подымалась до пупка. Он хохотал до упаду.
– Как же ты ублажаешь своего братца? – сквозь смех спросил Пилат, рассматривая Веронику с зоологическим интересом.
– Я девственница, господин, – совсем потупилась она.
– И все, что говорят о тебе, – неправда?
– Мой брат мною доволен. Господин может убедиться в этом, я доставляю ему высшее наслаждение, как тому обучены настоящие иудейки.
– И что ты хочешь взамен? – развлекался Пилат. – Освободить братца из заточения? Не смогу этого сделать, сразу говорю.
– Нет, господин. Прошу только свершить казнь над Иисусом Назаретянином.
– А тебе что до этого? – нахмурился Понтий Пилат. – Братец тебя научил или Синедрион послал?
– Нет, господин. Мы цадики, иудейская секта праведников. Назаретянин предал наше учение и подлежит казни. Сделай так, и я доставлю тебе райское наслаждение.
– Не надо, – поморщился Пилат. – Тертоний, уведи…
Тертоний увел рыдающую Веронику, еще больше убедив Пилата оставить Назаретянина в живых.
Заснувшего Пилата что-то коснулось, он вздрогнул и открыл глаза. Фигура, закутанная в накидку до глаз, стояла перед ним. Опять Вероника? Нет, это не женщина…
– Кто ты? – вглядывался во тьму Пилат.
– Не вздумай звать стражу. Я судный ангел и прислан свыше. Не бойся. Я выскажу тебе поручение и удалюсь. У тебя нет выхода. Тиверий только что умер. Калигула зол на тебя и выпустил Агриппу. И ты еще оскорбил Веронику. Ты понимаешь теперь, как усложнилась твоя жизнь?
Пилат лихорадочно соображал, верить ли словам пришельца или считать его приход дурным сном?
– Я не верю твоим словам, – проговорил он.
– Сейчас поверишь, – усмехнулся пришелец.
Неведомая сила приподняла прокуратора над ложем и бросила его тело с высоты двух локтей обратно.
– Убедился?
– Великие боги, – прошептал Пилат.
– Ты готов выслушать распоряжение Всевышнего?
– Да! – не спускал глаз с незнакомца Пилат.
– Ты поступишь разумно. За это Всевышний дарует тебе вечную жизнь. Лишь раз в год ты обязан появляться в окрестностях перевала Сен-Готард и свершать омовение рук в память истинного Иисуса, там он родился. Ты записан в «Книгу Жизни». Ты вечен. А теперь слушай, как поступить. Казнь перенеси на сегодня с утра. В полдень произойдет солнечное затмение. А когда тьма накроет всех, пусть сотник снимет Назаретянина с креста и заменит на разбойника.
– А дальше что делать с ним? – верил и не верил Пилат, но просьба удивительно совпадала с его решением.
– Легионеры уведут его подальше от Иерусалима и отпустят на все четыре стороны. Слушай дальше. Твой доверенные иудейки уложат казненного в гроб, а через некоторое время легионеры выкрадут его из пещеры.
– Но как сделать это? Допустим, подмены не обнаружат, но у пещеры будет множество последователей Назаретянина день и ночь? – сомневался Пилат. – Да простят меня боги…
– Одного хватит, – успокоил незнакомец. – В саду близ Голгофы есть пещера с двумя выходами. Один тайный. Через него солдаты вынесут тело. Выполняй.
Едва дышащие светильники всколыхнулись и погасли. Пилат так и не понял, привиделось ему или случилось на самом деле…
Кромешная тьма стеснила Иерусалим. Сквозь тюремную стену, не отличимую от мрака, в узилище Назаретянина проник кто-то и стал напротив.
– Кто ты? – испугался он. – Ты посланник отца моего небесного или дьявола?
– Перестань молоть чепуху. У Всевышнего не может быть детей. Но за упорство твое Он дает тебе жизнь. Я ангел-искуситель, иди за мной… – Он взял Назаретянина за руку и провел мимо спящей и бодрствующей стражи на улицу, где сказал ему: – Иди отсюда и никогда больше не выдавай себя за сына Всевышнего.
Пробуждение Пилата было еще непонятнее, чем ночь.
Неожиданно явился центурион:
– Славный Пилат, твой человек выпустил Назаретянина, даже мы не заметили, а он снова явился в тюрьму.
– Вот упертый! – досадовал прокуратор. – Спрячь его, пока все уляжется.
– Невозможно. Евреи не спускают с него глаз.
– Тогда веди! – махнул рукой Пилат. – Я умываю руки. Сделай подмену в полдень, – решил он следовать знакомому сценарию. Из Рима не было вестей о смерти Тиверия.
Все произошло как по писаному. Назаретянин понес свой крест на Голгофу с растерянным лицом, там его под гомон и улюлюканье толпы прибили гвоздями к кресту и вздыбили.
– Почему я не послушал Тебя? – прошептал он и испустил дух.
Прокуратор Пилат наблюдал за казиыо Назаретянина, но больше выискивал в толпе кого-то.
Ему повезло. За минуту до затмения он отыскал таинственного посланника по горящему взору. Они обменялись понимающими взглядами, и Пилат опустил виновато голову, а когда поднял, не увидел уже посланника. Лишь лиловый с фиолетовой подпалиной смерч несся прочь от Голгофы.
– Я умываю руки, – прошептал Понтий Пилат.
– А ты заслужил моей благодарности, – услышал голос Судских.
– Я виноват, – винился Судских. – Свершилось все против моей воли. Ты опять отправишь меня в небытие.
– Свершилось все по моей воле. Это главное. Проси что хочешь, – умиротворенно ответил голос, но Судских был скромен:
– Газировочки бы…
– Кто ты? – вглядывался во тьму Пилат.
– Не вздумай звать стражу. Я судный ангел и прислан свыше. Не бойся. Я выскажу тебе поручение и удалюсь. У тебя нет выхода. Тиверий только что умер. Калигула зол на тебя и выпустил Агриппу. И ты еще оскорбил Веронику. Ты понимаешь теперь, как усложнилась твоя жизнь?
Пилат лихорадочно соображал, верить ли словам пришельца или считать его приход дурным сном?
– Я не верю твоим словам, – проговорил он.
– Сейчас поверишь, – усмехнулся пришелец.
Неведомая сила приподняла прокуратора над ложем и бросила его тело с высоты двух локтей обратно.
– Убедился?
– Великие боги, – прошептал Пилат.
– Ты готов выслушать распоряжение Всевышнего?
– Да! – не спускал глаз с незнакомца Пилат.
– Ты поступишь разумно. За это Всевышний дарует тебе вечную жизнь. Лишь раз в год ты обязан появляться в окрестностях перевала Сен-Готард и свершать омовение рук в память истинного Иисуса, там он родился. Ты записан в «Книгу Жизни». Ты вечен. А теперь слушай, как поступить. Казнь перенеси на сегодня с утра. В полдень произойдет солнечное затмение. А когда тьма накроет всех, пусть сотник снимет Назаретянина с креста и заменит на разбойника.
– А дальше что делать с ним? – верил и не верил Пилат, но просьба удивительно совпадала с его решением.
– Легионеры уведут его подальше от Иерусалима и отпустят на все четыре стороны. Слушай дальше. Твои доверенные иудейки уложат казненного в гроб, а через некоторое время легионеры выкрадут его из пещеры.
– Но как сделать это? Допустим, подмены не обнаружат, но у пещеры будет множество последователей Назаретянина день и ночь? – сомневался Пилат. – Да простят меня боги…
– Одного хватит, – успокоил незнакомец. – В саду близ Голгофы есть пещера с двумя выходами. Один тайный. Через него солдаты вынесут тело. Выполняй.
Едва дышащие светильники всколыхнулись и погасли. Пилат так и не понял, привиделось ему или случилось на самом деле…
Кромешная тьма стеснила Иерусалим. Сквозь тюремную стену, не отличимую от мрака, в узилище Назаретянина проник кто-то и стал напротив.
– Кто ты? – испугался он. – Ты посланник отца моего небесного или дьявола?
– Перестань молоть чепуху. У Всевышнего не может быть детей. Но за упорство твое Он дает тебе жизнь. Я ангел-искуситель, иди за мной… – Он взял Назаретянина за руку и провел мимо спящей и бодрствующей стражи на улицу, где сказал ему: – Иди отсюда и никогда больше не выдавай себя за сына Всевышнего.
Пробуждение Пилата было еще непонятнее, чем ночь.
Неожиданно явился центурион:
– Славный Пилат, твой человек выпустил Назаретянина, даже мы не заметили, а он снова явился в тюрьму.
– Вот упертый! – досадовал прокуратор. – Спрячь его, пока все уляжется.
– Невозможно. Евреи не спускают с него глаз.
– Тогда веди! – махнул рукой Пилат. – Я умываю руки. Сделай подмену в полдень, – решил он следовать знакомому сценарию. Из Рима не было вестей о смерти Тиверия.
Все произошло как по писаному. Назаретянин понес свой крест на Голгофу с растерянным лицом, там его под гомон и улюлюканье толпы прибили гвоздями к кресту и вздыбили.
– Почему я не послушал Тебя? – прошептал он и испустил дух.
Прокуратор Пилат наблюдал за казнью Назаретянина, но больше выискивал в толпе кого-то.
Ему повезло. За минуту до затмения он отыскал таинственного посланника по горящему взору. Они обменялись понимающими взглядами, и Пилат опустил виновато голову, а когда поднял, не увидел уже посланника. Лишь лиловый с фиолетовой подпалиной смерч несся прочь от Голгофы.
– Я умываю руки, – прошептал Понтий Пилат.
– А ты заслужил моей благодарности, – услышал голос Судских.
– Я виноват, – винился Судских. – Свершилось все против моей воли. Ты опять отправишь меня в небытие.
– Свершилось все по моей воле. Это главное. Проси что хочешь, – умиротворенно ответил голос, но Судских был скромен:
– Газировочки бы…
5 – 24
Вторую неделю чужие сапоги оскверняли славянские земли. А он не мог заставить себя сказать согражданам о чудовищной нелепости, которую породила его самонадеянность. Его, прозорливого тактика, обвел вокруг пальца пройдоха ефрейтор.
Впрочем, он сам «акадсмиев» не кончал и все таланты свои мог смело приписывать божьему провидению.
Выходит, Всевышний отвернулся от него, а этот спесивец имеет полное право писать на пряжках ремней своих солдат «С нами Бог»?
Отчаяние было невыносимым, и те сообщения, которые путано поступали с западных границ, говорили о том, что могучая империя, созданная им, трещит и разваливается подобно карточному сооружению и на всей земле не найдется уголка, готового спрятать его от им же порожденной бури.
Но не это мучило так сильно, как тот гнев, который теперь неминуемо обрушится на него. Тысячи обиженных, десятки тысяч несправедливо замордованных, сотни тысяч лишенных элементарного права говорить от своего «я».
Двадцать лет он туго закручивал гайки, безжалостно выламывал нестандартные винтики, сжимал пружину людского терпения, и вот теперь эта пружина, стремительно раскручиваясь, так ударит по нему, что о другом и говорить не стоит. Страх, жуткий страх сковывал его.
Несколько дней он никуда не выезжал с ближней дачи и безучастно наблюдал, как его соратники по-мышиному появляются, докладывают бодренько невразумительные сообщения, а он не может плеснуть им в лица капельку своего гнева, чтобы заставить их сохранять достоинство и самообладание, ибо сам не сохранял их и капли яда ему не выдавить сейчас.
С безвольно опущенными руками между колен он сидел на диване, уставившись на толстые шерстяные носки, надетые от озноба, хотя конец июня был теплым, без дождей. Знобило душу, и он безуспешно пытался согреться, кутаясь в душегрейку.
Что делать? Что делать! Выслушивать советы ближайших соратников ему не хотелось. Что могут сказать они, если думали с отставанием, лишь бы не противоречить ему? Картонные фигурки и промокашки, он сам сделал их такими, сильных удалил. Чтобы не раздражали. А эти способны только заглядывать в рот, где, по их разумению, сидел бес, которого нельзя беспокоить.
Дядюшка Датико давным-давно, совсем в другой жизни, поучал его: «Сосо, в тебе живет бес. Он всегда будет мешать тебе и гадить внутри. Лучше выпускай его наружу, пусть оправляется на свободе. Тебе же станет лучше».
Он понял его дословно. И не жалел. И жалеть о содеянном никогда нельзя.
Мимо окна, пригибаясь, прокрался Власик. Краем глаза он ловил его в сетчатку и понимал: ходит, чтобы показать, как он старается, пока хозяин переживает…
А почему он переживает? Подлинно ли велик его грех, чтобы казнить себя до срока? Если машина отлажена и смазана, она будет по инерции крутиться долго.
Вошла добродушная Галя-подавалыцица. Странно, рассеянно подумал он, в такое время она не входит… И вспомнил: просил чаю с лимоном.
– Испейте, Иосиф Виссарионович.
– Зачем? – невпопад спросил он.
– Как зачем? Просили. Душу согреть, – рискнула она.
– Душу? Да, надо, – рассеянно ответил он.
Согреть душу можно простой беседой, но станет ли эта женщина искренней, сможет ли преодолеть чудовищное расстояние между ними?
Не сможет. Зачем ей это? Незачем.
И все же без слов оставаться нельзя. В словах лекарство для души. Он первым переборол себя.
– Товарища Сталина еще помнят?
– Как можно, Иосиф Виссарионович! – чуть не заплакала она, и он верил – эта заплачет искренне. – Только на вас надежда. Люди считают, что вы объезжаете границы и подымаете бойцов в атаку на супостата.
– Чем же тогда занимаются мои начдивы и командиры? – прищурился он, проверяя, сможет ли простая женщина не испугаться и решить непосильную задачу. – Неужели товарищ Сталин лично должен подымать дух красноармейцев?
– Все на своих местах, – стоило трудов отвечать ей. – А ваше присутствие всегда вселяло дух. Я вот чай принесла…
– Правильно, – одобрил он. – Спасибо за чай. Очень Хороший чай, душистый.
По сводкам он знал, что войска беспорядочно катятся от границы. И не их вина в этом: железным рыцарям не под силу остановить опьяненного успехом противника. А опьянил его успешный обман. Сам он поверил шулеру в его честную игру. Потеряна Прибалтика, вот-вот сдадут Минск, парашютисты Штудента замечены в тылах войск, нигде нет упорядоченной обороны.
Какой же дух надо вселять в бойцов, сделать их железными? Дух – живой, а железо – предмет неодушевленный. Он сам делал их бездуховными.
– Позови ко мне Жукова, – попросил он подавальщицу, зная наперед, что Жуков ожидает его вызова уже несколько часов.
Способности этого человека Сталин знал прекрасно. Он из тех, кто умеет собираться до предела и на пределе возможностей выигрывает. До гения войны ему далеко, но его талант, рабочая лошадка искусства, вывезет хозяина из любых передряг. Гением был Тухачевский, любитель погарцевать. А мы не в цирке…
– Скажите, товарищ Жуков, – без приветствий обратился он к вошедшему, – каков должен быть дух, способный сделать невозможное?
Жуков явно не ожидал подобного вопроса влет. Но именно это и любил Сталин, испытывая своих сподвижников, как они умеют собираться с мыслями.
– Русский, товарищ Сталин. Тот дух, который вселился в ратников Дмитрия Донского, окрылил суворовских орлов в Альпах, кутузовских – под Бородино.
– А можете не общими словами? Вы говорите хорошо, но можете своими словами? – спросил он, раскуривая трубку. Впервые за неделю он набил ее и раскурил.
– Когда терять больше нечего, товарищ Сталин, – сказал, набравшись храбрости, Жуков.
– А жизнь? Разве это нечего терять? – смотрел Сталин на него рыжим глазом, в котором зарождался кошачий интерес: вырвется мышка или нет?
– Или пан, или пропал, – нашелся Жуков и спешно добавил: – Живой то есть.
– А вы правы, товарищ Жуков. Русский дух – в бесшабашности.
Жуков незаметно перевел дыхание. Сталин оживал.
– А кто хранитель этого духа? Вы не задумывались? – спросил он, и ободренный Жуков выпалил:
– Партия, товарищ Сталин!
Сталин больше чем внимательно посмотрел на него, и с Жукова махом слетела бодрость: поди угадай…
– Вы правы, товарищ Жуков. Беломорканал тоже нужен. Но есть истинно русский дух. Его хранитель – православие.
Жуков вытянулся в струнку. Он молчал и молил самому вождю продолжить тему. Она могла и тенькнуть на высокой ноте. И оборваться. Пан или пропал.
– Идите, товарищ Жуков. Мы встретимся чуть позже, – неожиданно закончил Сталин, к недоумению Жукова. Кто пан – известно, а кто пропал – еще нет…
Сталина боялись и восхищались им одновременно. Он был умен и осторожен, не нажил себе тайных проклятий, какие навлекли на себя соратники Ильича, бесшабашно расстрелявшие многих церковнослужителей, сославшие на Соловки верующих, ограбившие и промотавшие по пустякам храмовую утварь. В духовной семинарии, где он в отрочестве учился, был приобретен первый урок благоразумия: Церковь выживает всегда потому, что умеет выжидать.
Не он ли исповедовал это правило всю жизнь? В будущем многие попытаются очернить его, но кто докажет, что он самолично распоряжался расстрелами, гнал на Колыму или в подвалы Лубянки? Он выслушивал мнения и говорил им: делайте так, если считаете нужным. Или: мне это не нравится, но делайте. Они занимались самоедством, и он внимательно, как опытный овчар, следил, чтобы не упало поголовье стада, чтобы оставалось оно здоровым, способным преодолеть не один перевал. Он сам нагонял на них волков, чтоб те убирали хилых и больных, заразных, а потом убивал волков. Он боялся переборщить, и эта боязнь мешала ему спать, зато утром он слышал хвалу себе и заново сортировал стадо на больных и здоровых.
Не так ли Всевышний распоряжался своим стадом?
Сохнущая рука поначалу мерещилась ему карой божьей, но он убедил себя в обратном: слишком часто он сжимал в этой руке плеть и палку ради благих целей; а замахнулся – бей.
Он не случайно вспомнил о Церкви. Никогда не притеснял служителей и зорко оберегал ее владения, не допуская сектантской поросли, и Патриархия платила ему молчаливым послушанием.
Единственный храм он велел разрушить опять-таки при молчаливом согласии патриарха: при всей красоте и легкости своей, он нес масонские символы.
Ни один священник не пострадал от него. А кто попал в общую мясорубку – в семье не без урода. В этот трудный для него час, когда картонные болванчики писают и раскисают от страха, он твердо рассчитывал на понимание. В неровный час идут к сильному соседу.
«Я первым покажу пример коммунистам, что самый лучший друг тот, кто сопротивляется молчаливо», – решил он. Гитлер коварно обманул его, предал. Пусть это послужит ему уроком – не связываться с дьяволистами.
Сталин велел вызвать на дачу своего личного секретаря Поскребышева. Он напоминал ему сурового духовника. Он сам сделал его таковым для собственной отдушины.
– Товарищ Поскребышев, – обратился он к секретарю, прервав долгое хождение по гостиной, – а не встретиться ли нам с владыкой в сей неурочный час?
– Очень правильно, Иосиф Виссарионович, – с готовностью ответил тот, будто именно он битый час уговаривал вождя вызвать патриарха и поговорить с ним по душам.
– Тогда передайте Власику, что товарищ Сталин поедет к владыке в самое ближайшее время.
Поскребышев изумился до глубины души, сделал все возможное, чтобы не открылось его изумление вождю – чего он только не перевидел и не слышал, а такое впервые, – но рыжий глаз уже подкрасился зеленкой.
– Да, товарищ Поскребышев, – нажал голосом вождь, – товарищ Сталин может позволить себе хворать, не покидать этой комнаты, но не уважать божьего кесаря прав у него нету…
Со всеми мерами предосторожности кортеж выехал из ворот ближней дачи и на умеренной скорости двинулся к патриаршей резиденции. И как бы онемели в эту минуту его ближайшие сподвижники, будь они здесь, что первый выезд после отсидки он делал к владыке, минуя Кремль.
Владыка того боле изумился, когда ему сообщили о неурочном визите главы государства.
– Как быть будем? – спросил патриарх у своего духовника при сем сообщении.
– Владыко, не вем, – честно ответил духовник.
– Вот и я не вем, – призадумался патриарх.
– А если святотатство надумал? – спросил духовник.
– Не поехал бы, – разумно рассудил патриарх. – За отпущением грехов, вот как… Как быть будем? – повторил он.
– Так мыслю, владыко, – говорил духовник, сметливый и пытливый книгочей, за что держал его патриарх в непосредственной близости. – Заручиться хочет поддержкой Православной церкви. Боле идти ему не к кому. Грешен зело, гневен, но понятлив. За нами, почитай, Русь-матушка, не за ним.
– Ладно, оставь меня, дай с мыслию собраться. Неловко как, час поздний, и не всякий день такой гость…
Духовник исчез юрко, несмотря на преклонный возраст. Но в гостевые покои не направился, выжидал, заслонившись пилоном.
– Ты чего здесь? – прошипел он при виде послушника, бредущего с ендовой в руках мимо покоев владыки.
– За брусничной водицей послан, – ответствовал послушник без страха, намереваясь идти дальше.
__ Что-то не припомню тебя, – нахмурился духовник.
– Отрок Пармен я, из Чудова монастыря прислан и к трапезной приставлен, к отцу Паисию.
– Скройся! – цыкнул на монашка духовник, заслышав чужие шаги в пустом переходе от трапезной до покоев владыки, и сам порхнул скоро и дальше. Цокающие подковки сапог охраны выбили из него желание узреть гостя, которого втайне считал сатаною.
Послушник, наоборот, остановился бесстрашно и ждал приближения свиты.
В сопровождении митрополита Никодима первыми поднимались двое важных чинов в темных гимнастерках с эмблемой щита и меча на рукавах. Никодим при виде монашка напугался больше, чем самой миссии провожатого.
– Подь сюда! – скомандовал один из чинов негромко, но для Никодима голос прогрохотал в палатах и переходах, больно ударив по голове. – Кто таков?
– Послушник Пармен, за брусничной водицей послан, – почтительно склонил голову монашек.
Митрополит обмер.
Вопросов больше не последовало: главный посетитель входил в переход в белой форменной одежде и военной фуражке. Гость поднимался по ступеням не спеша, как бы раздумывая, остановиться со всеми или увлечь их к покоям владыки.
Монашек оказался совсем не трусливого десятка. Он не замечал ни озабоченности важных чинов, ни обмершего от страха митрополита, спокойно разглядывал пришельца прямо на пути его движения.
Гость остановился. Необычно добрыми стали его глаза.
Сегодня под утро он забылся недолгим беспокойным сном и увидел неожиданно приятеля своего детства Судико. Ему очень редко Снились сны, таких за всю жизнь было два, и каждый из них стал вещим. В третьем его посетил Судико. Сосо пробирался сквозь заросли кизила, палкой раздвигая колючие кусты. Судико налетел сбоку и выхватил палку. «Отдай!» – крикнул Сосо, а приятель со смехом убежал куда-то вверх к развалинам крепостушки и, невидимый, крикнул оттуда: «С палкой и дурак сможет, а ты без палки найди меня!»
Монашек удивительно был похож на Судико. Чистые синие глаза монашка породили улыбку гостя.
– Испейте вот, – протянул он ендову гостю, и тот, как принимают хлеб-соль, принял посудину и сразу обмакнул свои усы в напиток. – Все мы братья и сестры.
– Как ты сказал? – с улыбкой переспросил гость.
– Братья и сестры, – улыбнулся в ответ монашек.
– Правильно, – кивнул гость и повернулся к важным чинам сзади, к митрополиту, умирающему со страха ежесекундно. – Наверное, поздно тревожить владыку, если понесли ему брусничную воду? Не стесняйтесь. Все мы люди.
Митрополит изогнулся в поклоне, забыв приличные по такому случаю слова, а гость и не собирался выслушивать их.
– Передайте извинения владыке и скажите, что товарищ Сталин желает ему спокойной ночи, желает добра и упорства всему русскому народу вместе с духовной владычицей его Православной церковью.
Он вернул ендову монашку, подмигнул и развернулся прочь. Сопровождающие важные чины сразу заспешили вперед, а митрополит долго сглатывал слюну и держался за сердце.
Придя в себя, он не обнаружил монашка радом, а так хотелось глотнуть брусничной водицы в такой момент.
Не нашли монашка ни сегодня, ни завтра, не верили, был ли он вообще, и крестились часто при упоминании о грозном госте. Истинно вещают некие: там, где подступает дьявол, Господь оком своим доглядывает.
На следующий день под репродукторами собирались москвичи, с нетерпением ожидая объявленного выступления товарища Сталина. Его ждали так долго, словно самого окончания войны, едва прозвучит его голос.
Ожидающие недовольно поглядывали на юношу у сатуратора, который беспечно пил стакан за стаканом газировку с малиновым сиропом. Милиционер с нахмуренным лицом направился к нему, и тут из репродуктора отчетливо прозвучали слова:
– Братья и сестры!
Юноша допил стакан, удовлетворенно кивнул и пошел своей дорогой, рассеянно улыбаясь.
Милиционер забыл о нем сразу.
– Ну как? – услышал голос юноша. – Не страшен черт?
– Не знаю, – беспечно ответил юноша. – Не видел его.
– Тогда от милиции сам спасайся. Скоро верну тебе оболочку, тогда снова станешь себе хозяином.








