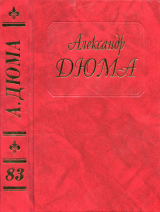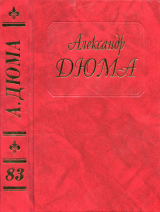сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 69 страниц)
За этими словами следовал текст клятвы, составленной в самых ужасных выражениях, которые я не могу припомнить точно, и содержавшей обещание уничтожить всех монархов-деспотов. Клятва была написана кровью, и под ней стояло двенадцать подписей, включая мою, стоявшую первой, причем все они тоже были начертаны кровью. Я не могу припомнить имена всех тех, кто поставил там свои подписи, за исключением господ ***. Это были подписи двенадцати великих мастеров иллюминатов, но, по правде сказать, мой росчерк был сделан не мною, и я не знаю, как он там оказался. То, что мне сказали по поводу содержания этой книги, написанной на французском языке, и то немногое, что я из нее прочитал, еще раз убедило меня, что эта секта решила нанести свои первые удары по Франции, а после падения французской монархии должна была ударить по Италии и, в особенности, по Риму; что Хименес, о ком я уже говорил, был одним из главных руководителей этой интриги и что сообщество имеет огромное количество денег, разложенных по банкам Амстердама, Роттердама, Лондона, Генуи и Венеции. Мне сказали, что источником этих денег служат взносы, которые из расчета пяти луидоров с человека ежегодно выплачивают сто восемьдесят тысяч масонов и которые служат, прежде всего, для содержания руководителей, во вторую очередь для содержания эмиссаров, посылаемых ими во все королевские дворы, и, наконец, для того, чтобы поддерживать в исправном состоянии корабли, вознаграждать всех тех, кто затевает что-либо против монархов, и оплачивать все прочие нужды секты. Мне стало известно также, что все ложи, как в Америке, так и в Африке, число коих доходит до двадцати тысяч, обязаны посылать ежегодно, в день Святого Иоанна, по двадцать пять луидоров каждая в общую казну. В конце концов они предложили мне денежное вспоможение, заявив, что готовы отдать мне даже свою кровь, и я получил от них шестьсот луидоров наличными.
Затем мы вернулись во Франкфурт, откуда на другой день я вместе с женой отправился в Страсбург».
Понятно, почему Калиостро отпирался от своей подписи: он отвечал судьям, и приведенный нами фрагмент извлечен из протокола его допроса.
Калиостро и сам был создателем нового масонского общества, как это следует из нижеследующего устава, данного им ложе, которую он основал в Лионе:
«СЛАВА, ЕДИНЕНИЕ, МУДРОСТЬ,
ДОБРОДЕЯНИЕ, БЛАГОДЕНСТВИЕ.
Мы, Великий Кофта, основатель и великий мастер масонства древнего египетского устава, действующего во всех восточных и западных частях земного шара, доводим до сведения всех тех, кто увидит настоящее послание, что, поскольку во время нашего пребывания в Лионе многие члены здешней ложи, следующей обычному уставу и носящей название "Мудрость”, изъявили нам о своем желании подчиняться нашему руководству и воспринимать от нас необходимые познания и полномочия, дабы понимать и распространять масонство в его истинном виде и в его изначальной чистоте, мы откликнулись на эти чаяния, пребывая в убеждении, что, подавая им знаки нашего благорасположения, мы будем иметь сладостное удовольствие трудиться во имя славы Всевышнего и во имя блага человечества.
И посему, достаточным образом определив и удостоверив в беседах с председателем названной ложи и многими ее членами полномочия и власть, какие у нас есть в этом вопросе, мы с помощью тех же самых братьев создаем и учреждаем навечно в Лионе данную египетскую ложу и делаем ее материнской ложей для всего Востока и Запада, присваивая ей навсегда отличительное имя "Побеждающая Мудрость" и назначая в качестве ее непременных и несменяемых руководителей и пр., и пр.»
Этот устав, наряду с другими эмблемами, нес на себе изображение креста с тремя буквами — L.P.D. Эти три буквы были первыми буквами следующих трех слов:
LILIA PEDIBUS DESTRUE!
(«Растопчи лилии ногами!»)
Вспомните теперь, что среди прочих философских знаменитостей, входивших в масонские ложи XVIII века, числились Кондорсе, Вольтер, Дюпюи, Лаланд, Бонвиль, Вольне, Фоше, Байи, Гильотен, Лафайет, Мену, Шапелье, Мирабо, Сиейес, Гольбах и герцог Орлеанский (Филипп Эгалите), и у вас появится искушение поверить, что мнение аббата Баррюэля в отношении смычки между франкмасонами и философами не лишено оснований и правдоподобия.
И вот в этих политических, философских и общественных обстоятельствах, только что изложенных нами, Людовику XVI, самому бесхарактерному человеку из всего своего рода, предстояло взойти на трон.
В чем же причина подобного вырождения? Сейчас мы это объясним.
Чтобы сохранять различные виды животных и даже растений в состоянии продолжительной молодости и постоянной крепости, природа предписывает скрещивание пород и смешение семейств. Вот почему в растительном царстве главным средством, сохраняющим доброкачественность и красоту видов, является прививка; вот почему у людей брак между близкими родственниками служит причиной вырождения особей. Природа страдает, чахнет и вырождается, когда несколько поколений воспроизводятся в пределах одного и того же рода. И, напротив, природа оживает, восстанавливается и крепнет, когда какое-нибудь стороннее и новое порождающее начало включается в зачатие.
Вот почему все великие династии основывают герои, а завершают собой эти династии люди бесхарактерные. Посмотрите на Генриха III, последнего из Валуа; посмотрите на Гастона, последнего из Медичи; посмотрите на кардинала Йоркского, последнего из Стюартов; посмотрите на Карла II, последнего из Габсбургов.
Так вот, эта главная причина вырождения династий, то есть внутрисемейные браки, дававшая себя знать во всех монарших домах, потомков которых мы только назвали, в династии Бурбонов ощущалась сильнее, чем в какой бы то ни было другой, поскольку нигде не зло употребляли подобными браками больше, чем в династии Бурбонов. Кровь, которая текла в жилах тех, кто царствовал во всей Европе, считалась, и в самом деле, настолько ценной, настолько великой, настолько священной, что ее не полагалось смешивать ни с какой кровью, уступавшей ей в благородстве; и потому, подчиняясь предрассудку католических королевских домов Европы вступать в брачные союзы лишь с равными себе, Бурбоны должны были при заключении браков не выходить за пределы монарших семей Флоренции, Савойи, Австрии и Испании.
Проследив, к примеру, родственную цепочку от Людовика XV к Генриху IV и Марии Медичи, обнаруживаешь, что Генрих IV является прапрапрадедом Людовика XV пять раз, а Мария Медичи — его прапрапрабабкой пять раз.
Проследив родственную цепочку от него к Филиппу III и Маргарите Австрийской, обнаруживаешь, что Филипп III является трижды его прапрапрадедом, а Маргарита Австрийская — трижды его прапрапрабабкой.
Таким образом, из тридцати двух прапрапрадедов и прапрапрабабок Людовика XV шесть человек принадлежат к дому Бурбонов, пять — к дому Медичи, одиннадцать — к дому австрийских Габсбургов, три — к Савойскому дому, три — к Лотарингскому, два — к Баварскому, а замыкают этот перечень принц из дома Стюартов и датская принцесса.
В итоге именно самому слабому из всей династии было уготовано самое тяжелое бремя, когда понадобился король, которому предстояло бороться против этой выродившейся знати, против этого развращенного общества, против этих философов-развратителей, против этих тайных и открытых врагов, окружавших со всех сторон монархию, эту преобразующую силу Генриха IV и Людовика XIV, двух гигантов династии.
Господь, чьи замыслы предустановлены, использовал в своих целях доброго, но выродившегося и бессильного монарха, которому, после того как он звался герцогом Беррийским и дофином Франции, предстояло последовательно называться королем Франции и Наварры, Людовиком Благодетельным, восстановителем свободы, королем французов, господином Вето и Луи капетом.
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Выше мы говорили о знаменитом письме мадемуазель де Валуа г-ну де Ришелье.
К этому письму был приложен следующий документ:
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о рождении и воспитании несчастного принца,
отторгнутого кардиналами Ришелъе и Мазарини
от общества и подвергнутого заточению
по приказу Людовика XIV.
(Составлено на смертном одре воспитателем принца.)
«Несчастный принц, которого я воспитал и оберегал до конца своих дней, родился 5 сентября 1638 года в половине девятого вечера, когда король ужинал. Его ныне царствующий брат родился в полдень, когда его отец обедал. Однако насколько пышно и торжественно было отмечено рождение наследника, настолько же печально и сокрыто от всех было рождение его брата. Король, оповещенный повивальной бабкой о том, что королева должна родить второго младенца, велел остаться в ее спальне канцлеру Франции, повивальной бабке, главному дворцовому капеллану, духовнику королевы и мне, дабы мы стали свидетелями того, что произойдет и что он пожелает сделать, если родится второй ребенок. Король уже давно был предупрежден предсказателями, что его супруга родит двух сыновей; ибо много дней назад в Париж явились пастухи, объявившие, что им было божественное внушение, после чего в Париже стали толковать, что, если королева родит, как они предсказали, двух дофинов, это будет величайшее несчастье для государства. Парижский архиепископ велел запереть этих прорицателей в Сен-Лазар, потому как народ был в волнении; все это заставило короля задуматься, ибо он опасался беспорядков, которые могли бы произойти в королевстве.
Случилось все, как и было предсказано прорицателями; то ли звезды оповестили пастухов, то ли Провидение пожелало предостеречь Его Величество насчет бедствий, которые могли обрушиться на Францию. Кардинал, которого король нарочным известил об этом пророчестве, ответил, что к такому надо быть готовым; в рождении двух дофинов ничего невозможного нет, и в этом случае надо будет старательно укрыть второго, поскольку в будущем он может, пожелав стать королем, начать войну против брата, создать новую лигу в государстве и завладеть престолом.
Король страдал от неопределенности, но тут королева стала кричать, и мы испугались, что начались вторые роды.
Мы немедля послали за королем, который, представив, что станет отцом двух дофинов, чуть не лишился чувств. Он сказал монсеньору епископу Мо, что просит его поддержать королеву. "Не покидайте мою супругу, пока она не разрешится от бремени. Я смертельно боюсь за нее". Сразу же после родов король собрал нас — епископа Мо, канцлера, сьера Онора, повивальную бабку г-жу Пероннет и меня — и в присутствии королевы, чтобы и она могла услышать, объявил, что мы ответим головой, если проговоримся о рождении второго дофина, и что он желает, чтобы его рождение стало государственной тайной, с целью предотвращения возможных бед в будущем, ибо в салическом законе ничего не говорится о наследовании короны в случае рождения у короля двух старших сыновей одновременно. Итак, предсказание сбылось, и королева, пока король ужинал, родила дофина, который был миловидней и красивей, чем первый; новорожденный непрестанно плакал и кричал, словно заранее сожалел, что явился на свет, где ему предстояло претерпеть столько страданий. Канцлер составил протокол об этом необычайном рождении, единственном во всей нашей истории, но Его Величеству первый протокол не понравился и он велел сжечь его в нашем присутствии; он заставил переделывать протокол несколько раз, пока тот не удовлетворил его, хотя главный дворцовый капеллан возражал, считая, что Его Величество не должен скрывать рождение принца. Однако король на это ответил, что действует так в интересах государства.
Затем король велел нам подписать клятву. Первым поставил подпись канцлер, после него главный дворцовый капеллан, затем духовник королевы, а последним я. Клятву подписали также хирург и повивальная бабка, принимавшая роды, и король унес эту бумагу вместе с протоколом, и мне больше никогда не доводилось слышать о них. Припоминаю, что Его Величество советовался с монсеньором канцлером насчет формулы клятвы, и долго тихо что-то обсуждал с кардиналом, после чего повивальная бабка унесла младенца, родившегося вторым. Было опасение, как бы повивальная бабка не проболталась о его рождении, и она мне рассказывала, что ей неоднократно грозили смертью, если она проговорится; нам, свидетелям его рождения, тоже навсегда запретили говорить об этом ребенке даже между собой. Ни один из нас до сих пор не нарушил клятву; Его Величество ничего так не страшился, как гражданской войны, которую могли начать два этих близнеца, и кардинал неизменно поддерживал его в таком страхе и добился, чтобы ему поручили надзор за воспитанием этого ребенка. Король приказал нам тщательно осмотреть несчастного принца, у которого была родинка над левым локтем, желтоватое пятнышко на шее, с правой стороны, и крошечная родинка на правой икре, ибо Его Величество совершенно разумно предполагал, в случае кончины первенца, заменить его царственным младенцем, которого он доверил нашему попечению; потому он и велел нам поставить наши подписи на протоколе сразу же после своей и приложил к нему в нашем присутствии малую королевскую печать. Что же сталось с пастухами, предсказавшими рождение второго принца, о том я ничего не слышал, да и не интересовался. Вполне возможно, что господин кардинал, взявший на себя заботы об этом таинственном младенце, мог выслать их из страны.
Что касается раннего детства второго принца, то г-жа Пероннет заботилась о нем, как о своем ребенке, но со временем все стали считать его бастардом какого-то вельможи, ибо по тому, как она пеклась о нем, и по расходам на него все решили, что это любимый сын некоего богача, хотя тот его и не признал.
Когда же принц чуть подрос, кардинал Мазарини, на которого перешли заботы по его воспитанию после его высокопреосвященства кардинала Ришелье, поручил его мне, дабы я дал ему образование и воспитал его как королевского сына, но блюдя тайну. Госпожа Пероннет продолжала заботиться о нем вплоть до самой своей кончины и была весьма привязана к нему, а он еще более был привязан к ней. Принц получил в моем доме в Бургундии образование, какое приличествует королевскому сыну и брату короля.
Во время беспорядков во Франции я неоднократно имел беседы с королевой-матерью, и Ее Величество, как мне показалось, опасалась, что если о рождении этого ребенка станет известно при жизни его брата, молодого короля, то как бы иные недовольные подданные не воспользовались этим и не подняли мятеж, ибо многие врачи полагают, что близнец, родившийся вторым, был зачат первым и, следовательно, по всем законам королем является он; хотя, впрочем, другие не согласны с этим мнением.
Тем не менее даже подобные опасения не смогли принудить королеву уничтожить письменные свидетельства о рождении второго принца, поскольку она предполагала, в случае несчастья с молодым королем и его смерти, объявить, что у нее есть второй сын, и заставить признать его. Она не раз мне говорила, что хранит эти письменные доказательства у себя в шкатулке.
Я дал несчастному принцу образование, какое желал бы получить сам, и даже сыновья государей подтвердили бы, что лучшего трудно было бы желать.
Единственно могу себя упрекнуть в том, что невольно стал причиной несчастий принца, хотя и не желал того; поскольку, когда ему исполнилось девятнадцать лет, у него возникло настоятельное желание узнать, кто же он, и так как он видел мою решимость не отвечать на этот вопрос и тем большую непреклонность, чем сильней он умолял меня, то решил скрыть от меня свое любопытство и притворился, будто верит, что является моим сыном, плодом незаконной любви.
Когда мы бывали наедине и он называл меня отцом, я отвечал, что он заблуждается, но не боролся с заблуждением, которое он высказывал, быть может, только для того, чтобы заставить меня заговорить; я позволил ему считать себя моим сыном, но он не успокоился на том и продолжал изыскивать способы дознаться, кто он на самом деле. Так прошли два года, и тут моя пагубная неосторожность, каковой не могу себе простить, позволила ему узнать о своем происхождении. Он знал, что король часто присылает ко мне гонцов, и я имел несчастье оставить шкатулку с письмами королевы и кардиналов. Что-то он вычитал из них, а об остальном с присущей ему проницательностью догадался и впоследствии признался мне, что похитил самое недвусмысленное и самое определенное письмо, касающееся его рождения.
Помню, как его любовь и почтительность ко мне, которую я в нем воспитывал, сменились озлоблением и грубостью, но поначалу я не мог понять причину столь резкой перемены в его поведении, ибо еще не знал, что он рылся в моей шкатулке, но он так никогда и не признался, каким способом он это сделал: то ли с помощью слуг, которых не хотел мне назвать, то ли каким другим способом. И все-таки однажды он имел неосторожность попросить показать ему портреты покойного короля Людовика XIII и ныне царствующего государя. Я ответил, что у меня имеются только крайне скверные портреты и что я жду, когда живописец исполнит новые, лучше, и тогда покажу их ему. Мой ответ не удовлетворил его, и он попросил позволения съездить в Дижон. Впоследствии я узнал, что он намеревался увидеть там портрет короля, а затем отправиться ко двору, который по случаю бракосочетания короля с инфантой пребывал в это время в Сен-Жан-де-Люзе, и там сравнить себя с королем и проверить, похожи они или нет. Когда я узнал про это его намерение отправиться туда, я более не оставлял его одного.
Молодой принц был прекрасен тогда, как Амур, и именно Амур помог ему получить портрет своего брата: уже несколько месяцев ему нравилась молодая домоправительница, он всячески ласкал и ублажал ее, и она дала ему портрет короля, вопреки моему запрету слугам давать ему что-либо без моего дозволения. Несчастный принц увидел на этом портрете себя, и это было тем более просто, что портрет этот мог вполне сойти за изображение как того, так и другого. Это привело его в такую ярость, что он прибежал ко мне со словами: "Вот мой брат, а вот я!" — и показал похищенное у меня письмо кардинала Мазарини.