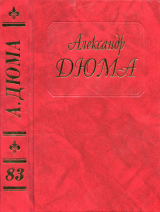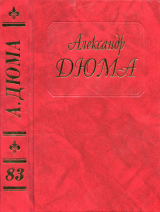сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 69 страниц)
Господину де Бомону, желавшему осложнить положение двора, пришла в голову мысль вбросить религиозную проблему во все эти денежные и мирские споры.
Он обнаружил, что бывший глава янсенистов, знаменитый кардинал де Ноайль, некогда ввел правило требовать у умирающего свидетельство об исповеди, прежде чем священник мог законным образом дать ему Святые Дары и елей; так что г-н де Бомон обрел пример в прошлом, дабы обосновать свое поведение. И потому он, архиепископ-молинист, распорядился требовать у умирающих свидетельство об исповеди, как это сделал в свое время архиепископ-янсенист, и никто не мог порицать его за это.
Более того, двор, против которого он боролся политически, не мог покинуть его в этой религиозной борьбе, иначе двор покинул бы церковную партию.
К тому же, даже если бы король пожелал остаться нейтральным в этой новой распре, г-н де Бомон непременно получил бы поддержку со стороны дофина.
И г-н де Бомон, как принято выражаться, взял быка за рога.
Первый отказ в причастии, имевший причиной отсутствие свидетельства об исповеди, получил советник парижского Шатле.
Тот, кто отказал ему в причастии и стал таким образом исполнителем воли архиепископа, был уставным каноником конгрегации Святой Женевьевы и звали его Буэттен.
Ни законные требования родственников умирающего, ни их мольбы не подействовали на каноника. Тщетны были и приказы Парламента: Буэттен, не опасаясь никакой судебной ответственности, не стал объяснять парламентским чинам причины этого отказа, заявив, что обязан давать отчет в своих действиях одному лишь архиепископу. Парламент постановил взять Буэттена под стражу и предъявил г-ну де Бомону требование соборовать не только советника Шатле, которому с каждым часом становилось все хуже и который рисковал умереть без предсмертного причастия, но и других янсенистов, оказавшихся в подобном положении.
Прелат ответил, что готов соборовать всех советников, какие есть на земле, и всех янсенистов, какие есть на свете, лишь бы только они предъявили справку об исповеди.
Тем временем больные умерли, и Церковь, вначале отказавшая им в предсмертном причастии, отказала им теперь и в погребении.
Парламент вновь распорядился взять под стражу Буэттена и повторно отправил архиепископу требование соборовать умирающих.
Это означало объявление войны.
Король сделал попытку продолжать опираться на обе партии.
Он поддержал требование, которое Парламент предъявил архиепископу, и осудил парламентский указ об аресте каноника.
Тем временем, видя, что смерть уже близка, советник Шатле решил исповедоваться кюре церкви святого Павла, который дал ему справку об исповеди. После этого викарий решил причастить его, но, как рассказано в мемуарах, откуда мы позаимствовали эти подробности, сделал это так грубо и непристойно, что умирающий даже не смог дождаться от него предсмертного увещания.
Однако никто из тех, кто последовал примеру несчастного советника Шатле, не удостоился ни соборования, ни погребения в освященной земле.
Отказ в предсмертном причастии распространился на провинции и на сельскую местность; в области, подсудной Парижскому парламенту, в этом отношении особенно отличились архиепископы Санса и Тура, а также епископы Амьена, Орлеана, Лангра и Труа.
Народ открыто жаловался на правительство, под властью которого человек не мог ни заработать себе на жизнь, ни добиться правосудия, ни обрести могилу.
Философы, со своей стороны, зубоскалили и высмеивали г-на де Бомона в нечестивых стихах.
Вот пример таких стихов:
Ты какой-то дурью болен!
Ну поверь, месье Бомон,
Дай скоту скорее волю
Так пастись, как хочет он!
Эти славные ребятки
На гурманов не похожи:
Поедят твои облатки
И уйдут с довольной рожей!
Хоть мешок наделай их —
Будут плёвые затраты,
Но жиреет тьма на них
Чернецов, попов, прелатов!
Ведь мечта людей простых —
Это дешевизна;
Коль поднимешь цену ты,
Выйдет укоризна!
Ты какой-то дурью болен!
Ну поверь, месье Бомон,
Дай скоту скорее волю
Так пастись, как хочет он!
В итоге народ воспринимал отказ в предсмертном причастии иногда всерьез, иногда с насмешкой.
Если он воспринимал этот отказ всерьез, толчок испытывала королевская власть.
Если же он относился к нему с насмешкой, расшатывалась религия.
Тем временем г-н Беррье, новый префект полиции, обнародовал собственные указы, вызвавшие в Париже более серьезные волнения.
Господин Беррье был во всех отношениях приверженцем г-жи де Помпадур.
Получив благодаря ей должность начальника полиции, он был беззаветно предан фаворитке; это он составлял те скандальные донесения о происшествиях в монастырях, гостиных и борделях, которые так развлекали Людовика XV при его пробуждении.
Господин Беррье издал несколько отличных указов, однако непреклонный характер и грубые манеры начальника полиции навлекли на него ненависть народа.
Его указы, первый из которых датирован 8 июня 1747 года, возобновляли запрет на ввоз, печать и продажу книг, вредоносных с точки зрения религии и добронравия.
Еще один указ, датированный 9 мая 1749 года, касался кормилиц-крестьянок, которые приезжали в Париж, чтобы взять там питомцев;
указ от 8 ноября 1750 года касался чистоты улиц; указ от 16 января 1751 года — бродячих акробатов;
и, наконец, указ от 6 января 1753 года устанавливал правила вождения конных экипажей в Париже.
В числе всех этих распоряжений был и чрезвычайно суровый указ, касавшийся бродяг и нищих.
Выше мы говорили о том, какое брожение вызывали отказы в предсмертном причастии, однако эти отказы не особенно затрагивали народ. Народ не входил во все тонкости споров янсенистов с молинистами, споров, построенных почти всегда на отвлеченных понятиях; однако он ощущал, что в основе всех этих пререканий лежит осквернение святых понятий, и понимал, что если умирающий просит о причастии, то отказать ему в этом — кощунство. И потому каждый раз, когда из дверей церкви выходил священник со Святыми Дарами, вокруг него собиралась толпа и, как уже было сказано, возникал скандал.
Однако вскоре был затронут и сам народ, причем непосредственно.
Указ, направленный против нищих и бродяг, был исключительно суровым: этих людей ловили всюду, где их можно было поймать, и, как в Англии, записывали в матросы или колонисты.
Примеры подобных похищений случались в годы Регентства, в эпоху системы Джона Ло, когда требовалось населить Канаду и Луизиану.
Как легко понять, во главе этих похищений не всегда стояло неукоснительное соблюдение правосудия; к примеру, некая г-жа Коньян устроила похищение своего мужа, чтобы свободнее встречаться с любовником. Это происшествие наделало большой шум, и, воспринятое со своей смешной стороны, оно весьма повеселило Людовика XV и весь двор, как вдруг случилось куда более серьезное событие, к которому и двор был вынужден отнестись серьезнее.
В мае 1750 года, имея целью потребовать выкуп с какой-то женщины, полицейский агент похитил у нее ребенка. Пребывая в отчаянии и полагая, что ребенок погиб, мать стенает так громко, что ее крики слышатся во всем квартале Сент-Антуан. Откликаясь на эти крики, народ собирается на улицах; женщины вступаются за несчастную мать; ползут слухи, будто и в других кварталах столицы похитили детей, которых никто никогда больше не видел. В разгар этих слухов, волнений и криков раздается голос человека, заявляющего, что врачи прописали королю кровавые бани для восстановления здоровья, подорванного распутством.
От подобных обвинений, не нуждающихся в обосновании, всего лишь шаг до бунта. Как раз в это же самое время, причем в ста шагах от того места, где звучат эти слухи, полицейский стражник хочет арестовать ребенка, просящего милостыню; ребенок начинает кричать, мать зовет на помощь. Арестовать ребенка будто бы хотят не для того, чтобы поместить его в приют, а для того, чтобы убить его, чтобы сделать с ним нечто столь же гнусное, как то, что происходило на пиршестве Пелопидов. Народ принимает сторону матери, полицейского стражника убивают, и огромная толпа, возбужденная, разъяренная, угрожающая, выходит из предместья и устремляется к дому г-на Беррье, требуя предать суду Парламента полицейских агентов, которые похищают детей, чтобы продать их кровь камердинерам короля.
Господин Беррье, вовремя предупрежденный, успел бежать через сад.
Народ намеревался перелезть через ограду и угрожал разнести в клочья все в доме, как вдруг ворота открылись сами собой: кто-то говорит, что это было сделано по приказу офицера полиции, другие утверждают, что это собственными руками сделала г-жа Беррье. Как только путь толпе был открыт, она остановилась, не решаясь что-либо предпринять. Одни говорили, что если ворота вот так открыли, то это сделано для того, чтобы заманить в ловушку тех, кто в них войдет; другие говорили как о чем-то совершенно достоверном, что полицейский дом заминирован. Слухи эти выглядели правдоподобными, и толпа отступила.
Вскоре к дому г-на Беррье прибыло несколько отрядов военной свиты короля — солдат французской и швейцарской гвардии с ружьями наизготове и черных мушкетеров с саблями наголо.
Толпа обратилась в бегство, ринувшись назад в предместье, однако месть настигла ее и там.
Несколько человек, замеченных среди самых ярых зачинщиков бунта, были схвачены и повешены; большое количество бунтовщиков отправили в тюрьму; но, поскольку похищения детей и в самом деле имели место, Парламент, находившийся в плохих отношениях с королем, решил выяснить, что же происходило на самом деле, и своим указом от 25 мая 1750 года постановил, «что он будет вести расследование в отношении виновников тревожных слухов, повлекших за собой народные бунты, а также в отношении тех, кто похищал детей, если таковые найдутся».
Между тем этот бунт, длившийся всего лишь три часа, чрезвычайно напугал короля. Его страх дал себя знать прежде всего полным переустройством ночной стражи, которая до этого состояла лишь из одной роты горожан, то есть ремесленников, не имевших единой формы и действовавших в силу старинного феодального закона, который предписывал горожанам охранять столицу и осуществлять в ней ночной дозор. Теперь, в соответствии с королевским приказом, были созданы десять пеших рот, которые оплачивал и обмундировывал город, и две конные роты. Эти двенадцать рот, находившиеся под начальством командира стражи, которого назначали из числа бригадных генералов и генерал-лейтенантов, должны были наблюдать за спокойствием в городе и поддерживать в нем повиновение королю.
Кроме того, г-н д'Аржансон приказал графу фон Лёвендалю составить план фортификаций и казарм, которыми следовало окружить Париж. Предстояло перевооружить Бастилию, довести ее гарнизон до восьмисот человек и нацелить ее пушки на густонаселенные части Парижа: скрещивая свой огонь с огнем пушек Венсена, эти пушки должны были держать под прицелом предместье Сент-Антуан и господствовать над предместьем Сен-Марсель.
Но с противоположной стороны Парижа, то есть со стороны ворот Сент-Оноре, ничто не смогло бы сдержать бунт, и потому был принят план создания системы казарменных помещений, которые должны были служить одновременно укреплениями и укрытиями для гвардейцев.
Были построены три такие казармы.
Первая, сооруженная позади Военной школы, на дороге в Севр и Вожирар, предназначалась для французских гвардейцев.
Вторая, построенная в Рюэле, между дорогами в Версаль и Сен-Жермен, предназначалась для швейцарских гвардейцев.
И, наконец, третья, построенная в Курбевуа и предназначавшаяся для 2-го полка французских гвардейцев, должна была господствовать над Сеной и паромной переправой Нёйи, пресекая в случае надобности всякое движение по этому пути в сторону Версаля.
В 1750 году явно предвидели события 1789 года.
Кроме того, начиная с этого времени король отказался от всяких сношений со столицей, которую он так любил и где он был так любим; он порвал с Парижем, который за пять лет до этого встречал его как триумфатора, устилая дорогу на его пути цветами и зелеными ветвями; с Парижем, некогда городом радости, удовольствий и празднеств, ставшим теперь городом оскорблений и угроз.
И, чтобы дать понять столице, что между ней и ним нет более ничего общего и что, даже направляясь в свои замки Компьень или Фонтенбло, он никогда впредь не будет проезжать через нее, король приказал проложить ту широкую дорогу, которая соединяет Булонский лес с Сен-Дени и которую еще и сегодня называют дорогой Мятежа.
Но странное дело, именно на этой дороге 13 июля 1842 года разбился насмерть герцог Орлеанский, единственная подлинная преграда между последними остатками той монархии, историю которой мы теперь пишем, и приходом той республики, которая была подготовлена у нас скорее десницей Божьей, нежели человеческими руками.
А было ли все же что-нибудь достоверное во всей этой жуткой истории с похищенными детьми и в страшном обвинении насчет кровавых бань? Да нет, ничего определенного, всего лишь полицейская запись, которую приводит Пёше и которую, вслед за ним, мы приведем как возможное, но маловероятное объяснение, возлагая при этом всю ответственность за него на этого автора.
В 1749 году в Париж прибыл татарский князь; у нас нет нужды объяснять нашим читателям, что князья — это подлинные русские владыки, исконные владыки, если можно так выразиться; этот князь, мужчина лет тридцати или тридцати пяти, был настоящим великаном, внуком тех титанов, которые во времена бунта Юпитера штурмовали небо; он был сказочно богат и привез с собой одну из тех азиатских свит, о каких мы у нас во Франции не имеем никакого представления: в этой свите было около сотни слуг. Привлекая к себе внимание красотой своей внешности, великолепием своих одежд и грубостью своих манер, князь очень быстро приобрел известность в Париже — мы говорим «в Париже», ибо князю, находившемуся в опале у императора Ивана VI, было заявлено, чтобы он и не думал являться в Версаль; однако князь дал себе слово вознаградить себя за это изгнание из Версаля, встречаясь не столько с приличной компанией, сколько с дурной.
Татарину посчастливилось оказаться в Париже в тот момент, когда никто там не был в моде. Он воспользовался благоприятным случаем, и, неслыханное дело, в течение полугода все разговоры в гостиных, да и везде велись исключительно об этом красивом и богатом татарине.
После того как он провел в столице восемь или десять месяцев, предаваясь неумеренным удовольствиям, внезапно распространился слух, что татарский князь имел честь подхватить какой-то губительный недуг, нечто вроде проказы или слоновой болезни. Врачи, к которым он обратился за консультацией, заявили, что случай этот чрезвычайно интересен для медицины, даже не подозревавшей о существовании подобного недуга, да еще в столь острой стадии, но крайне прискорбен для князя, которому никогда от него не излечиться. Его друзья впали то ли в искреннее, то ли в притворное отчаяние, но князь, в то время как они полагали, что расстаются с другом навсегда, весело попрощался с ними, заявив, что эта болезнь всего лишь безделица и что он назначает им встречу через полгода, на которую явится совершенно исцеленным.
Дав это обещание, он отбыл.
Врачи не стали перечить ему по поводу его возвращения, но, едва он отбыл, заявили, что Париж может носить траур по русскому князю, поскольку тут его уже никогда не увидят.
Прошел год; этого времени с избытком хватило бы на то, чтобы забыть даже десять русских князей, и потому ни малейшей памяти о нем здесь не осталось, как вдруг в Париже и Версале распространился слух, что татарский князь вернулся совершенно исцеленным и что от болезни, которая поразила его и которую все медики объявили смертельной, не осталось и следа, как если бы ее никогда и не было.
Медики стали во всеуслышание возмущаться и даже попытались отрицать, что приехал тот же самый князь, однако те, кто был знаком с ним, узнали его, и кавалеры, а главное, дамы подтвердили его личность.
Врачам пришлось признать очевидное; однако они пришли к единому мнению, что подобное чудо могло совершить лишь какое-то тайное и неизвестное в Европе лечение.
Но в чем заключалось это лечение, способное вернуть не только жизнь, но и молодость и красоту? Ведь князь возвратился во Францию не только полный жизни, которую он едва не потерял, но и вновь наделенный молодостью и красотой, которую он уже утратил.
Нетрудно догадаться, как все приставали с расспросами к князю, но никто не проявлял при этом большей настойчивости, чем граф де Шароле, который, подхватив в свой черед какой-то острый лишай, пребывал под угрозой оказаться примерно в таком же положении, в каком он видел князя, перед тем как тот покинул Париж, чтобы подвергнуться таинственному лечению, вернувшему ему здоровье.