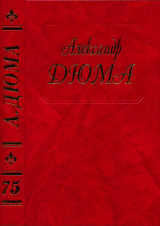
Текст книги "Путевые впечатления. Кавказ. Часть 1"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 33 страниц)
Офицеры крайне сожалели, что князя Мирского не было в Хасав-Юрте, но не сомневались, что и в его отсутствие командир полка сделает для нас все, что сделал бы и князь.
Вопрос состоял в том, чтобы достать лошадей, которые довезут нас до Чир-Юрта. В Чир-Юрте я должен был
найти князя Дондукова-Корсакова, чье имя и обходительность были мне известны. Во Флоренции я дрался на дуэли с его братом, умершим потом в Крыму, и это обстоятельство, учитывая рыцарский характер князя, добавляло мне уверенности, что я встречу у него добрый прием.
Я пригладил себе волосы щеткой, в то время как денщик одного из наших офицеров привел в порядок мои сапоги и одежду, и в сопровождении своего друга Калино отправился к подполковнику.
Подполковника не оказалось дома, и я оставил у него свою визитную карточку.
Перед домом подполковника находился необычайной красоты парк, который с населявшими его лебедями, журавлями, цаплями, аистами и утками показался мне своего рода ботаническим садом.
Решетчатая калитка парка была незаперта, а лишь притворена с помощью подпорок; я толкнул ее и вошел внутрь.
Как только я шагнул туда, ко мне подошел какой-то молодой человек лет двадцати трех—двадцати четырех.
– Вы, должно быть, господин Дюма? – спросил он меня.
– Да, сударь.
– А я сын генерала Граббе.
– Того, кто взял Ахульго?
– Того самого.
– Примите мои поздравления.
– Ваш отец, насколько я могу вспомнить, сделал в Тироле то, что мой сделал на Кавказе, и это должно избавить нас от всяких церемоний.
Я протянул ему руку.
– Мне только что стало известно о вашем прибытии, и я вас искал, – сказал он. – Князь Мирский будет очень огорчен, что его не оказалось на месте. Но позвольте мне в его отсутствие оказать вам гостеприимство.
Я рассказал ему, что со мной приключилось, какую я нашел себе квартиру и как мне только что не удалось застать дома подполковника.
– А видели вы свою хозяйку? – с улыбкой спросил меня молодой человек.
– Разве у меня есть хозяйка?
– Да. Так вы ее еще не видели? Это очень хорошенькая черкешенка из Владикавказа.
– Слышите, Калино?
– Если вы ее увидите, – продолжал г-н Граббе, – попробуйте заставить ее станцевать лезгинку: она прелестно ее танцует.
– В этом отношении у вас, вероятно, возможностей больше, чем у меня, – сказал я ему. – Будет ли невежливо, если я попрошу вас предоставить эти возможности в мое распоряжение?
– Изо всех сил постараюсь сделать это. Куда вы теперь направляетесь?
– Возвращаюсь домой.
– Хотите, я провожу вас?
– Буду рад!
Я вернулся домой.
Через несколько минут нам доложили о приходе подполковника Коньяра.
Это имя показалось мне счастливым предзнаменованием: его носили двое моих друзей.
Предчувствие меня не обмануло: если кто-нибудь и мог помочь мне унять сожаление, испытываемое мною из-за отсутствия князя Мирского, о котором мне столько говорили, причем с такой доброжелательностью, так это тот, кто его замещал.
Он просил нас не беспокоиться по поводу нашего отъезда, назначенного на следующий день: все было в его власти – и лошади, и конвой.
Кабардинский полк, находящийся под командованием князя Мирского и подполковника Коньяра, его заместителя, занимает самый передовой пост русских на вражеской земле.
Часто горцы, даже непокорные, просят разрешения прийти в Хасав-Юрт и продать там своих быков и баранов.
Это разрешение им всегда дается; однако покупать, напротив, им упорно запрещается.
В день нашего приезда двое горцев явились в город, имея охранное свидетельство, выданное подполковником, и продали тридцать быков.
Помимо скота, они доставляют в город мед, масло и фрукты.
Платят им, естественно, наличными.
Прежде всего они хотели бы купить здесь чай, но его строжайше запрещено им продавать.
Вот почему, назначая выкуп за пленных, они всегда оговаривают, чтобы кроме денег им давали еще в качестве подарка десять, пятнадцать, а то и двадцать фунтов чая.
Впрочем, набеги горцев распространяются даже на город: редкая ночь проходит без того, чтобы они кого– нибудь не похитили.
В конце лета солдаты и дети купались в Карасу. Было три часа пополудни, и подполковник прогуливался по крепостному валу.
В это время около пятнадцати всадников спустились к реке и стали поить своих лошадей прямо посреди купающихся.
Внезапно четверо из них схватили двух мальчиков и двух девочек, бросили их на седельную луку и стремительно унеслись прочь.
Услышав крики детей, подполковник увидел, что произошло, и отдал стрелкам приказ преследовать татар.
Стрелки спрыгнули или скатились с крепостного вала и погнались за похитителями, но те были уже далеко.
Однако один из захваченных мальчишек так больно укусил за руку своего похитителя, что тот выпустил его.
Мальчик соскользнул на землю.
Оказавшись на земле, он стал подбирать камни и с их помощью обороняться.
Татарин направил на него свою лошадь, однако мальчик змеей проскользнул между ее ног.
Татарин выстрелил в него из пистолета, но промахнулся.
Мальчик, более ловкий, попал ему камнем в лицо.
Стрелки тем временем приближались. Горец понял, что ему придется плохо, если он будет упорствовать; повернув коня, он оставил ребенка, и его подобрали стрелки.
Трое других все еще находятся в плену; вначале горцы запросили за них тысячу рублей, однако это были дети солдат, а у солдат нет возможности собрать тысячу рублей; выкупать же пленников за казенные деньги запрещено.
И тогда дамы Хасав-Юрта стали собирать пожертвования. В итоге набралось сто пятьдесят рублей. Их предложили горцам, уже снизившим выкуп с тысячи рублей, которые они требовали вначале, до трехсот.
Подполковник уверен, что в конце концов горцы согласятся и на сто пятьдесят.
В сделках подобного рода посредником обычно служит какой-нибудь татарин из числа жителей города. Посредника подполковника Коньяра зовут Салават.
Каждая из сторон имеет своих шпионов, однако и на той, и на другой стороне разоблаченных шпионов расстреливают.
Не так давно один из лазутчиков подполковника был схвачен; его отвели на возвышенность, которая видна из русского лагеря, и пистолетным выстрелом разнесли ему голову.
Через два дня нашли его тело, наполовину изглоданное шакалами.
Именно из Хасав-Юрта был послан к Шамилю полковой штаб-лекарь Пиотровский, а в полульё от Хасав– Юрта происходил обмен княгинь Орбелиани и Чавча– вадзе.
Пока подполковник Коньяр рассказывал нам все эти подробности, кто-то подошел к нему и сказал ему на ухо несколько слов.
Подполковник рассмеялся.
– Не позволите ли вы мне принять здесь одну особу? – спросил он меня. – Вы станете свидетелем одного из проявлений местных нравов, что будет для вас небезынтересно.
– Еще бы! – отвечал я. – Пусть войдет.
Татарская женщина, укутанная так, что видны были лишь ее глаза, спешилась у ворот и вскоре показалась в дверях нашей комнаты.
Узнав подполковника по мундиру, она направилась прямо к нему.
Подполковник сидел за столом.
Татарка остановилась по другую сторону стола, развязала небольшой мешок, висевший у нее на поясе, и вынула оттуда два человеческих уха.
Концом трости подполковник удостоверился в том, что это были два правых уха. После этого он взял перо, бумагу и чернила и выписал чек на получение двадцати рублей.
Затем, оттолкнув концом трости уши, он произнес по-татарски:
– Ступай к казначею!
Положив уши и чек в мешок, амазонка снова села на коня и во весь опор поскакала к казначею, чтобы получить у него свои двадцать рублей.
За каждую отрезанную голову горца назначено вознаграждение в десять рублей. Князь Мирский, несомненно питавший отвращение к этим кровавым трофеям, решил, что отныне достаточно будет приносить лишь правое ухо.
Однако ему не удалось добиться, чтобы его охотники придерживались этого нововведения. С тех пор как эти солдаты воюют с татарами, они взяли себе в привычку отрезать у убитого врага голову и продолжают поступать таким же образом, ссылаясь на то, что им неизвестно, где право, где лево.
Это вознаграждение в десять рублей, которое дают за правое ухо каждого убитого горца, напомнило мне историю, услышанную мною в Москве.
Из-за великого множества волков, опустошавших некоторые уезды в России, властям пришлось установить вознаграждение в пять рублей за каждого убитого волка.
Выдавалось оно при предъявлении волчьего хвоста.
В ходе ревизии 1857 года было обнаружено, что на эти цели израсходовано сто двадцать пять тысяч рублей.
Это составляет полмиллиона франков.
Так что волков набиралось чересчур много.
Было предпринято расследование, и выяснилось, что в Москве существует фабрика по производству поддельных волчьих хвостов, настолько похожих на настоящие, что лица, которым было поручено выплачивать это вознаграждение, не могли догадаться, что перед ними подделка.
Теперь вознаграждение понижено до трех рублей и выдается только по предъявлении всей головы целиком.
Возможно, однажды вскроется, что в Кизляре, Дербенте или в Тифлисе существует фабрика по производству поддельных чеченских ушей.
Подполковник Коньяр пригласил нас отобедать у него в пять часов, а капитан Граббе – мимоходом зайти к нему в комнату.
Он намеревался показать нам свои рисунки, которые, по его словам, непременно должны были нас заинтересовать.
XIII ГОЛОВОРЕЗЫ
Пока мы беседовали с подполковником Коньяром, Калино, имевший перед нами два больших преимущества, а именно, знание языка и молодость, отыскал нашу хозяйку-черкешенку и уговорил ее войти в гостиную.
Это была прехорошенькая особа лет двадцатидвадцати двух, одетая по владикавказской моде и, на мой взгляд, осознавшая, что куда приятнее иметь дело с головой, которую кружишь, чем с головой, которую отрезаешь.
Калино, еще не зная, что мы приняли приглашение на обед к подполковнику, склонил нашу прекрасную черкешенку к решению отобедать вместе с нами.
Нам оставалось лишь весьма сожалеть о таком совпадении, но мы уже дали слово. К счастью, Калино и наш молодой дербентский офицер никому ничего не обещали; они могли остаться и, имея в своем распоряжении повара, с успехом заменить нас.
Мы принесли извинения красавице Лейле (так звали нашу хозяйку) и пообещали ей вернуться тотчас после обеда, если она, со своей стороны, соблаговолит станцевать для нас. Договорившись об этом, мы вместе с капитаном Граббе вышли из дома.
Капитан ввел нас в свою небольшую милую квартиру, окна которой выходили в тот самый ботанический сад, и стал показывать нам свои зарисовки.
Не будучи профессионалом, он явно обладал большим дарованием, в особенности по части портретов.
Среди этих портретов было три-четыре, к которым, по-видимому, он питал особое пристрастие. Те, кого капитан запечатлел на них, были изображены по пояс. Их лица на портретах, размером всего лишь с монету в десять су, поражали своей выразительностью.
Что же касается их одежды, то все они были облачены в одинаковые мундиры.
– До чего же красивые бороды, и какие великолепные лица! – воскликнул я. – Но кто эти славные малые?
– Лучшие сыны земли, – отвечал он. – Однако у них есть одна странная причуда.
– Какая?
– Они поклялись отрезать каждую ночь хотя бы по одной чеченской голове и, подобно горским абрекам, неукоснительно исполняют свою клятву.
– Ну и ну! Да ведь это же получается выгодное занятие! По десять рублей за голову, итого три тысячи шестьсот пятьдесят рублей в год.
– О, они делают это не из-за денег, а ради удовольствия. У них есть общая касса, и, когда речь заходит о том, чтобы выкупить какого-нибудь пленника, они всегда первыми вносят пожертвования.
– Ну а горцы, что они говорят по этому поводу?
– Они как могут отплачивают им подобным же образом; вот почему у тех, кого я здесь изобразил, такие красивые бороды и такие красивые шевелюры: это, по их собственным словам, для того, чтобы чеченцы, отрезая им голову, знали, за что ее схватить.
– И у вас целый полк таких удальцов?
– О нет! Пришлось бы обыскать всю русскую армию, чтобы собрать полк из подобных солдат. Этот отряд был основан князем Барятинским в бытность его командиром Кабардинского полка. Он и вооружил их карабинами. Вот взгляните: это превосходные тульские ружья, двуствольные, приспособленные под обычные солдатские пули и со штыком длиной в шестьдесят сантиметров.
– Штык – немалая помеха хорошему стрелку: это линия, по которой взгляд невольно скользит, отклоняясь в сторону.
– Штык складывается под стволом ружья и возвращается в первоначальное положение лишь по воле стрелка, при нажатии на пружину.
– Прекрасно! Ну а возвращаясь к этим портретам?
– Это портреты трех из них: Баженюка, Игнатьева и Михайлюка.
– Я полагаю, вы выбрали самых красивых?
– Нет, уверяю вас, я взял их наугад.
– А можно нам увидеть их?
– Мне кажется, подполковник намерен устроить сегодня вечером небольшой праздник в вашу честь, который пройдет в нашем клубе, хотя это просто-напросто лавка бакалейщика. Ну а поскольку ни один стоящий праздник не проходит без охотников, вы их там и увидите.
– Но, стало быть, в эту ночь они не смогут совершить свою экспедицию?
– О! Они все равно совершат ее, чуть попозже, только и всего.
В эту минуту в голову мне пришла мысль, которая меня больше не оставляла: ближайшей ночью отправиться вместе с охотниками в экспедицию.
По-видимому, такая же мысль пришла в голову и Муане: мы переглянулись и рассмеялись.
Впрочем, ни он, ни я не обмолвились об этом ни единым словом.
В эту минуту пробило пять часов.
– А как же подполковник? – произнес я.
– И все же мне очень хотелось бы снять копию с ваших рисунков, – сказал Муане, обращаясь к г-ну Граббе.
– В котором часу вы завтра уезжаете? – спросил капитан.
– Нас ничто не торопит, – живо откликнулся я. – Нам предстоит проделать отсюда до Чир-Юрта всего лишь тридцать или тридцать пять верст.
– Что ж, – сказал капитан Граббе, – вы увидите наших удальцов сегодня вечером и укажете тех из них, кто вам понравился, а я пришлю их к вам завтра утром. Уверен, что вам не приходилось иметь дело с более терпеливыми моделями: эти молодцы будут позировать вам целый час и при этом ни разу не моргнут.
Успокоенный таким обещанием, Муане без всяких возражений отправился в гости к подполковнику.
На протяжении всего обеда разговор шел о местных нравах, обычаях и легендах. Подполковник Коньяр, француз по происхождению, на что указывает его фамилия, – человек тонкого ума, очень наблюдательный и говорящий по-французски так, будто он всю свою жизнь прожил в Париже.
Так что обед прошел столь же быстро, как проходили те знаменитые обеды Скаррона, на которых умение его жены вести разговор служило тому, чтобы заставить забыть об отсутствующем жарком.
К восьми часам нам следовало явиться в клуб офицеров Кабардинского полка. Обед закончился в двадцать минут седьмого. Мы попросили у подполковника разрешения исполнить обещание, данное нами нашей хозяйке, и провести с ней час, который она, со своей стороны, обещала использовать для того, чтобы познакомить нас с черкесским и лезгинским танцами.
Получив разрешение, мы тотчас вернулись к себе. Трое сотрапезников уже приступили к десерту.
Прекрасная Лейла была в праздничном наряде: на голове у нее красовалась маленькая шитая золотом шапочка с длинной газовой вуалью, ниспадающей до бедер; на плечах ее было длинное платье черного атласа, обшитое золотым сутажом; поверх этого платья, широкие рукава которого значительно превосходили длиной руки, она надела небольшую шелковую тунику белорозового цвета, облегающую плечи, облегающую стан и облегающую, а скорее, обрисовывающую бедра и ниспадающую до самых колен.
Талию подчеркивал серебряный пояс, на котором висел небольшой кривой кинжал из инкрустированной золотом слоновой кости; его ножны служили одновременно футляром для чрезвычайно изящного маленького ножа. Весь этот наряд, скорее, я полагаю, грузинский, чем черкесский, завершался остроконечными расшитыми золотом бархатными туфельками, лишь изредка выглядывавшими из-под длинных складок черного атласного платья, чтобы показать очаровательную ножку.
Говорят, что черкесы – самый красивый народ на свете.
Возможно, это справедливо в отношении мужчин, однако спорно в отношении женщин.
По моему мнению, грузин все же может поспорить с черкесом в красоте.
У меня навсегда осталось в памяти впечатление, которое посреди татарско-ногайских степей произвел на меня облик первого встреченного нами грузина.
В течение трех, а то и четырех недель мы путешествовали среди калмыков и монголов, вид которых являл нашему взору два бесспорно самых ярко выраженных типа человеческого безобразия, каким оно представляется нам, жителям Запада: желтый цвет лица, лоснящаяся кожа, узкие глаза, приплюснутый или почти отсутствующий нос, клочковатая борода, нечесанные волосы, вошедшая в поговорку неопрятность – вот все, что с утра до вечера радовало наш взор.
Но вдруг, приехав на какую-то почтовую станцию, мы увидели человека лет двадцати пяти—тридцати, который стоял на крыльце, изящно прислонившись к дверному косяку; на голове у него была шапка, похожая на персидскую, но не такая высокая; его матовое лицо обрамляли прекрасные блестящие волосы, мягкие как шелк, и черная борода с красноватым отливом; его брови казались нарисованными кистью, а черные блестящие глаза с выражением отстраненности затенялись бархатными ресницами; нос его, казалось, послужил моделью для носа Аполлона Пифийского; алые как коралл губы, видневшиеся сквозь черную бороду, оттеняли перламутровые зубы. И при всем том этот греческий бог, сошедший на землю, этот Диоскур, забывший взойти на Олимп, был в изорванной чохе и обратившемся в лохмотья бешмете, а его голые ноги выглядывали из-под широких штанов лезгинского сукна.
Муане и я невольно воскликнули от восхищения, настолько ценится красота у цивилизованных народов, настолько бесполезно ее оспаривать, настолько невозможно не распознать ее, в чьих бы чертах она ни проявлялась – мужчины или женщины!
Я поинтересовался у молодого человека, к какой народности он принадлежит, и услышал в ответ, что он грузин.
Так вот, на мой взгляд, единственное преимущество, каким в отношении красоты черкес обладает перед грузином, заключается в том, что всегда будет в выгодную сторону отличать горца от городского жителя, то есть в живописности, дополняющей совершенство внешнего облика.
Черкес со своим соколом на руке, с буркой на плечах, с башлыком на голове, с кинжалом за поясом, с шашкой на боку, с ружьем за плечом – это возродившееся Средневековье, это пятнадцатое столетие, явившееся в середину девятнадцатого.
Грузин в своем красивом наряде, сплошь из шелка и бархата, – это цивилизация семнадцатого столетия, это Венеция, Сицилия, Греция, это то, что вы видели наяву.
Черкес – это то, что вы видите в грезах.
Что же касается черкешенок, то, возможно, слава об их красоте, чересчур превозносимой, вредит им, особенно при первой встрече с ними. Правда, те черкесы, каких мы видели, не были горными, и вполне вероятно, что изначальная красота их женщин оскудела, когда они сошли на равнину. Впрочем, чтобы составить себе понятие о красоте черкесских женщин, оценить ее и высказать о ней суждение, надо иметь возможность изучить ее так, как сделали это некоторые путешественники и как, видимо, сделал это Ян Стрейс, на кого, мне кажется, можно положиться тем более, что он принадлежит к народу, который не так уж легко воспламеняется.
Ян Стрейс, как это заметно по его имени, голландец.
Мы приведем здесь выдержку из того, что он говорит о черкешенках: порой менее затруднительно и, главное, менее стеснительно цитировать другого, чем писать самому.
«Все кавказские женщины, – говорит Ян Стрейс, – обладают приятностью и чем-то таким, что заставляет их любить. Они красивы и белотелы, и к этой белизне примешиваются такие прекрасные краски, будто лилии и розы соединились в нужном месте, чтобы сделать красоту еще совершеннее. Чело их высокое и гладкое, и без всяких ухищрений брови у них столь тонки, что похожи на загнутую шелковую нить. Глаза большие, кроткие и полные страсти; нос правильный, уста алые, рот маленький и улыбающийся, а подбородок такой, каким он и должен быть, чтобы довершить идеальный овал лица. Шея и грудь отличаются белизной и полнотой, которая требуется знатокам совершенной красоты, а на плечи, пышные и белые как снег, падают длинные черные как смоль волосы, то распущенные, то заплетенные, но всегда красиво подчеркивающие округлый контур лица.
Говоря об их персях, я уделил этому так мало времени, как если бы речь шла о чем-то обыкновенном, а между тем нет ничего столь же редкого и заслуживающего большего внимания. Два эти шара превосходно расположены, прекрасны по форме и обладают невероятной упругостью, и я могу сказать без преувеличения, что нет на свете ничего белее и чище, ибо их обладательницы считают одной из главных своих забот мыть эти прелести каждый день, опасаясь, как они говорят, из-за пренебрежения такой обязанностью сделаться недостойными тех милостей, какими одарило их Небо. Стан у этих женщин прекрасен, высок и легок, а движения всего тела выглядят свободными и непринужденными.
Наделенные столь прекрасной внешностью, они не жестокосердны, не боятся любезностей мужчины, из какой бы страны он ни прибыл, и, если даже он приближается к ним и касается их, они, никоим образом не отталкивая его от себя, совестятся помешать ему сорвать при этом столько лилий и роз, сколько нужно для букета правильных размеров. И если женщины эти сговорчивы, то мужья их, со своей стороны, весьма покладисты и с равнодушным видом наблюдают за тем, как обхаживают их жен, из-за которых они не впадают ни в безумие, ни в ревность, ссылаясь на то, что женщины подобны цветам, чья красота была бы бесполезна, если бы не было глаз, чтобы смотреть на них, и рук, чтобы дотрагиваться до них».
Вот что слогом, вполне достойным Бенсерада, написал в Амстердаме в 1661 году, в начале царствования Людовика XIV, галантный путешественник Ян Стрейс.
Поскольку исследования, проведенные им в отношении черкешенок, явно глубже, чем мои, я ограничусь тем, что присоединюсь к его мнению и посоветую моим читателям поступить так же.
Впрочем, слава о красоте черкешенок утвердилась настолько, что на рынках Трапезунда и на базарах Константинополя за них платят почти всегда вдвое, а порой втрое больше, чем за женщину, красота которой на первый взгляд показалась бы нам равной их красоте или даже превосходящей ее.
Кстати, это отступление вовсе не удалило нас от нашей хозяйки, а напротив, приблизило к ней.
Она обещала нам станцевать и сдержала слово. Однако, поскольку мы не позаботились привести с собой какого– нибудь музыканта, ей пришлось танцевать под аккомпанемент ручной гармоники, на которой она сама и играла, что лишило танец изящных движений ее рук.
Тем не менее увиденный нами танец был настолько очарователен, что мы обязались привести с собой после клуба какого-нибудь музыканта, чтобы прекрасная Лейла могла снискать успех, во всем достойный ее мастерства.
В восемь часов капитан Граббе пришел за нами: все уже собрались в клубе и ждали нас.
Как нас заранее предупредили, клуб этот был просто– напросто лавкой бакалейщика. На прилавке, который тянулся во всю ее длину и позади которого могли находиться лишь привилегированные лица, были расставлены сыры всех видов и разнообразные фрукты, как свежие, так и засахаренные.
Но что пугало взор, так это двойной ряд бутылок шампанского, протянувшийся от одного конца прилавка до другого с правильностью, которая делала честь русской дисциплине.
И в самом деле, ни одна из них не выступала вперед, ни одна не соприкасалась с другой.
Я не считал их, но наверное, здесь было от шестидесяти до восьмидесяти бутылок.
Таким образом, на гостя приходилось по две или три бутылки, и то при условии, что не понадобится посылать в погреб за подкреплением.
Столько, сколько пьют в России, не пьют нигде, разве что в Грузии.
Было бы весьма любопытно увидеть состязание между русскими и грузинскими любителями выпить. Я держу пари, что число опорожненных бутылок достигнет дюжины на человека, но не берусь сказать заранее, за кем останется победа.
Впрочем, сам я уже закалился в такого рода битвах. В обычной своей жизни я пью лишь чуть подкрашенную вином воду, а если вода хорошая, то я пью ее чистой.
Полный невежда в сортах вин, способный спутать бордо с бургундским, я, напротив, могу очень тонко улавливать вкус воды. Когда я жил в Сен-Жермене и мой садовник, проявляя лень, ходил набирать воду в ближнем источнике, а не в том, водой какого я обычно утолял жажду, мне тотчас удавалось распознать эту подмену.
Однако, как и всех тех, кто пьет мало, меня очень трудно довести до опьянения, хотя сказанное и выглядит парадоксом.
Легкость, с какой хмелеют те, кто пьет много, зиждется на том, что у них всегда остается хмель от выпитого накануне.
Так что я с избытком воздал должное восьмидесяти бутылкам шампанского, оказавшимся на празднике, героем которого мне довелось стать.
Тем временем в соседней комнате стали раздаваться звуки татарского тамбурина и лезгинской флейты. Это наши головорезы, охотники Кабардинского полка, пришли показать нам образчик своего танцевального мастерства.
Как только дверь отворилась и мы в качестве зрителей вошли в комнату, я узнал оригиналы увиденных мною портретов – Баженюка, Игнатьева и Михайлюка. Они крайне удивились, когда я обратился к ним по имени, и то, что я был осведомлен о них заранее, немало способствовало ускорению нашего знакомства.
Минут через десять мы были уже лучшими друзьями на свете и они подбрасывали нас на руках, словно детей.
Каждый танцевал как умел: кабардинские охотники исполняли черкесский и лезгинский танцы; Калино, один из лучших и, главное, неутомимейших танцоров, каких я когда-либо знавал, отвечал им трепаком. Еще немного, и я тоже вспомнил бы дни своей молодости и, затянув кавказцев в канкан, показал бы им образчик нашего народного танца.
В десять часов вечеринка закончилась; мы попрощались с подполковником, назначившим наш отъезд на следующий день, на одиннадцать часов утра, ибо ему нужно было время, чтобы предупредить одного татарского князя о том, что по пути мы заедем к нему пообедать; затем мы попрощались с молодыми офицерами, среди которых выделялись трое или четверо в солдатских шинелях, причем те, кто носил эти шинели – я чуть было не написал по ошибке «кто имел эти шинели»: солдат не владеет ничем, даже своей шинелью, – показались нам такими же веселыми и свободными в обращении со своими начальниками, как и все прочие.
Это были молодые офицеры, за политические преступления разжалованные в солдаты. В глазах своих товарищей они совершенно ничего не теряют вследствие этого разжалования и, благодаря людской сердечности, которая должна была бы восхищать русское правительство, но с которой, я полагаю, оно всего лишь мирится, имеют на Кавказе то общественное положение, какого их лишили в Москве и Санкт-Петербурге.
Уходя, мы попросили у подполковника разрешения взять с собой Баженюка, Игнатьева и Михайлюка, что и было нам позволено, но при условии, что к полуночи они будут свободны.
Дело в том, что на это время был назначен секрет.
Так называют ночной поход против похитителей мужчин, женщин и детей.
Мы пообещали трем нашим кабардинцам вернуть им свободу в любую минуту, когда им это будет угодно. Они вполголоса обменялись несколькими словами со своими товарищами, и мы вернулись в свою квартиру, где, как нам было известно, нас ожидала хозяйка, как исполнительница получавшая от танца столько же удовольствия, сколько она доставляла его нам как зрителям.
XIV СЕКРЕТ
Среди трех кабардинцев, которых мы привели с собой, один оказался не только замечательным танцором, но еще и отличным музыкантом. Это был Игнатьев.
Толстый, коренастый и, при всей своей приземистости, сложенный как Геркулес, он в своей огромной, как его плечи, папахе, кудрявая шерсть которой доходила ему до носа, и со своей рыжей бородой, которая доходила ему до пояса, являл собой одну из самых забавных и в то же время одну из самых устрашающих личностей, каких мне когда-либо доводилось видеть.
Своими короткими и сильными руками он играл на скрипке, причем особенность его игры заключалась в том, что скрипка была у него в правой руке, а смычок – в левой.
Этим смычком он водил по струнам скрипки с такой же силой, какая понадобилась бы, чтобы заставить скрежетать пилу, вгрызающуюся в кусок железного дерева.
Теперь наша хозяйка могла танцевать не только ногами, но и руками.
Вначале нам подумалось, что ее охватит легкий испуг при виде физиономий трех кабардинцев, которых мы к ней привели, однако они, несомненно, были ей знакомы, ибо она приняла их с милой улыбкой, протянула руку Баженюку и обменялась несколькими словами с Игнатьевым и Михайлюком.
Игнатьев вынул из-под своей черкески скрипку и принялся наигрывать на ней лезгинку.
Не заставляя себя никак иначе упрашивать, Лейла тотчас начала танцевать, а Баженюк составил ей пару.
Я уже говорил о глубочайшей заунывности русского танца: он напоминает те погребальные танцы, какие совершали греки у могил усопших. Восточные танцы ничуть не веселее, если только, как пляски любовников и баядерок, они не становятся бурными.
Но пусть и безудержные, даже бесстыдные, они все равно никогда не бывают веселыми.
Это никоим образом не танцы, а медленное хождение взад и вперед, в котором ноги ни на мгновение не отрываются от пола; руки, куда более вовлеченные в это действие, чем ноги, двигаются так, будто они кого-то притягивают или отталкивают; мелодия, всегда одна и та же, продолжается до бесконечности, так что музыкант, танцоры и танцорки наверняка могут совершать подобного рода движения целую ночь, не ощущая утром ни малейшей усталости.
Бал продолжался до полуночи, причем одной и той же танцорки оказалось достаточно и для Баженюка, и для Михайлюка и для Калино, который время от времени, не в силах удержаться, переходил от лезгинского или кабардинского танца к русской пляске.
Что же касается Игнатьева, который вроде бы должен был утомиться больше всех, поскольку ему приходилось больше всего отдаваться этому увеселению, то он казался неутомимым.
В полночь какой-то шум послышался во дворе, а затем в коридоре: это за нашими охотниками явились их товарищи. Пришедшие были в походной одежде, то есть вместо праздничных черкесок, в которых они еще совсем недавно принимали нас, на них были оборванные черкески.
Эти черкески, служившие охотникам боевым нарядом, обтрепались во время их ночных походов среди колючих зарослей; между ними не было ни одной, на которой не виднелось бы следов пули или кинжала, ни одной, на которой не осталось бы пятен крови.








