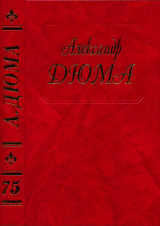
Текст книги "Путевые впечатления. Кавказ. Часть 1"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 33 страниц)
Муане вернулся через час: он был по уши в грязи, что не помешало ему восхищаться Кизляром. Описанная мною улица привела его в восторг, и он сделал прелестную ее зарисовку.
В половине восьмого дрожки городничего стояли у ворот.
Двое конников с фонарями держались впереди. При свете фонарей было видно, как поблескивают у них за поясом рукоятки пистолетов и эфесы кинжалов.
Двое казаков с шашкой на боку и с ружьем на коленях изготовились скакать по обеим сторонам дрожек.
Мы заняли места в экипаже, и дрожки, конники с фонарями и казаки помчались галопом, взметая вокруг себя брызги воды и грязи.
По дороге мне показалось, что я услышал несколько ружейных выстрелов.
Мы прибыли первыми. Встретившись со мной утром, г-жа Полнобокова еще не знала, кто я такой; моя подорожная и в особенности мой наряд ввели ее в заблуждение: она приняла меня, как и другие, за французского генерала и из одного лишь чувства гостеприимства вела себя с нами столь любезно, что более любезной, мне казалось, она быть уже не могла.
Однако я ошибся. Теперь, узнав, что я тот, кому, по ее утверждению, она была обязана лучшим своим развлечением, хозяйка дома не знала, как, в свою очередь, отблагодарить меня за те прекрасные минуты, какие, по ее словам, я ей доставил.
Явилось еще пять или шесть персон; все они, особенно женщины, безупречно говорили по-французски.
Я искал взглядом городничего. Госпожа Полнобокова предупредила мой вопрос.
– Не слышали ли вы, направляясь сюда, ружейные выстрелы? – поинтересовалась она у меня.
– Да, конечно, – отвечал я, – прозвучали три выстрела.
– Именно так; стреляли со стороны Терека, а когда стреляют оттуда, к этому всегда нужно относиться серьезно. Мой муж теперь вместе с полицмейстером. Я полагаю, что в ту сторону, откуда послышался шум, на разведку послали казаков.
– В таком случае, мы скоро узнаем новости?
– Вероятно, через минуту.
Остальные гости, по-видимому, менее всего на свете были встревожены ружейными выстрелами; они беседовали, смеялись, и складывалось впечатление, будто вы находитесь в парижской гостиной.
Вошедшие вскоре городничий и полицмейстер вступили в общий разговор, причем на их лицах не отражалось ни малейшего беспокойства.
Был подан чай со множеством армянских варений, одно необычнее другого. Какие-то из этих варений были приготовлены из лесных тутовых ягод, другие – из дягиля; поданные вместе с ними конфеты тоже имели восточный характер: в них примечателен был скорее аромат, чем вкус.
Слуга, облаченный в чересский наряд, подошел к городничему и что-то сказал ему на ухо. Тот сделал знак полицмейстеру и вышел.
Полицмейстер последовал за ним.
– Вот и ответ? – спросил я г-жу Полнобокову.
– Вероятно, – ответила она и добавила: – Хотите еще чашку чая?
– С удовольствием.
Я подсластил сахаром чай, добавил в него чуточку сливок и стал пить его маленькими глотками, не желая казаться более любопытным, чем другие.
Тем не менее взгляд мой не отрывался от двери.
Городничий вернулся один.
Поскольку он не говорил по-французски, я принужден был подождать, пока г-жа Полнобокова не соблаговолит удовлетворить мое любопытство. Она поняла мое нетерпение, хотя, вероятно, оно казалось ей преувеличенным.
– Так что же? – спросил я ее.
– Ровно в двухстах шагах от вашего дома, – отвечала она, – нашли тело какого-то человека, простреленное двумя пулями. Поскольку его уже дочиста ограбили, невозможно определить, кто это был. Несомненно, это какой-то купец, приехавший сегодня в город, чтобы продать свой товар, и намеревавший здесь задержаться. Кстати, сегодня ночью, если вы оставите у себя в комнате свет, не забудьте закрыть ставни: сквозь окно в вас вполне могут выстрелить из ружья.
– Какую же пользу это принесет тому, кто в меня выстрелит, если дверь заперта?
– Да ведь выстрелят просто из прихоти: эти татары такие странные люди!
– Слышите? – спросил я Муане, делавшего какой-то набросок в альбоме г-жи Полнобоковой.
– Слышите? – спросил Муане у Калино.
– Слышу, – ответил Калино с обычной своей серьезностью.
Ну а я взял альбом г-жи Полнобоковой, и на его чистой странице, следовавшей за той, где Муане сделал свой набросок, принялся писать стихи, не думая более об убитом, как не думали, видимо, о нем и другие.
По прошествии двух недель моего пребывания на Кавказе я понял это равнодушие, так сильно удивлявшее меня вначале.
В одиннадцать часов все стали расходиться. Вечер продлился много дольше обычного. Возможно, уже целый год ни один вечерний прием не заканчивался в столь позднее время.
Передняя напоминала караульное помещение: каждый из явившихся на прием гостей привел с собой одного или даже двух вооруженных до зубов слуг.
Мои дрожки в окружении двух конников с фонарями и двух казаков ожидали меня у ворот. Мне это стоило три рубля: рубль – кучеру, рубль – двум конникам с фонарями и рубль – двум казакам; однако, испытав столь необычные душевные волнения, я нисколько не сожалел об этих деньгах.
Мне не нужно было закрывать ставни: об этом позаботился наш молодой хозяин, который явно преисполнился предупредительностью к нам.
Я лег на лавку, закутался в шубу и вместо подушки положил под голову свою корзинку[12].
Это случалось со мной почти каждый вечер, с тех пор как я покинул Елпатьево[13].
VII «ГАВРИЛЫЧИ»
Когда вечером ложишься спать на доске, в шубе, заменяющей тебе и матрас, и одеяло, то наутро покинуть свою постель не составляет особого труда.
На рассвете я соскочил со своего ложа, умыл лицо и руки в медном тазу, купленном мною в Казани ради того, чтобы наверняка иметь возможность пользоваться в дороге этой туалетной принадлежностью, которая является одним из самых редких в России предметов домашнего обихода, и затем разбудил своих спутников.
Ночь прошла без всяких происшествий.
Необходимо было быстро позавтракать и как можно скорее отправляться в путь: мы могли прибыть в Шелковую, где у нас был намечен следующий ночной привал, лишь довольно поздно, а чтобы попасть туда, нам предстояло пересечь одно чрезвычайно опасное место.
То был густой подлесок, который подступал к самой дороге, превращая ее в теснину, а от дороги поднимался в гору.
За восемь или десять дней до нас какой-то офицер, торопившийся прибыть в Шелковую и не заставший на станции Новоучрежденной казаков, решил продолжить путь, хотя его предостерегали об опасности. Он ехал в кибитке – своего рода крытой телеге с откидным верхом.
Оказавшись посреди леса, о котором только что шла речь, он вдруг увидел конного чеченца, выскочившего из чащи и бросившегося прямо на него. Офицер взвел курок пистолета и в ту минуту, когда чеченец был не далее четырех шагов от кибитки, нажал на спуск.
Пистолет дал осечку.
У чеченца тоже был пистолет в руке, но, вместо того чтобы выстрелить в офицера, он выстрелил в одну из лошадей, запряженных в кибитку.
Лошадь упала с пробитой головой, и повозка была вынуждена остановиться.
При звуке пистолетного выстрела человек двенадцать пеших чеченцев, в свою очередь выскочив из чащи, бросились на офицера, который успел ранить шашкой одного или двух из них, но тотчас же был повален, раздет, скручен и за шею привязан к хвосту лошади.
Горцы проделывают такие трюки удивительно ловко; у них всегда наготове веревка со скользящей петлей; пленника привязывают к лошади, и она пускается в галоп, прежде чем бедняга успеет позвать на помощь.
К счастью для офицера, казаки, которых он не застал на станции, оставшейся за его спиной, возвращались со станции, находившейся впереди него; издалека увидев схватку, они поняли, что происходит нечто чрезвычайное, пустили своих коней в галоп, подъехали к кибитке и, узнав от ямщика о нападении чеченцев, во весь опор бросились в погоню за ними.
Пешие разбойники бросились ничком на землю, и казаки их не заметили; конный же чеченец подгонял свою лошадь коленями, а пленника – плетью, однако тот, утратив гибкость из-за сковывавшей его движения веревки, замедлял бегство всадника.
Услышав позади себя топот казачьих коней, чеченец выхватил кинжал; офицер подумал, что кинжал этот предназначается ему, но, к счастью, горец ограничился тем, что перерезал веревку, которой пленник был привязан к хвосту лошади.
Полузадушенный офицер покатился по траве, а горец вместе со своим конем бросился в Терек.
Казаки выстрелили ему вслед, но промахнулись.
Горец торжествующе закричал, достиг другого берега, потрясая ружьем, и оттуда выпустил в своих противников пулю, раздробившую одному из них руку.
Двое казаков стали оказывать помощь своему товарищу, а трое других занялись офицером.
Поскольку чеченец волочил обнаженного пленника сквозь заросли, состоявшие из держи-дерева, все тело несчастного представляло собой одну сплошную рану.
Один из казаков дал ему свою лошадь и бурку, и он, еле живой, добрался до Шелковой.
Госпожа Полнобокова, предупредив нас об опасном месте на дороге, рассказала об этом происшествии, и мы дали ей обещание пересечь подобное malo sitio[14], как говорят в Испании, засветло и как можно раньше.
Однако нельзя было отправляться в путь, не позавтракав.
В ту самую минуту, когда я велел ощипать одного из двух цыплят и уже готовился зажарить его на сковороде, явился полицмейстер.
Он пришел пригласить нас к себе на завтрак.
Завтрак был уже готов, и нам оставалось лишь перейти через улицу.
Я хотел было принести извинения и отказаться от этого предложения, однако полицмейстер признался, что его жена, намеревавшаяся провести предыдущий вечер у своей сестры, г-жи Полнобоковой, но не решившаяся отправиться к ней без конвоя – вспомним, что все казаки были в разъездах в связи с ружейной пальбой, – желала познакомиться со мной, и он главным образом от ее имени явился пригласить меня.
Ничего не оставалось, как подчиниться.
Калино задержался дома, чтобы руководить укладкой наших съестных припасов. У нас было девять бутылок отличного вина, и, если мы хотели их выпить, что определенно входило в наши намерения, следовало обращаться с ними как можно бережнее.
С тарантасом и телегой Калино должен был присоединиться к нам в доме у полицмейстера.
Муане и я отправились к полицмейстеру.
В доме у него мы обнаружили двух дам вместо одной.
Помимо жены полицмейстера, там была ее золовка, которая не желала упустить случай увидеть автора «Монте-Кристо» и «Мушкетеров» и еще на рассвете прибыла туда с этой целью.
Обе дамы говорили по-французски.
Одна из них, полицмейстерша, оказалась отличной музыкантшей; она села за фортепьяно и спела нам несколько прелестных русских романсов, в том числе и «Горные вершины» на слова Лермонтова.
Скоро мне представится случай поговорить об этом великом поэте, русском Альфреде де Мюссе; в то время, когда он еще был совершенно неизвестен во Франции, я опубликовал в «Мушкетере» его лучшее произведение «Печорин, или Герой нашего времени».
Калино прибыл с тарантасом и телегой, и, так как мы ждали лишь его, чтобы приняться за завтрак, все тотчас сели за стол.
Разговор, естественно, зашел о татарах.
Хозяйка дома подтвердила нам то, что рассказал полицмейстер: поскольку накануне вечером ее муж отлучился из-за ружейной пальбы, она, не имея конвоя, при всем своем желании увидеть меня не решилась идти к сестре. Вновь прозвучали, причем с еще большей настойчивостью, советы, данные нам накануне г-жой Полнобоковой, и это побудило дам заявить, что они никоим образом не хотят, чтобы из-за них мы задерживались, а потому отпускают нас.
Речь шла прежде всего о том, чтобы засветло проехать лес возле Шелковой.
Этот злополучный лес тревожил всех.
В итоге мы и сами начали испытывать такую же тревогу и простились с нашими прелестными хозяйками, пожелавшими проводить нас до самого экипажа.
Так что вместе с нами они вышли на крыльцо.
Мы сели в тарантас, однако полицмейстерша смотрела на нас с беспокойством: по-видимому, наш конвой из шести казаков не внушал ей доверия.
– Вы чем-то встревожены, сударыня? – обратился я к ней.
– Разумеется, – отвечала она. – Неужели у вас нет другого оружия, кроме кинжала?
Я поднял покрывало, наброшенное на переднюю скамью, и глазам полицмейстерши открылись три двуствольных ружья, два карабина, один из которых был рассчитан на разрывные пули, и револьвер.
– О, это хорошо, – сказала она, – вот только выезжайте из города, держа ружья в руках, чтобы все видели, что вы вооружены. Среди тех, кто на вас сейчас смотрит (вокруг нас и в самом деле толпились зеваки), вполне могут быть два-три татарских лазутчика.
Последовав этому дружескому совету, каждый из нас взял по двуствольному ружью и поставил его прикладом вниз себе на колено; мы простились с дамами и в этих грозных позах покинули Кизляр среди глубокого молчания восьмидесяти, а то и ста зрителей, наблюдавших за нашим отъездом.
Едва выехав из города, мы опустили ружья в более удобное положение.
Когда ты привык к парижской жизни и к безопасности дорог во Франции, необычайно трудно поверить в опасность, подобную той, какая, по словам всех окружающих, угрожала нам; однако встреча, которую мы имели за два дня до этого, и последовавшие за ней ружейные выстрелы[15] подсказывали, что мы находимся в краях если и не вражеских, то, по крайней мере, неспокойных.
На самом деле, лишь на следующий день нам предстояло въехать в края по-настоящему вражеские.
Края эти столь же далеки, сколь и опасны; мне понадобилась вся моя сила воли, чтобы внушить себе, что я нахожусь посреди этих почти сказочных земель, по карте которых мне доводилось не раз странствовать, и убедить себя, что в нескольких верстах по левую руку от меня находится Каспийское море, что я проехал по калмыцким и татарским степям и что река, на берегу которой нам придется вскоре остановиться, это Терек, воспетый Лермонтовым, Терек, берущий начало у подножия скалы Прометея и опустошающий землю, где властвовала мифологическая царица Дарья.
Мы и правда остановились на берегу Терека и стали ждать парома, который должен был вернуться за нами, переправив караван лошадей, буйволов и верблюдов.
Все речные паромы в России (по крайней мере, в той ее части, по какой мы проехали) содержатся за счет правительства, и перевозят на них бесплатно. В этом отношении Россия менее всех других стран на свете усердствует во взимании податей.
В том месте, где нам предстояло переправиться через Терек, он вдвое шире Сены.
Мы вышли из тарантаса, поскольку берега у реки крутые, и разместились на пароме вместе с одной из наших повозок и командиром конвоя; все прочие казаки остались стеречь на берегу другую нашу повозку – настолько велика здесь уверенность в честности местных жителей.
В самом деле, пока нас переправляли, второй ямщик мог бы во весь опор ускакать с нашей телегой, и черт знает, как говорят русские, никогда не употребляющие слова «Бог» в подобном случае, черт знает, повторяю, где бы мы его настигли.
Мы измерили глубину Терека шестом – она составляла семь или восемь футов. Несмотря на такую глубину реки, чеченцы пересекают ее вплавь вместе со своими пленниками, привязанными к лошадиному хвосту, и это уже дело несчастных, как они сумеют удержать голову над водой.
Вот тут-то, как рассказывала нам жена кизлярского городничего, женщины и простуживаются.
В ожидании телеги я, желая показать командиру конвоя превосходство нашего оружия перед азиатским, пустил из своего карабина – а это, говоря по правде, было одно из лучших ружей, изготовленных Девимом, – пулю в двух чаек, в шестистах шагах от нас охотившихся за рыбой. Пуля ударила точно между ними, в том месте, какое я указал заранее. В эту минуту Муане подстрелил на лету ржанку. Это удивило казака не меньше, чем дальность и меткость моего выстрела. Кавказцы, как и арабы, хорошо стреляют лишь в неподвижную цель; у горцев к ружью прикреплена подставка с развилкой, и потому на самом деле опасна лишь их первая пуля: остальные летят наугад.
Тем временем к нам присоединилась наша телега. Затем мы двинулись по болотистой местности в излучине Терека, и вскоре нам опять пришлось пересекать его, но на этот раз вброд, одновременно с лошадьми, буйволами и верблюдами, прежде нас переправленных на пароме и, пока переправляли нас, уже выбравшихся на дорогу.
Переправа вброд – зрелище всегда чрезвычайно живописное, а уж та, что происходила у нас на глазах, когда наш конвой присоединился к причудливому каравану, двигавшемуся одновременно с нами, была одной из самых интересных, какие только можно увидеть. Все лошади и буйволы вступали в реку довольно охотно, но верблюды, испытывающие неприязнь к воде, всячески противились, когда их понуждали войти в нее. Исходившие от них крики, а точнее сказать, завывания, казалось, принадлежали скорее дикому зверю, чем мирному животному, названному поэтами «кораблем пустыни», несомненно потому, что его рысь, похожая на килевую качку судна, вызывает морскую болезнь.
При всем нашем желании переправиться как можно скорее, мы были вынуждены идти крайне медленно, и нам неизбежно предстояло ждать, пока вся эта переправа не закончится.
Наконец лошади, утолявшие во время переправы жажду; буйволы, плывшие так, что из воды у них торчала только голова; верблюды с погонщиками на спине, благодаря своим длинным ногам едва касавшиеся брюхом поверхности реки, – все они добрались до другого берега и вновь вышли на дорогу.
Мы поступили так же, как они, но опередив их, и ничто более не останавливало нас вплоть до следующей почтовой станции.
Однако на этой станции нам могли предоставить лишь четырех казаков для конвоя: на посту там находилось всего шесть казаков, а по крайней мере двое должны были оставаться на нем, чтобы его охранять.
Впрочем, мы еще не были в опасном месте; однако уже отсюда казачьи посты с вышкой, которая служит казакам сторожевой будкой и наверху которой день и ночь стоит часовой, располагались через каждые пять верст и возвышались над всей дорогой.
Эти часовые имеют под рукой пук просмоленной соломы и зажигают ее ночью в случае тревоги. Такой сигнал, видимый на двадцать верст вокруг, в одно мгновение оповещает все окрестные посты о том, что требуется их помощь.
Мы отправились в путь, сопровождаемые четырьмя казаками.
На протяжении всей дороги нам не раз представлялся случай охотиться не выходя из тарантаса, ибо огромное количество ржанок добывали себе корм по обе ее стороны.
Однако из-за тряски тарантаса на каменистой дороге стрельба по ним была чрезвычайно трудной.
Но когда случалось, что птица, в которую мы стреляли, оставалась лежать на месте, один из наших казаков отправлялся за ней и подбирал ее, иногда даже не слезая с лошади, на всем скаку: разумеется, чтобы проделать такое, нужно иметь немалую ловкость.
Затем убитую птицу помещали в провизионную кладовую (так мы называли два наружных ящика нашего тарантаса).
Вскоре, однако, мы лишились этого развлечения: погода, с самого утра мглистая, хмурилась все больше и больше, и по равнине расстелился густой туман, так что нам с трудом удавалось видеть в двадцати пяти шагах вокруг себя.
Такая погода была весьма подходящей для чеченцев, поэтому казаки еще теснее окружили повозки и попросили нас вставить пули в наши охотничьи ружья, заряженные дробью для куропаток.
Мы не заставили их повторять эту просьбу: в течение нескольких минут такая замена была выполнена, и теперь мы были в состоянии противостоять двадцати нападающим, ибо у нас была возможность сделать по десять выстрелов, не перезаряжая ружья.
К тому же на каждой станции казакам и ямщикам давали приказ – а звание, какое они у меня предполагали, служило гарантией их безоговорочного повиновения мне – так вот, им давали приказ остановить, едва заметив чеченцев, обе повозки, поставить их в ряд в четырех шагах одну от другой, а просветы заполнить распряженными лошадьми, чтобы мы, находясь под защитой этих двух заслонов, неодушевленного и живого, могли бы вести огонь, тогда как казаки, со своей стороны, действовали бы в этом бою как летучий отряд.
Поскольку при каждой смене конвоя я не забывал показать казакам точность и дальнобойность нашего оружия, это заставляло их испытывать к нам доверие, в то время как мы не всегда доверяли им, особенно когда нашими защитниками были «гаврилычи».
Слово это требует пояснения.
Так называют донских казаков, которых не следует путать с линейными казаками.
Линейный казак, родившийся в этих местах, в непосредственной близости от врага, с которым ему предстоит сражаться, с детства сдружившийся с опасностью, солдат с двенадцати лет, проводящий лишь три месяца в году в своей станице, то есть в своей деревне, и до пятидесяти лет не покидающий седла и остающийся под ружьем, – это превосходный воин, который сражается артистично и находит удовольствие в опасности.
Из этих линейных казаков, сформированных, как уже говорилось, Екатериной и смешавшихся с чеченцами и лезгинами, у которых они похищали девушек, подобно римлянам, смешавшимся с сабинянами, в итоге образовалось племя смешанной крови, пылкое, воинственное, веселое, ловкое, всегда смеющееся, поющее и сражающееся; рассказывают о невероятной храбрости этих людей; впрочем, мы увидим их в деле.
Напротив, донской казак, оторванный от своих мирных равнин, перенесенный с берегов величественной и спокойной реки на шумные берега Терека или голые берега Кумы, отнятый от семьи, которая занимается хлебопашеством, привязанный к длинной пике, которая служит ему скорее помехой, чем орудием защиты, отягощенный этой палкой, которую он упорно старается не выпустить из рук, не умеющий обращаться с ружьем и управлять конем, – донской казак, представляющий собой еще довольно сносного солдата на равнине, оказывается самым плохим солдатом в засадах, оврагах, кустарниках и горах.
Вот почему линейные казаки и татарская милиция, это превосходное войско для небольших стычек, вечно насмехаются над «гаврилычами», как они именуют донских казаков, что выводит тех из себя.
Откуда же взялось такое прозвище?
А вот откуда.
Однажды, когда донские казаки составляли конвой, на них напали чеченцы, и конвой обратился в бегство.
Какой-то молодой казак, конь под которым был лучше, чем у его товарищей, бросив пику, пистолеты, шашку, без папахи, с растерянным взглядом, обезумев от ужаса, на полном скаку влетел во двор почтовой станции и закричал из последних сил:
– Заступись за нас, Гаврил ыч!
Это последнее усилие лишило его чувств, и он свалился с лошади.
С тех пор другие казаки и татарские милиционеры называют донских казаков «гаврилычами».
Горцы, которые за любую цену выкупают своих товарищей, попавших в плен к русским, отдают четырех донских казаков или двух татарских милиционеров за одного чеченца, черкеса или лезгина; однако обмен линейных казаков на горцев идет у них из расчета один за одного.
Они никогда не выкупают горца, раненного пикой: если он ранен пикой, значит, его ранил донской казак; стало быть, не стоит его выкупать, ведь у него достало неловкости получить ранение от столь ничтожного противника.
Они не выкупают и человека, раненного сзади. Эта мера объясняется сама собой: человек, раненный сзади, получил ранение, спасаясь бегством.
Так вот, на этот раз наш конвой состоял из «гаврилы– чей», что вовсе не успокаивало, учитывая туман, окружавший нас со всех сторон.
С этим конвоем, среди тумана и с заряженными ружьями на коленях, мы проделали десять или двенадцать верст, еще отделявшие нас от следующей станции, и встретили на пути две укрепленные и обнесенные палисадом станицы – Каргалинскую и Щербаковскую.
Первое оборонительное сооружение этих станиц, ежеминутно ожидающих нападения чеченцев, представляет собой широкий ров, полностью опоясывающий селение.
Живая изгородь из держи-дерева заменяет станицам крепостную стену, и ее по крайней мере так же трудно преодолеть при нападении.
Помимо этого, каждый дом здесь, способный превратиться в цитадель, окружен решетчатым ограждением высотой в шесть футов, а кое-кто в дополнение к этому возводит еще и небольшую стену с бойницами.
У всех ворот станицы, охраняемых часовыми, устроены возвышения, откуда можно обозревать окрестности. Часовые, сменяясь каждые два часа, находятся на таком посту днем и ночью.
Ружья здесь всегда заряжены, а каждая вторая лошадь всегда оседлана.
В селениях такого рода каждый мужчина в возрасте от двенадцати до пятидесяти лет – солдат.
У каждого из них своя история – кровавая, убийственная, страшная, способная соперничать с теми, какие так поэтически рассказывал нам Купер.
Мы прибыли на почтовую станцию Сухой пост.
Там нас ожидало великолепное зрелище.
Солнцу, уже давно боровшемуся с туманом, в конце концов удалось пронизать его своими лучами. Туман стал распадаться на широкие полосы, становившиеся все более и более прозрачными, и сквозь них начали проступать какие-то неподвижные очертания.
Однако что это было – горы или облака? Еще несколько минут мы пребывали в сомнении. Но вот солнце сделало последнее усилие, остатки тумана рассеялись, обратившись в клочья дымки, и перед нами развернулась вся величественная цепь Кавказа, от Шат– Альбруса до Эльбруса.
Посредине нее высился со своей снежной вершиной Казбек, поэтический эшафот Прометея.
При виде этой великолепной панорамы мы на минуту застыли в молчании. Это не было ни Альпами, ни Пиренеями, это не было ничем из того, что мы видели прежде, ничем из того, что всплывало в нашей памяти, ничем из того, что являлось нам в грезах; это был Кавказ – то есть сцена, на которой первый драматург античности поставил свою первую драму, при том что героем этой драмы был титан, а актерами были боги!
Как я сожалел о моем томике Эсхила! Я остановился бы здесь, заночевал и перечитал «Прометея» от первого до последнего стиха.
Понятно, почему греки заставили сойти с этих величественных вершин людской род.
В этом и состоит преимущество стран исторических перед странами безвестными. Кавказ – это история богов и людей.
Гималаи и Чимборасо – всего-навсего две горы: одна высотой в двадцать семь тысяч футов, а другая в двадцать шесть тысяч.
Самая высокая вершина Кавказа имеет в высоту лишь шестнадцать тысяч футов, но она служит пьедесталом Эсхилу!
Я не мог побудить Муане сделать рисунок того, что было у него перед глазами. Как изобразить с помощью карандаша и листа бумаги одно из самых грандиозных творений Господа?
Тем не менее Муане попробовал это сделать.
Пытаться – значит, явить одно из первых доказательств божественной сущности человеческого гения; добиться успеха – значит, явить последнее из них.
VIII РУССКИЕ ОФИЦЕРЫ НА КАВКАЗЕ
Когда лошади были запряжены и рисунок Муане завершен, мы тронулись в путь.
Нас не интересовали более ни чеченцы, ни черкесы, и если бы даже нам не дали конвоя, то, скорее всего, это прошло бы для нас незамеченным, настолько мы были поглощены величественным видом Кавказа.
Солнце, словно гордясь победой над туманом, ярко сияло. Это была уже не осень, как в Кизляре: это было лето со всем своим светом и всем своим теплом.
Огромные орлы описывали необозримые круги в небе, не делая при этом ни единого взмаха крыльями. Два из них поднялись с равнины и, пролетев с версту, опустились на дерево, где прошедшей весной они свили себе гнездо.
Мы ехали по узкой и грязной дороге, по обе стороны которой тянулись огромные болота, заполненные водоплавающими птицами всех видов. Пеликаны, дрофы, стрепеты, бакланы, дикие утки – каждый вид имел там своих представителей. Опасность, которой в этих пустынных местах, населенных лишь похитителями человеческой плоти, подвергается человек, обеспечивает безопасность животным: охотник весьма рискует сам сделаться дичью, когда он охотится за другими животными.
Все путники, встречавшиеся нам по дороге, были вооружены до зубов. Какой-то богатый татарин, ехавший вместе с сыном, пятнадцатилетним подростком, и четырьмя нукерами осматривать свои стада, казался средневековым князем с его свитой.
Пешеходы были редки. Все они имели при себе кинжал, пистолет за поясом и ружье, висевшее на ремне за спиной.
Каждый, когда мы проезжали мимо него, смотрел на нас тем гордым взглядом, какой присущ человеку, сознающему собственную храбрость. Как далеко было смиренным крестьянам, которых мы встречали от Твери до Астрахани, до этих суровых татар!
На одной из предыдущих станций Калино поднял плеть на замешкавшегося ямщика.
– Берегись, – сказал тот, поднося руку к кинжалу, – ты не в России!
Русский крестьянин получил бы удар плетью и не осмелился бы даже застонать.
Эта уверенность в себе, а лучше сказать, эта гордость независимого человека передалась и нам. Казалось, необходимость бороться с неведомой опасностью обострила наши чувства, чтобы предвидеть ее, и наполнила наше сердце силами, чтобы противостоять ей.
С опасностью связаны странные ощущения: сначала ее страшатся, потом ею бравируют, затем желают встречи с ней, а когда, после того как вы долгое время пренебрегали ею, она на ваших глазах удаляется от вас, вам недостает ее, как строгого друга, советовавшего вам быть настороже.
Я очень опасаюсь, что храбрость всего лишь дело привычки.
На станции Новоучрежденной, то есть той, что предшествовала опасному месту, нам могли предоставить для конвоя лишь пять казаков. Начальник поста сам признался, что этого явно мало, и предложил подождать возвращения других казаков.
Я поинтересовался у него, не случится ли так, что нам придется отправиться ночью, если мы будем ждать их возвращения.
Он ответил, что если казаки не появятся до темноты, то мы сможем переночевать на посту и наутро отправиться в сопровождении пятнадцати или двадцати человек.
– Будут ли ваши пять человек хорошо драться в том случае, если на нас нападут? – спросил я начальника поста.
– Я вам ручаюсь за них: эти люди по три раза в неделю участвуют в перестрелках с горцами, и ни один из них не отступит ни на шаг.
– Значит, нас будет восьмеро, а больше и не нужно. Едем.
Я повторил своим спутникам указания по поводу того, как поступить с повозками, если на нас нападут, поделился с казаками планом обороны, и мы выехали, пустив наших лошадей крупной рысью.
Солнце быстро спускалось к горизонту. Кавказ был сказочно освещен; Сальватор Роза при всей его гениальности не достиг бы того волшебного сочетания тонов, какое меркнущие лучи солнца придавали исполинской цепи гор.
Основание гор было темно-синего цвета, их вершины – розовыми, а средняя часть проходила постепенно через все оттенки – от фиолетового до лилового.
Что же касается неба, то оно было цвета расплавленного золота.
Ни перо, ни кисть не в состоянии следовать за столь стремительными изменениями света. В то время как ваш взгляд обращается на предмет, который вы хотите изобразить на бумаге, предмет этот уже изменил цвет и, следовательно, облик.








