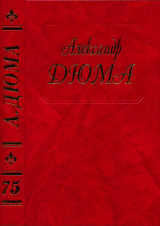
Текст книги "Путевые впечатления. Кавказ. Часть 1"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 33 страниц)
Однажды ночью Хаджи-Мурад ворвался на улицы города, но тревога была поднята вовремя, и Хаджи– Мурад, получив отпор, возвратился в горы.
Предание гласит, что на том месте, где теперь находится Шура, некогда было озеро.
На следующий день после нашего прибытия ничто не вызывало большего доверия, чем это предание: весь город буквально обратился в огромную лужу.
С той минуты, когда выяснилось, что осматривать в Шуре больше нечего, а лихорадка у Муане прошла, нам оставалось только проститься с нашим хозяином, поблагодарить доктора, припрятать хинин для другого случая и уехать.
Мы потребовали лошадей и конвой и около восьми часов утра выехали.
Я забыл сказать, что ближе к ночи к нам присоединился Виктор Иванович вместе с багажом.
Около десяти часов утра туман рассеялся и установилась великолепная погода. Снег, вызвавший у Муане лихорадку, исчез, как и сама лихорадка. Ярко светило солнце, и, хотя октябрь был уже на исходе и мы находились на северном склоне Кавказа, в тело проникало благодатное тепло.
Примерно в полдень мы прибыли в Параул – простую почтовую станцию, на которой недоставало лишь одного – лошадей.
Естественно, мы не стали полагаться на слова смотрителя и отправились обследовать конюшни, но они действительно оказались пусты.
Возражать не приходилось. Однако проехать в день лишь двадцать верст было весьма досадно.
Так что пришлось, вынув из несессера перья, бумагу и чернила, а из папки – карандаши и бристольский картон, приняться за работу. Во время подобных задержек она был главным нашим развлечением.
Ночью лошади возвратились, но это были только две тройки. Так что бедному Виктору Ивановичу пришлось снова остаться позади.
Мы выехали в десять часов утра. Однако ночью случилась тревога, о которой мы ничего не знали. К воротам деревни подошли два человека и заявили, что им удалось выскользнуть из рук лезгин; но так как лезгины часто прибегают к такого рода хитростям, чтобы проникнуть в аулы, пришельцам пригрозили, что в них начнут стрелять, и они удалились.
Нам предоставили конвой из десяти человек, и, тщательно осмотрев все свое оружие, мы двинулись в путь.
После часа езды среди клочков густого тумана, редевшего с каждой минутой, мы остановились в четверти льё от селения Гелли.
Он чрезвычайно напоминал аул шамхала Тарковского.
Весь передний план, то есть пространство, где находились мы, занимала прелестная роща из великолепных деревьев, и среди их подножий струился настоящий идиллический ручей, Вульсия бедного Эжезиппа Моро.
В теплые летние дни эта часть окружающей местности должна была представлять собой восхитительный оазис.
Ну а дальше, под лучами солнца, проникавшими сквозь два облака тумана, который еще не полностью рассеялся, виднелось селение Гелли – великолепный татарский аул, раскинувшийся на высоком холме, между двумя еще более высокими горами, подножия которых отделялись от подножия холма двумя очаровательными долинами.
Селение, располагавшееся уступами и потому полностью открытое нашему взору, явно пребывало в сильном возбуждении. Площадка минарета, высившегося над аулом, и вершина горы, высившейся над минаретом, были заполнены множеством людей, подававших друг другу сигналы и, казалось, смотревших в одну и ту же точку.
Мы остановились минут на десять, чтобы Муане мог сделать зарисовку, а затем, когда рисунок был закончен, крупной рысью двинулись по направлению к Гелли.
Было очевидно, что там происходило нечто чрезвычайное, и мы спешили узнать причины этого волнения.
Обстоятельства и вправду были серьезными.
Мы наконец-то услышали известия о набеге лезгин, о котором нам говорили вот уже три дня как о чем-то непонятном, но угрожающем.
В это самое время милиционеры из Гелли должны были вступить с ними в схватку. Известно к этой минуте было лишь следующее.
На рассвете в Гелли пришли двое пастухов со связанными руками и рассказали местным жителям, что отряд из пятидесяти лезгин под предводительством известного абрека из Губдена, по имени Таймаз Гумыш-Бурун, накануне утром захватив в кутане[27] баранов, которые там содержались, и двух охранявших их пастухов, заблудился в тумане и ночью почти что наткнулись на Параул, где мы ночевали. Горцы поспешно удалились, но наскочили на другой аул, носящий название Гиллей. И тогда, сознавая опасность своего положения, они бросили скот и пастухов и направились в горы, покрытые лесом, который соединяет Гелли с Карабудахкентом.
Очевидно, как раз эти двое пастухов и приходили в Параул.
Однако в Гелли, поскольку это был крупный аул с населением в три тысячи душ и поскольку уже рассвело, к их рассказу отнеслись с большим вниманием.
Тотчас же есаул[28] Магомет Имам-Газалиев собрал всю татарскую милицию аула Гелли, примерно двести человек, и заявил, что ему нужны еще сто добровольцев, готовых идти вместе с милиционерами. Сто человек тут же явились.
Со времени их отъезда прошло уже три часа. Близился полдень, когда вдруг стали видны клубы дыма, которые поднимались в стороне ущелья Зел и-Кака, находящегося примерно в двух льё от Гелли, справа от дороги на Кара– будахкент.
Это была наша дорога: именно в Карабудахкент мы и направлялись.
Лошадей нам переменили предельно быстро. Что же касается конвоя, то двенадцать человек были готовы прежде, чем мы успели их потребовать. Впрочем, если бы мы захотели, в нашем распоряжении было бы пятьдесят человек, а то и вся деревня, включая женщин и детей.
Женщины находились в особенно невероятном возбуждении. Они дико размахивали руками и издавали невообразимо свирепые крики.
Дети, которым у нас не позволяют взять в руки нож, опасаясь, как бы они себя ни ранили, держали обнаженные кинжалы и, казалось, были готовы наносить ими удары.
Мы помчались во весь опор, сопровождаемые завыванием этой стаи гиен.
Когды мы выезжали из Гелли, нашим глазам открылась вся равнина и вся горная цепь, где в это время происходила схватка. Нам казалось, что мы видим, как там с невероятной скоростью двигаются какие-то существа, но на расстоянии, отделявшем нас от них, нельзя было различить, были это люди или животные, скопление всадников или стадо баранов либо быков, – виднелись только черные точки.
От дороги, по которой мы следовали, до подножия гор тянулась примерно на льё совершенно гладкая равнина; с согласия двух своих спутников я приказал ямщикам направить наши экипажи прямо по этой равнине, к ущелью Зели-Кака.
Наш конвой громкими криками приветствовал такое решение: тем, кто нас сопровождал, не терпелось узнать, что стало с их братьями и друзьями, участвовавшими в бою с лезгинами.
Так что наш тарантас и телега съехали с дороги и стрелой помчались прямо по равнине.
Однако, в силу обычного закона перспективы, по мере того как мы двигались вперед, первая гора вырастала у нас на глазах, тогда как другая, вторая, напротив, словно опускалась позади нее.
Поэтому, достигнув подножия первой горы, мы совершенно потеряли из виду то, что происходило на вершине второй.
Меня удивило, что не было слышно никаких выстрелов и не было видно никакого дыма.
Наши татары пояснили мне, чем это объясняется: горцы и милиционеры стреляют друг в друга из ружей и пистолетов лишь в первую минуту схватки; затем они обнажают кинжалы и шашки, и все решает холодное оружие.
Так что выстрелы уже отгремели, дым рассеялся, и теперь настал черед кинжалов и шашек.
Свою работу делало холодное оружие.
Обе наши повозки остановились у подножия горы: дальше они продвигаться не могли.
Мы обратились к нашим татарам с предложением предоставить нам трех верховых лошадей, с тем чтобы остальные девять всадников поднялись на гору вместе с нами, а трое спешившихся охраняли экипажи.
В случае, если бой продлится, подкрепление из девяти человек – у нас достало скромности не взять в расчет себя – могло оказаться полезным милиционерам.
Предложение было принято. Трое спешились и отдали нам своих лошадей. В качестве генерала я самочинно назначил командиром того, кто показался мне самым толковым из всех, и мы тронулись в путь, держа ружья на коленях.
Поднявшись на первое плато, мы увидели, что впереди, выше нас, мелькают верхушки папах конного отряда, ехавшего, по-видимому, нам навстречу.
Сопровождавшие нас татары с одного взгляда узнали своих и с громкими криками пустили коней вскачь.
Наши лошади последовали за ними. При этом нам не так уж хорошо было известно, куда мы направляемся и являются ли те, кого мы видели перед собой, друзьями или врагами.
Однако люди в папахах тоже узнали нас, а точнее говоря, узнали своих друзей. Они в свою очередь закричали «Ура!», а кое-кто из них вскинул вверх руку, показывая предметы, в которых нам виделось что-то знакомое.
Послышались крики: «Головы! Головы!»
Не нужно было больше доискиваться, что держали в руках люди в папахах и что они показывали своим товарищам.
К тому же они мчались в нашу сторону с такой быстротой, что у нас, даже и без всяких объяснений, не осталось вскоре никаких сомнений по этому поводу.
Оба наших отряда соединились, но позади медленно двигался третий отряд.
Этот отряд казался не победоносным войском, а погребальным кортежем: он вез мертвых и раненых.
В первую минуту ничего нельзя было понять из слов, которыми обменивались люди вокруг нас. Вдобавок, они разговаривали на татарском языке, а Калино, наш русский переводчик, совершенно его не знал.
Но что было вполне понятно, так это четыре или пять отрубленных кровоточащих голов и нанизанные на веревочные кончики нагаек уши, выглядевшие не менее картинно.
Тем временем подъехал и арьергард; он вез трех мертвых и пять раненых. Трое других раненых сами могли держаться в седле и ехали шагом.
Было убито пятнадцать лезгин. Их трупы находились в полульё от нас, в ущелье Зели-Кака.
– Попросите сотника предоставить нам милиционера, который проводил бы нас на поле сражения, и поинтересуйтесь у него подробностями боя, – обратился я к Калино.
Сотник взялся сам отвести нас туда. Он был украшен Георгиевским крестом и в рукопашной схватке собственноручно убил двух лезгин. В пылу сражения он отрубил им головы и вез их теперь с собой.
Кровь текла с них ручьем.
Всякому, кто убил горца, достаются, помимо его головы и ушей, и все вещи убитого врага. В руках одного из милиционеров было великолепное ружье. Я не осмелился попросить татарина продать мне это ружье, как ни хотелось мне заполучить его.[29]
Отряд продолжал двигаться к аулу. Я разрешил сотнику распоряжаться двумя нашими повозками, если бы они понадобились ему для раненых или даже для мертвых. Он сообщил об этом разрешении своим людям.
После этого мы разъехались в разные стороны: участники сражения направились в селение, а мы продолжили свой путь к полю боя.
Вот что рассказал нам Магомет Имам-Газалиев.
Собрав свою сотню и взяв в проводники пастухов, он направился по дороге на Биллей. Возле Гиллея он обнаружил стадо баранов, которое горцы бросили, чтобы двигаться быстрее.
Он оставил пастухов собирать их баранов, а сам принялся отыскивать следы горцев.
Вскоре эти следы были найдены.
Отряд милиционеров, который вели два искусных следопыта, проделал три версты и подъехал к ущелью Зели– Кака, затянутому в этот час густым туманом.
Внезапно им показалось, что в глубине ущелья видны какие-то движущиеся люди, и в тот же миг на милиционеров обрушился град пуль; этим первым залпом были убиты один человек и две лошади.
И тогда Имам-Газалиев крикнул:
– Ружья отставить! В шашки и в кинжалы!
И прежде чем горцы, устроившие в ущелье привал, успели сесть верхом на своих лошадей, милиционеры ринулись на врагов, и завязался рукопашный бой.
С этой минуты Имам-Газалиев, сражавшийся в одиночку, уже не видел, что происходило вокруг.
На него один за другим напали два горца, и он в рукопашной схватке убил обоих.
Однако сражение, должно быть, было страшное, ибо, оглядевшись вокруг себя, он насчитал тринадцать мертвых горцев, так что вместе с двумя, убитыми им, получалось пятнадцать. Другие горцы обратились в бегство.
Как он и приказал, милиционеры сражались холодным оружием и не сделали ни одного ружейного выстрела.
Имам-Газалиев излагал нам всю эту историю по-русски, и по ходу рассказа Калино переводил ее мне на французский.
Пока длился рассказ, мы проделали всю дорогу. Большая лужа крови указывала нам на то, что мы прибыли на поле сражения.
Справа, в овраге, лежали голые или почти голые трупы. Пять из них были обезглавлены, а у всех, у кого голова осталась на плечах, недоставало правого уха.
На раны, нанесенные кинжалами, страшно было смотреть.
Пуля пробивает отверстие в теле и убивает. Рана, в которую можно просунуть мизинец, посинение вокруг – вот и весь след, оставленный ею.
Но кинжальные раны – это точь-в-точь, как если бы кто-нибудь потрошил человеческое тело. У некоторых трупов были полностью раскроены черепа, руки почти отделены от туловища, а грудь рассечена так глубоко, что можно было увидеть в ней сердце.
Почему ужасное имеет такую странную притягательную силу и, начав смотреть на него, хочешь видеть его до конца?
Имам-Газалиев показал нам тела двух убитых им горцев, которые он узнал по оставшимся на них ранах.
Я попросил его показать мне то оружие, каким он так умело поработал. Это был наипростейший кинжал с костяной рукояткой. Однако клинок был куплен сотником у хорошего мастера и надежно оправлен. Все это обошлось ему в восемь рублей.
Я спросил его, не согласится ли он уступить мне это оружие и если да, то за какую цену.
– За ту же цену, какую он мне стоил, – без всяких уловок ответил Имам-Газалиев. – У меня теперь три кинжала, поскольку два я взял у убитых мною лезгин, и этот мне больше не нужен.
Я вручил ему десятирублевую купюру, а он мне – кинжал.
Этот кинжал вошел в коллекцию оружия, привезенную мной с Кавказа и почти целиком состоящую из предметов, которые имеют историческое значение.
Мы подождали, пока Муане зарисует овраг, где лежали трупы, и, уступив место пяти или шести орлам, с явным нетерпением ожидавшим нашего отъезда, стали спускаться обратно на равнину.
У подножия горы мы увидели наши повозки: ими не сочли нужным воспользоваться.
Мы простились с Имам-Газалиевым и, видя, что сопровождавшие нас татары жаждут возвратиться вместе с ним в Гелли, чтобы вместе со своими товарищами отпраздновать победу, отпустили их.
Было маловероятно, что после полученного ими урока горцы снова появятся в скором времени в окрестностях аула Гелли.
И в самом деле, мы без всяких происшествий прибыли в Карабудахкент.
Там нам сказали, что князь Багратион только что проехал мимо, спрашивал о нас и отправился вдогонку за нами.
Нам ничего не оставалось, как отправиться вдогонку за князем Багратионом.
Приехав в Буйнаки, мы увидели на крыльце человека лет тридцати—тридцати пяти, одетого в черкесское платье, которое он носил с изумительным изяществом.
Это был князь Багратион.
XXI КАРАНАЙ
Он и в самом деле отправился вдогонку за нами.
Я уже знал князя заочно как одного из самых храбрых офицеров русской армии. Это несомненно так, ведь он командует полком местных горцев.
Командующий горцами грузин, то есть житель равнины, должен быть храбрее самого храброго из своих солдат.
Что же касается благородства его происхождения, то Багратион – потомок древних грузинских царей, правивших с 885 по 1079 год.
Упоминания о его древнем роде встречаются в хронологии Кавказа за семьсот лет до Рождества Христова.
Это, как видите, оставляет далеко позади знатность герцога де Леви.[30]
Как я уже говорил, князь Багратион отправился вдогонку за нами.
По его словам, он имел право упрекнуть меня: я проезжал через Шуру и не предупредил его об этом.
Но у меня была веская причина на то, чтобы не предупредить его о своем приезде: я решительно не знал, что он находился в это время в Шуре.
Кроме того, я рассказал князю обо всем, что с нами произошло: о метели, о городе, превратившемся в озеро, и, наконец, о болезни Муане и о его желании поскорее оставить место, где пульс у него доходил до ста двадцати ударов в минуту.
– Это досадно, – сказал князь, – но вам придется туда вернуться.
– Куда? В Шуру? – спросил я.
– Нет, нет и еще раз нет! – воскликнул Муане. – Спасибо, я по горло сыт этим городом.
– Но чем вы еще не насытились, господин Муане, – сказал князь, – так это панорамой Караная.
– А что такое Каранай? – спросил я князя.
– Попросту говоря, это самое красивое из всего, что вы встретите на своем пути.
– Черт побери! Муане, вы слышите?
– Представьте себе гору ... Хотя нет, не представляйте себе ничего. Я вас привезу туда, и вы все сами увидите.
Муане покачал головой.
– Поедемте, господин Муане, и вы еще будете благодарить меня за такое насилие над вами.
– А это очень далеко отсюда, князь? – поинтересовался я.
– В сорока верстах, то есть в десяти льё. Вы оставите здесь ваш тарантас и вашу телегу, и мой слуга будет их стеречь; мы поедем в моем экипаже и через два с половиной часа будем на месте; там мы поужинаем – ужин уже заказан, и спать вы ляжете тотчас после ужина; вас разбудят в пять часов утра, и мы поднимемся на высоту в две тысячи метров: на хороших лошадях это пустяки; и тогда ... тогда вы все сами и увидите.
– Так мы никогда не доедем до Тифлиса! – со вздохом произнес Муане.
– Друг мой, это задержит нас на сутки, зато мы увидим самое красивое из всего, что нам дано увидеть в жизни. И князь проводит нас до Дербента.
– Да, разумеется, именно так; если вы возвратитесь со мной в Шуру и проведете со мной весь завтрашний день, я обещаю доставить вас завтра к вечеру на ночлег в Кая– кент.
– Но вы же знаете, князь, что после шести часов вечера нам не дадут лошадей.
– Со мной вам будут давать их до полуночи.
– И завтра мы будем ночевать в Каякенте? – спросил Муане.
– Завтра вы будете ночевать в Каякенте, – ответил князь.
– Едем, Муане, едем!
– Едем, но предупреждаю вас, что я терпеть не могу панорам.
– Эта вам понравится, господин Муане.
– Раз так, князь, то не стоит терять время. Вы говорили об ужине: у нас уже разыгрался аппетит.
– В таком случае не будем тратить время напрасно. Заложим в мой тарантас пять лошадей – и в путь!
Пока в экипаж закладывали лошадей, я развлекался тем, что рассматривал оружие князя:
– У вас великолепный кинжал, князь.
Никогда не говорите ничего подобного грузину, ибо он в ту же минуту сделает то, что сделал Багратион.
Князь снял кинжал с пояса и произнес:
– О, черт возьми! Я очень рад, что он вам нравится; возьмите его: он работы Муртаз-Али – первого оружейного мастера на Кавказе, сделавшего его специально для меня. Посмотрите, вот татарская надпись:
«Муртаз-Али сделал этот кинжал для князя Багратиона».
– Но, князь ...
– Берите, да берите же! Он сделает для меня другой.
Я взглянул на свой кинжал: это тоже был прекрасный дагестанский клинок, но его рукоятка из свежей слоновой кости с золотой насечкой никак не годилась для князя.
К тому же дарить кинжал в ответ на подаренный кинжал было нелепо.
Тогда я вспомнил о своем карабине, рассчитанном на разрывные пули.
Это был тот самый карабин, который вместе с револьвером принес мне накануне моего отъезда из Парижа наш великий мастер оружейного дела Девим.
«Вы ведь едете на Кавказ?» – обратился он ко мне.
Я кивнул в знак подтверждения.
«Это такая страна, куда не приезжают без того, чтобы не пострелять. Вы любитель хорошего оружия: примите в подарок от меня вот это».
И он подарил мне, как я уже сказал, карабин, рассчитанный на разрывные пули, и револьвер.
Я взял свой карабин и вручил его князю, объяснив ему устройство этого оружия. Князь много слышал об этом новом изобретении, но не был знаком с ним.
– Хорошо, – сказал он, осматривая карабин, – теперь мы кунаки, как говорят на Кавказе: впредь вы не имеете права ни в чем мне отказывать, и, поскольку я определенно ваш должник, вы позволите мне рассчитаться с вами.
Тем временем нам доложили, что лошади запряжены. Кучер князя остался, как и было условлено, охранять наши вещи.
Мы сели в тарантас, и упряжка понеслась во весь опор.
– Черт побери! Похоже, вас здесь все знают, князь.
– Еще бы! – отвечал он. – Я постоянно курсирую между Шурой и Дербентом.
И в самом деле, князя знали здесь все, даже маленькие дети: в Карабудахкенте, пока перепрягали лошадей, он заговорил по-татарски с двумя или тремя малышами и, уезжая, бросил им горсть абазов[31].
По дороге я рассказал ему, что произошло с нами утром и в какой сумятице мы побывали часом раньше. Я показал князю кинжал, купленный мной у Имам– Газалиева, и выразил сожаление, что не поинтересовался у него, продается ли ружье, снятое его милиционерами с лезгинского командира.
– Оно уже куплено, – сказал князь.
– И кем же?
– Да мной; оно пойдет в придачу к моему кинжалу, так что считайте его своим.
– Но оно, вероятно, уже далеко.
– Возможно, но в таком случае за ним отправятся вдогонку. Говорю вам, вы можете считать его своей собственностью. Какого черта, князь Багратион не бросает слов на ветер! Вы же видите, – добавил он смеясь, – что мы едем достаточно быстро и вполне можем догнать ружье.
– Я полагаю, что мы можем догнать даже пулю!
В восемь часов вечера мы въехали в Шуру, покинутую нами накануне в десять часов утра.
За три с половиной или четыре часа мы вновь проделали путь, на который в первый раз у нас ушло полтора дня.
Через десять минут после нашего прибытия был подан ужин. Ужин на французский лад! Это вполне естественно привело нас к разговору о Париже. Князь покинул его всего два года назад. Он знал там всех.
Если бы б а р ы ш н я м, о которых мы беседовали, сказали, что на берегах Каспийского моря, у подножия Караная, между Дербентом и Кизляром, разговор шел о них, они были бы крайне удивлены.
Мы легли в настоящую постель: это было во второй раз после Елпатьева.
Первый раз такое случилось у князя Дондукова– Корсакова в Чир-Юрте.
В пять часов утра нас разбудили.
Стояла еще непроглядная тьма, но небо блистало звездами. Слышно было, как у ворот топчутся и ржут лошади.
Князь вошел в нашу комнату.
– Ну вот, – сказал он, обращаясь к нам, – вначале вы выпьете, по вашему выбору, чашку кофе или чая, затем мы увидим восход солнца на Каспийском море, позавтракаем в крепости Ишкарты, куда все мы приедем со зверским аппетитом, а потом, потом вы увидите ... Впрочем, я не хочу лишать вас удовольствия, которое доставляет сюрприз.
Мы выпили по чашке кофе и вышли из дома. Сто человек полка князя Багратиона ожидали нас у ворот.
Я уже говорил, что этот полк состоит из местных горцев. Вы могли бы подумать, что эти местные горцы – покорившиеся лезгины, чеченцы и черкесы.
Однако вы ошиблись бы.
Местные горцы – это бедняги, которые, как говорят на Корсике, продырявили кое-кому шкуру.
Когда горцу угрожает кровная месть, он покидает родные места и вступает в полк Багратиона. Вы понимаете, как эти молодцы должны драться: у них нет ни малейшего шанса стать пленниками.
Сколько захватят людей, столько же будет и отрубленных голов.
За исключением охотников-кабардинцев, я не видел никого, кто мог бы сравниться с этими исчадиями ада.
Около получаса мы ехали среди лесистых холмов. Понемногу светало. Только один отрог горного хребта мешал нам видеть Каспийское море, которое в трех верстах от Темир-Хан-Шуры мелькнуло перед нами, как огромное голубое зеркало; по другую сторону долины, лежавшей у наших ног, в первых лучах солнца белели оштукатуренные казармы крепости Ишкарты, которые можно было принять за дворцы из белого мрамора.
Мы пересекли небольшую лощину, где из-под копыт наших лошадей взлетали целые стаи куропаток и фазанов.
В половине восьмого утра наш отряд прибыл в Ишкарты, проделав пятнадцать верст.
Командовавший крепостью полковник, предупрежденный накануне Багратионом, ожидал нас; завтрак был готов. Пятьсот человек, которым предстояло сопровождать нас, были уже под ружьем.
Завтрак прошел быстро, что не помешало всем хорошо позавтракать; затем мы отправились дальше; было девять часов.
Вплоть до полудня мы поднимались в гору; за это время пехота трижды делала привал, каждый раз на десять минут, чтобы отдохнуть. И каждый раз по приказанию князя солдатам раздавали по стаканчику водки: за отрядом следовал бочонок водки, который везла на себе лошадь.
После того как мы проехали восемь или десять верст, леса закончились, сменившись поросшими травой холмами, беспрерывно и бесконечно следовавшими один за другим. Взбираясь на вершину каждого из этих холмов, мы думали, что он будет последним, но ошибались: нашим глазам представал новый подъем, на который нужно было взбираться, как и на все предыдущие.
Однако до развалин огромного селения, разрушенного в 1842 году русскими, мы следовали почти по наезженной тропе. От домов селения осталось едва ли по паре стен, но полуразрушенный минарет выглядел чрезвычайно живописно.
Оттуда тропы уже не было, а тянулась лишь все та же череда холмов.
Наконец мы взобрались на последний холм. И тут каждый из нас невольно попятил своего коня. Земля, казалось, ушла у нас из-под ног. Отвесная скала была высотой в семь тысяч футов.
Я спрыгнул с коня. Легко поддаваясь головокружению, я испытал потребность ощутить у себя под ногами землю.
Но этого оказалось недостаточно; тогда я лег ничком на землю и закрыл руками глаза.
Нужно самому пережить это необъяснимое безумие головокружения, чтобы составить себе представление о страданиях, какие испытывает охваченный им человек. Бившая меня нервная дрожь словно передавалась земле, и я ощущал, что она живет, колышется, трепещет подо мной: на самом же деле это билось мое сердце.
Наконец я поднял голову. Мне пришлось сделать над собой невероятное усилие, чтобы заглянуть в пропасть.
Вначале все подробности ускользнули от меня. Я увидел лишь долину, которая простиралась насколько хватало глаз и в глубине которой змеились две серебряные нити.
Эта долина была всей Аварией целиком; две эти серебряные нити были Андийским Койсу и Аварским Койсу, слияние которых образует Сулак.
У наших ног, на правом берегу Аварского Койсу, виднелся, подобно точке, аул Гимры, место рождения Шамиля, со своими великолепными садами, плоды из которых русские отведали лишь однажды. Это там, обороняя аул, был убит Кази-мулла и впервые дал знать о себе Шамиль.
По другую сторону Аварского Койсу, расположенное на довольно высоком плато, будто двигалось нам навстречу селение Унцукуль: в нем каждый дом укреплен, и оно окружено каменной стеной.
На горизонте еще просматривались развалины Ахульго, хотя это селение уже совершенно опустело.
Именно в этом селении был взят в плен юный Джемал– Эддин; позднее мы расскажем его историю, и она повлечет за собой рассказ о похищении грузинских княгинь.
Слева, едва видимое отсюда, высится селение Хунзах. Дальше, в глубине долины, у истоков Аварского Койсу, виднеется почти неразличимая точка: это аул Карата, куда, по всей вероятности, удалится Шамиль, если его одолеют в Ведене.
Справа от Караты, в направлении Андийского Койсу, сквозь узкий просвет виднеется синеватое ущелье, где все подробности смешиваются в дымке. Это края тушин, христианского народа, союзника России, пребывающего в вечной войне с Шамилем.
Поднимавшийся там и сям дым указывал на присутствие невидимых селений, чьи названия я тщетно пытался выяснить.
Ниоткуда, кроме вершины Караная, нельзя увидеть это безжалостное разрушение, это неслыханное опустошение, которое являет собой Кавказский хребет. Ни одна земля в мире не была так истерзана вулканическими извержениями, как Дагестан. Горы, словно люди, кажутся измученными беспрерывной и яростной борьбой.
Старинная легенда рассказывает, что дьявол постоянно приходил терзать одного славного отшельника, чрезвычайно любимого Богом и жившего на самой высокой горе Кавказа в те времена, когда Кавказ еще представлял собой череду плодородных, покрытых зеленью и доступных человеку гор. Отшельник попросил у Господа дозволения раз и навсегда наказать Сатану за его соблазны.
Господь дал на это свое согласие, не поинтересовавшись у отшельника, каким образом тот рассчитывает взяться за дело, чтобы достичь своей цели.
Отшельник раскалил добела каминные щипцы, и, когда, по своему обыкновению, дьявол просунул голову в дверь, святой человек призвал имя Божье и раскаленными щипцами ухватил Сатану за нос.
Ощутив нестерпимую боль, Сатана совершенно обезумел и принялся прыгать по горам, ударяя своим хвостом по всему Кавказу от Анапы до Баку.
От каждого удара его хвоста и возникали эти долины, ущелья, лощины, перекрещивающиеся настолько сложным и беспорядочным образом, что разумнее всего согласиться с легендой и признать, что так все оно и было.
Около часа мы оставались на вершине Караная. В конце концов я мало-помалу свыкся с этим величественным ужасом и должен признаться, вслед за Багратионом, что мне не приходилось видеть ничего подобного ни с высоты Фаульхорна, ни с высоты Риги, ни с высоты Этны, ни с высоты пика Гаварни.
И тем не менее, признаюсь, я испытал невыразимо приятное чувство, отвернувшись от этой поразительной бездны.
Но перед этим нас ожидал последний сюрприз: наши пятьсот пехотинцев, проявив русскую точность, произвели залп из своих пятисот ружей. Никогда ни буря, ни гром, ни вулкан не гремели с большим грохотом между безднами неба и глубинами земли.
Против моей воли меня подвели еще ближе к пропасти, и я мог видеть, как в семи тысячах футов подо мной жители аула Гимры, настолько напоминавшие муравьев, что лишь с великим трудом можно было распознать в них человеческие существа, в тревоге выбегали из своих домов.
Они должны были вообразить, что Каранай вот-вот обрушится на них.
Этот залп был сигналом к нашему возвращению.
Мы начали спуск. К счастью, он оказался достаточно легким, чтобы от начала и до конца быть одним лишь наслаждением.
Это наслаждение было вызвано сознанием того, что каждый шаг коня увеличивал еще на один метр расстояние между мной и вершиной Караная.
Однако, говоря «каждый шаг коня», я ошибаюсь, ибо до разрушенного селения мы спускались, держа коней на поводу, и, лишь оказавшись на более пологой тропе, решились снова сесть в седло.
Мы пообедали в крепости Ишкарты и, строго говоря, могли бы ехать ночевать в Буйнаки, однако нами овладело такое утомление, что мы сами предложили князю Багратиону отправиться в путь лишь на следующее утро.
Когда мы пили чай, меня пригласили перейти в мою комнату, где, как мне было сказано, находится какой-то человек, у которого есть ко мне дело.
Этот человек оказался полковым портным, пришедшим снять с меня мерку для полного офицерского мундира: по предложению полковника я был единогласно избран солдатами почетным членом полка местных горцев.








