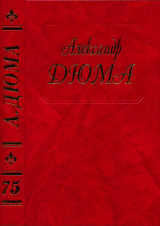
Текст книги "Путевые впечатления. Кавказ. Часть 1"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 33 страниц)
Местные жители уверяли его, что она простирается бесконечно.
Мне известно, что мой ученый и прославленный друг г-н Жомар придерживается того же мнения, и если, на что у меня есть надежда, мне удастся застать его, вернувшись в Париж, в добром здравии, я дам ему о знаменитой Дербентской стене все сведения, какие он пожелает.
Но в ту минуту меня занимала вовсе не эта древняя стена, какой бы протяженной она ни была и какие бы споры она ни вызывала, а могила Ольги Нестерцовой.
Мы направились к ней, выйдя из ворот, обращенных к горам, и свернув влево.
Немного в стороне от небольшого кладбища, расположенного высоко над Каспийским морем, стоит надгробный камень предельно простой формы. На одной из его сторон выбита надпись:
«Здесь покоится прах девицы Ольги Нестерцовой. Родилась в 1814 году, умерла в 1833 году».
На другой стороне вырезана роза: сломленная роза, с осыпавшимися лепестками, сраженная молнией.
Снизу начертано: «Судьба».
Вот история бедной девушки, или, по крайней мере, вот что о ней рассказывают.
Она была любовницей Бестужева. Около года они жили счастливо, и ничто не нарушало их согласия.
Но как-то раз, на затянувшейся сверх меры пирушке, на которой кутили Бестужев и трое его друзей, разговор зашел о бедной Ольге. Уверенный в ней, Бестужев изо всех сил восхвалял ее верность.
Один из его сотрапезников предложил держать пари, что он заставит девушку нарушить верность, которой так гордился Бестужев.
Бестужев принял пари: по-видимому, счастливый человек более всего на свете устает от своего счастья.
Ольга, как говорят, была соблазнена, и Бестужеву представили доказательства ее неверности.
На следующий день девушка вошла в комнату поэта. Что там произошло, не знает никто.
Внезапно послышался выстрел, потом крик, затем из комнаты выбежал Бестужев, бледный и растерянный.
В комнату вошли люди.
Ольга лежала на полу, умирающая, залитая кровью: пуля пронзила ей грудь.
Рядом валялся разряженный пистолет.
Умирающая могла еще говорить: она послала за священником.
Через два часа она умерла.
Священник подтвердил под присягой, что Ольга Нестерцова рассказала ему, будто пистолет выстрелил случайно в ту минуту, когда она попыталась вырвать его из рук Бестужева. Этот выстрел смертельно ранил ее, но, умирая, она простила Бестужеву это невольное убийство.
Против Бестужева началось следствие, однако, благодаря показаниям священника, он был оправдан.
Это он поставил над могилой Ольги памятник, велел выбить на нем надпись и вырезать на его обратной стороне сраженную молнией розу – страшный символ судьбы несчастной девушки.
Но с этого времени Бестужев совершенно переменился: им овладела черная меланхолия, он искал опасностей и жаждал смерти.
По собственному желанию он отправлялся во все экспедиции и, как ни странно, всегда первым бросаясь в огонь и последним выходя из него, всегда возвращался невредимым.
Но вот в 1837 году была предпринята экспедиция на земли абадзехов; наступление шло на селение Адлер; в тот момент, когда русские собирались войти в какой-то лес, стало известно, что лес этот занят горцами, которых было втрое больше, чем наступающих.
Кроме того, горцы имели преимущество и в позиции, поскольку они окопались в этом лесу.
Полковник приказал трубить отступление.
Прозвучал сигнал к отходу.
Бестужев вместе с другим офицером, капитаном Аль– брандом, командовал стрелками.
Вместо того чтобы подчиниться поданному сигналу, оба они углубились в лес, преследуя горцев.
Капитан Альбранд возвратился, но Бестужев так и не появился.
Князь Тарханов, от которого я узнал все эти подробности, послал капитана Альбранда и пятьдесят мингрельских егерей на поиски Бестужева.
В то время, когда капитан Альбранд и его пятьдесят егерей искали Бестужева, генералу Эспехо принесли какие-то часы.
Они были опознаны как те, что принадлежали знаменитому романисту.
Ничего другого тогда найдено не было, и ничего другого о нем так никогда и не узнали.
Я оставил Багратиону четыре стихотворных строки и попросил его выгравировать их, в память о моем пребывании в Дербенте, в самом низу надгробного камня бедной Ольги Нестерцовой:
Увы, ей в двадцать лет пришлось навек уснуть,
Любовь и красоту вмиг забрала могила.
Холодная земля, ей не дави на грудь,
Ведь землю теплую она не тяготила![33]
XXIV ВЕЛИКАЯ КАВКАЗСКАЯ СТЕНА
Я уже намеревался было написать о нашей поездке вдоль этой загадочной гранитной стены, как вдруг мне вспомнилось, что князь Тарханов, у которого мы жили в Нухе, дал мне прочитать собственноручное письмо Бестужева, содержащее в себе все подробности точно такого же путешествия, которое он совершил за двадцать лет до меня.
То, что я рассказал в предыдущей главе о поэте, романисте, заговорщике и изгнаннике, должно было внушить читателям определенный интерес к нему. Поэтому я помещу здесь его рассказ взамен моего; это рассказ человека, который провел на Кавказе не три месяца, как я, а прожил там целых пять лет.
Вот письмо отважного офицера.
«Сейчас из седла пишу к вам. Я ездил осматривать отрывок той славной стены, которая делила древний мир с миром неведомым, то есть с Европою, которая построена была персами, а может быть, и медами, от набегов нас, варваров ... Какое чудное превращение мыслей и событий!
Если вы охотники чихать от пыли старинных рукописей и корпеть над грудами ненужных книг, то советую вам выучиться по-татарски и пробежать «Дербент-Наме»; вспомнить латынь и прочесть «De muro Caucaseo»[34] Баера, заглянуть в Емелина; пожалеть, что Клапрот ничего не писал об этом, и вдвое пожалеть, что шевалье Гамба написал о том чепуху; наконец, сличить еще дюжину авторов, которых я забыл или не знаю, но которые знали и упоминали о Кавказской стене, и потом, основываясь на неоспоримых доказательствах, сознаться, что время построения этой стены неизвестно. Что ее выстроил, однако ж, Хозрев, или Нуширван, или Исфендиар, или Искендер, то есть Александр Македонский ... это ясно, как солнце в час затмения! Наконец, что стена эта соединяла два моря (Каспий с Эвксином) и разделяла два мира, защищая Азию от набегов хазаров, как говорят европейцы, урусов, как толкуют фарсийские летописи. Дело в том, что благодаря разладице исторических показаний достоверного про Кавказскую стену можно сказать одно: она существовала. Но строители, хранители, обновители, рушители ее – когда-то знаменитые, а теперь безымянные – спят давным-давно сном богатырским, не заботясь, что про них бредят. Я не потревожу ни их пепла, ни вашей лени; я не потащу вас сквозь туманную ночь древности отыскивать пустую кубышку ... Нет! Я приглашаю вас только прогуляться со мной прекрасным утром сего июня, чтобы посмотреть почтенные или, если угодно, даже почтеннейшие развалины Кавказской стены. Опояшьте саблю, бросьте за спину ружье, крякните, опускаясь в седло, махните нагайкой – и марш в горы.
Железные ворота Дербентские распахнулись, едва заря бросила на барабан свои розовые перстики, и наш поезд загремел под древними сводами. Я прикомандировался для этого живописного путешествия к дербентскому коменданту майору Шнитникову. С нами был еще один капитан Куринского полка, и этим ограничивалось число русских любопытных, и мудрено ли? Со времени Петра Великого, знаете ли, сколько раз русские осматривали Кавказскую стену? Только трижды! Первый был Петр Первый в 1722 году. Второй – полковник Верховский, тот самый, которого изменнически убил Аммалат-Бек в 1819 году; третья очередь выпала нам. Может быть, вы подумаете, что путь до нее многотруден, далек, опасен? Ничуть не бывало: стоит взять с собой десяток вооруженных татар, сесть с левой стороны на коня и поехать, как сделали мы, – вот и едем.
Утро было будто нарочно выдумано для пути. Туманы раскинули над нами дымку свою, и палящие лучи солнца, сквозь нее просеянные, лились на нас тихою теплотой и светом, не оскорбляющим глаз. Дорога вздымалась в гору и опять ныряла на дно ущелий. Поезд наш, огибая какой– нибудь дикий обрыв Кавказа, стоил кисти Сальватора. Выразительные физиономии татар под нахлобученными шапками, оружие, блестящее серебром, лихие кони их, и горы, и скалы, и море вдали: все было так ново, так дико, так живописно – хоть сейчас на картину. Комендант хотел сначала осмотреть все достойное замечания в окрестности, и мы начали розыски пещеры дивов верстах в пяти от Дербента к югу, в ущелье, называемом по-старинному Коге-Каф (каф – «теснина», коге – «духи»).
Невдалеке от урочища Даш-Кессен («Каменоломня») горные воды, пробив громады, вырыли себе уютную дорогу, по дну которой струится теперь скромный ручеек. В этом-то ущелье поселило предание дивов (татары выговаривают «дев») для домашнего обихода дербентских сказочников. Дивы, как вы знаете, исполины, чада ангелов и людей – я не говорю женщин, ибо теогония Востока предполагала самих ангелов женщинами (о блаженные времена!). Магомет очень вооружился против сего верования, но сам выдумал почти то же; населил рай свой вечно девственными гуриями зеленого, синего и розового цветов. Сколько волшебных замков построила индийская и фарсийская поэзия из туманов басни! В какие живые краски облекло, в какую радужную, очаровательную атмосферу погрузило восточное воображение этот исполинский, хоть мыльный, шар поэзии! Не сытая былью, подавленная существенностью, лишенная надежды на завтра, она кинулась в бездну невероятного, несбыточного и создала из ничего мир небывалый, невозможный, но пышный и пленительный. Как Мильтонов сатана, которого одно крыло просекло уже свод ада, а другое было еще в небе, она связала рай и ад на земле, населила ее существами дивными, изумляющими, коих лица и дела имеют одно земное лишь то, что они осуществились в уме человека. Этого мало: поэзия семитическая, скучая землей, как золотой клеткой, ударила пятой в темя гор и дерзко ринулась в пространство; облетела поднебесье и занебесье, облекаясь то в синеву дали, то в радугу дождей, веялась, как опахалом, облаками, освежала чело свое в лоне бурь, пила росу со звезд, рвала солнцы, как ягоды, и снова, подобно райской птице, утомленная полетом, свивала крылья свои и отдыхала на земле, изукрашенной чудесами. Для нас непонятны красоты поэм арабских, где простота восходит до ребячества, страсти до бешенства, жестокость до бесчеловечия, и между тем все дышит высокой девственною природой!.. Отчего это? Мы вылощены и округлены потоком веков, подобно валунам речным; но разве от того менее красив зубристый обломок гранита! Для нас, поклонников логики и арифметики, не существует и чудесного мира Гиндустана и Фарсистана; нибелунги и саги Севера, наши бабы-яги и богатыри-полканы нам кажутся только любопытными карикатурами; мы потеряли чувство, которое в старину оживляло народам образы их – у нас нет веры в ч у д е с н о е ! В волшебной поэзии мы видим лишь прекрасного мертвеца, и разбор красот ее для нас урок анатомии – ни больше ни меньше. Искусственное удивление не заменит нам тех порывов восторга, когда у людей сердце и ум значили одно и то же, когда самая наука была плодом вдохновения, а не вдохновение – плод науки. Творец даровал дитяти-человечеству какое-то предугада– ние всего, что истинно и прекрасно, дозволил ему, пользуясь всеми причудами младенчества, занимать в долг у будущего мужества, а нас лишил способности отпрядывать в минувшее и облекаться в верования по произволу!
Со всем тем воображение, не вовсе простылое, любит и старается хоть в половину обманывать себя и воздвигать из обломков если не целые дворцы, то живописные развалины дворцов.
Так было и со мной, когда, отстав от поезда, съезжал я по обрывистому ущелью. Я не мог закружить мечтаний моих до того, чтобы наяву видеть кругом себя создания причудливого воображения восточных поэтов: по крайней мере, я припоминал известные мне из переводов отрывки восточных поэм, как прелестный балет, как игру калейдоскопа, как испаряющиеся призраки обаятельного сна.
Надо мной широкими кругами плавал орел; горный ключ невидимо журчал глубоко под ногами, и на востоке синелось необъятное море, облитое морем туманов ... и кругом утесы, опоясанные зеленью, венчанные гранатником с пламенными цветами ... какие рамы для фантазии!
Проводник заблудился – так мало любопытны татары до подручных мест, освященных преданием! Наконец, устав продираться верхом сквозь дубняк, и колючку, и терны, мы бросили коней и по крутизне спустились на дно ручья – это единственный ход к «Дому дивов» («Девын-эв»), который иначе называют «Гибель визиря» («Визирь-гран»), убитого тут во время какого-то нашествия персиян. Мы шли под сводом ветвей, по мшистым каменьям – и вот пещера пред нами. Ручей образовал тут широкое колено, и огромная скала, упавшая с вышины отвесных берегов ущелья, стоймя стоит у входа, словно на страже. Жерло этой пещеры, закопченное дымом, не более восьми шагов поперек и двух с половиной в вышину ... Входим: пещера немного расширяется овалом, сзади ее другая, поменее, в боках выбиты ясли для коней ... помост усеян тысячами костей, ибо это место – всегдашний притон разбойников и плотоядных зверей. Один из бывших с нами есаулов рассказывал, что он в прошлом году убил тут гиену. Вообще должно признаться, что пещера дивов обманула наше ожидание: в ней тесно и душно жить не только великанам, да и обыкновенным смертным; одно лишь преддверие ее, заключенное утесами, заросшее деревами, заплетенное кружевом плюща и дикого винограда, стоило взгляда, даже избалованного красотами природы.
Вперед!
За горной деревней Джалганны взялись нам показать еще диковинку: это пещерка, известная под именем Эмджекляр– пир, то есть «Святых сосцов». За крутизной надо было слезть опять с коней и, хватаясь за корни дерев, спуститься в глубокую долину ... Спустились, огляделись: при подошве скалы, под шатром тутовых дерев, указали нам небольшую впадину, разве сажень в диаметре, с округлого потолка которой висели каменные сосцы, весьма похожие на женские груди, и из каждого ниспадали капли воды, звуча на чаше, выбитой ими. Дождевая влага, растворяя известковые слои и потом процеживаясь сквозь трещины пластов более твердых, мало-помалу образовала эти натеки, оставляя по закону сцепления добычу свою кругами около скважин. Впрочем, я видал тысячу разновидных сталактитов и – никогда подобного. Вероятно, особенная клейкость составных частей раствора была виной этой странной игры случая. Женщины окрестных гор веруют крепко в целительную силу воды, истекающей из сосцов матери-природы. Когда в груди их иссякнет молоко, они издалека приходят сюда пешком, приносят в жертву барана, мешают с землей воду каменных сосцов и набожно пьют ее. Если вера не всегда спасает, зато всегда утешает, а это разве безделица!
И мы напились чудесной воды, и мы полюбовались диким удольем; вскарабкались вверх и, снова проехав деревню, ударились прямо к западу; нам должно было объехать недоступную коням крутизну, по которой спускалась Дагбари ('Торная стена") от четырехугольной крепостцы, на самом обрыве ее стоящей; но прежде чем приблизиться к желанным развалинам, нас повели на северную сторону горы – посмотреть чем-то знаменитый ключ.
– Вот он, вот Урус-булах («Русский родник»), – сказал татарский бек, бородатый наш чичероне, привстав на стременах и подымая папах свой. – Из него пил русский падишах Петер, когда впервые взял Дербент!
Мы спрыгнули с коней и с благоговением черпали горстью воду. Сколько лет протекло с тех пор, как он утолил жажду величайшего из царей и величайшего из людей (две доблести, редко между собой смежные)! Но он все еще журчит неизменно – зато как много изменились с тех пор русские! С каким самосознанием нравственной и политической силы попирали мы Кавказ, на который первый наложил пяту преобразователь России! Я воображал себе державного великана в толпе его сподвижников и кавказских наездников, дивящихся друг другу и еще более дивящихся быть вместе! О как бы дорого дал я, чтобы угадать, какие мысли звездились во всеобъемлющей голове Петра в ту минуту, когда, припав к этому ключу, глотал он кровавым потом своим купленную влагу! Сомнение ли волновалось в душе его об успехе зачатого им дела или великая мысль величия России и тогда явилась в его уме, как Минерва из головы Юпитера, в полной силе и в полном вооружении?..
Правда ли, что
... Заране слышит гений Рукоплескания грядущих поколений!
Князь Дмитрий Кантемир был в поезде Петра Великого и передал рассказ о Кавказской стене Баеру.
И наконец мы приблизились к развалинам Кавказской стены, примыкающей к крутизне. Какое величавое и с тем вместе какое печальное явление предстало очам нашим ... победа природы над искусством, времени над трудом человека! Там виделась постепенность разрушения a priori[35] и a posteriori[36], так сказать, поколение веков, работающих на судьбу. Слабое зерно, запав в трещинку, в спай камней, и разрастаясь деревцом, инде выдвинуло корнями плиты вон из средины стены, раскололо другие, разорвало, сбросило их долой ...и вот воздух, питатель жизни, грызет их; дожди, живители злаков, точат их, и разрушение не щадит лежащих во прахе. Ветер засыпает, растение дробит самые останки, застилает коварной зеленью листов раны, прорезанные его корнями.
Лишь один сострадательный плющ, как песня баянов, свивает две половины времени, вяжет, будто узами родства, стоящих и падших – еще целые и уже разбитые громады. Дубы, грецкие орешники, тут и чинары шумят внизу, торчат из боков, гнездятся на верху развалин, сидят на них, опустив крылья подобно орлам, вцепясь когтистыми корнями, и нередко, опрокинутые бурею, держат на воздухе свою добычу. Но не везде время победило твердыню. Во многих местах, сбросив с чела зубчатую корону бойниц, она еще гордо вздымается над народом дерев, ее осаждающих отовсюду, и лишь столповидные тополи помавают наравне с ней кудрявыми головами, гордясь одним ростом, не крепостью. Мелкие поросли и седой мох, эта пена столетий, лепятся по груди великанов древности и наводят на нее свою мрачную краску. Инде зелень проседает по швам камней узорчатою вышивкой. Инде плющ распустил с башни зеленое знамя свое, но верх стены даже с целыми бойницами всегда увенчан кустарником, и между него стоят молодые деревья, будто на страже. Глядя на свежесть этой стены, подумаешь, что она сто лет назад построена и едва ль пятьдесят назад брошена на съедение пустыне. Дожди не размыли, а только выгладили ее, и перуны будто сплавили ее в одну толщу. И какая тишь, какая глушь в окрестности! Изредка разве прощебечет птичка. Роскошная трава ложится на корень нетронутая, и только копыто коня табасаранских разбойников топчет поляны, багряные земляникою!
Но к делу. Кавказская стена начиналась у южного угла крепости Нарын-Кале и шла прямо от востока на запад по холмам и оврагам непрерывно. До обрыва, который мы объехали (это верст пять от Дербента), видны еще развалины четырех небольших крепостей, из коих крайняя цела. Таких крепостец впоследствии проехали мы много. Они стоят друг от друга на неровном расстоянии (вероятно, для воды), и сами разной величины, от 120 до 80 шагов длиной; шириной всегда менее. Иногда с четырьмя круглыми наугольными башнями, иногда с шестью. Укрепления сии, примыкавшие к стене, вероятно, служили главными караульнями, складочными местами для оружия и запасов, местом жительства начальников и точками сбора и опоры в случае прорыва. Самая стена вышиной, и толщиной, и образом кладки совершенно сходная с дербентскою. Первая, правда, изменяется иногда, смотря по игре почвы, ибо старались, сколь возможно, сохранить горизонтальность короны. Но там, где стена должна идти по наклону, верхние и прочие ряды плит идут уступами, так что каждая плита вырублена наугольником. Плиты почти все 2 42 футов длины, 13А ширины, а толщиною около одного. Кладены две плиты вдоль стены, а третья между ними ребром и вовсе без цементу; зато внутренность стены сбита из булыжника и обломков, связанных глиной с примесью известки. Башни маленькие, и всегда набиты землей, и всегда головой своей в уровень со стеною – отличительная черта азиатской фортификации от готической, в которой башни высоко вздымаются над стеной, пусты и потому в несколько рядов прорезаны стрельницами (meurtrferes). Но всего замечательнее и всего более доказывающее незапамятную древность этой стены есть неизвестность сводов: явление, которое заметил Денон в пирамидах фараонов. С опасностью сломать голову или задохнуться в ямах, ползал я по всем тайникам, в каждой крепостице к воде ведшим, и уверился, что сводный замок строителям Кавказской стены был неведом, хотя в Дербентских воротах, вероятно после и в разные времена, выведены своды, и не острые (еп ogive), но всегда круглые (plein-cintre), вопреки арабской архитектуре, распространившейся вместе с исламизмом. Коридоры накрыты или широкими плоскими плитами, или плитами в выступ, или, наконец, кровлею из плит, сложенных, как на карточном домике, треугольником. Кровли в выступ иногда снизу округлены, что и дает им ложный вид свода, но малейшее рассмотрение разуверяет тем скорее, что они почти все от тягости, на них лежащей, треснули и расщепились веером. Камень сечен был, вероятно, в близких каменоломнях, теперь забитых и заросших дебрями; но предание уверяет, что его возили с морского берега. Отсутствие в нем раковин, составляющих основу приморского каспийского известняка, опровергает это лучше трудности перевозки в бездорожные горы.
Посмотрев и осмотрев Кеджал-Кале, крепостицу, отстоящую верст на двадцать от Дербента, и подивившись ее целости, несмотря на то что вековые дерева завладели ее верхом и внутренностью, мы воротились по другой стороне стены, чтобы выехать на аробную дорогу. Кази-Мулла, нынешний пророк гор, отбитый в прошлом году от Дербента, хотел укрепиться в Кеджал-Кале. Когда я был еще мальчиком, сказал он, я лазил в ней за грушами; но оказалось, что родник, в средине ее бывший, засорился, и потому держаться в ней было бы невозможно.
Мы отобедали в деревне Митаги, расположенной на высокой горе, на самом прелестном местоположении, и потом чрез Сабнову счастливо доехали до Дербента, только искоса взглянув на башни исторического, теперь исчезнувшего города Камака, на высоком каменном мысу виднеющегося. Старинная слава его заменилась теперь другой: камакли (то есть житель деревни Камака) значит в окрестности «дурак». Уверяют, что между ними, как меж абдеритами, нет ни одного умного человека.
Но где, но как, но далеко ли шла Кавказская стена? Далеко ли остались ее развалины, не расхищенные на постройку деревень, как во многих местах, очевидно ? Вот вопрос, который, может быть, век останется задачей. Весть между двумя намазами (то есть около шести часов) перелетала по этой стене от моря до моря! – говорили мне татары. Теперь мы не знаем вести о ней самой, и признаться, это не много делает чести русской любознательности[37].
Как бы то ни было, этот образчик огромной силы древних властей существовал и теперь дивит нас и мыслью, и исполнением. Подумаешь, это замыслили полубоги, а построили великаны. И сколь многолюдны долженствовали быть древле горы Кавказа! Если скудные граниты Скандинавии названы officina gentium[38], как же не дать Кавказу имени колыбели рода человеческого? На его хребтах бродили первенцы мира; его ущелья кипели племенами, которые по ветвям гор сходили ниже и ниже и наконец разошлись по девственному лицу земли куда глаза глядят, завоевывая у природы землю, а потом землю у прежних пришельцев с гор, вытесняли, истребляли друг друга и обливали потоками крови почву, над которой недавно плавали рыбы и бушевал океан[39]. Положим, что персидские или мидийские цари могли волею своей двинуть целые народы для постройки этой стены; но вероятно ли, чтобы сии народы могли жить несколько лет в пустыне малонаселенной, лишенной избыточного землепашества? Вероятно ли, чтобы гарнизоны крепостей и стража стены, всегда ее охранявшие, имели продовольствие из Персии? Не правдоподобнее ли положить, что горы сии, тогда мало покрытые лесом, были заселены многолюдными деревнями, золотились роскошными жатвами и что для сооружения этого оплота от северных горных и степных варваров употреблены были туземцы ? Не правдоподобнее ли ... но что такое подобия правды, когда мы не знаем, что такое сама правда?.. Я кончил».
Через двадцать лет после прославленного изгнанника мы совершили такую же поездку, какую совершил он. Однако наша была на семь верст длиннее его.
Мы, как и он, посетили пещеру дивов и грот Святых сосцов; как и он, мы распознали подземные резервуары, откуда гарнизоны, находившиеся в башнях, черпали воду.
Наконец, перечитав это описание, мы нашли его настолько точным, что решили поместить его здесь вместо нашего, будучи уверенными, что читатель ничего от этого не потеряет.
Но теперь, когда прах его соединился с прахом Искандеров, хосровов и нуширванов, узнал ли он о Кавказской стене больше, чем знал о ней при жизни?
Или душа его озабочена лишь одним – как ответить на вопрос Господа: «Что сделал ты со своей сестрой Ольгой Нестерцовой?»
Будем надеяться, что на Небесах, как прежде на земле, кроткое существо молится за него.
XXV КАРАВАН-САРАЙ ШАХ-АББАСА
Наступило время расставания – самый грустный час в путешествиях. Уже четыре дня мы ездили с Багратионом, не разлучаясь с ним ни на час; он был для нас всем – нашим проводником, нашим переводчиком, нашим хозяином. Он знал цену всему и имя всего; проходя мимо сокола, он тотчас определял его породу; взглянув на кинжал, он тут же оценивал его закалку; на любое высказанное желание он давал лишь один ответ: «Хорошо, будет сделано». Так что впредь мы уже не осмеливались высказывать при нем свои желания. Короче, это был образец грузинского князя – храброго, гостеприимного, щедрого, поэтичного и красивого.
Перед самым отъездом я, как обычно, хотел запастись какой-нибудь провизией, однако Багратион остановил меня:
– В вашем тарантасе уже есть курица, фазаны, крутые яйца, хлеб, вино, соль и перец; помимо того, завтрак и обед заказаны для вас по всему пути до Баку.
– А в Баку? – со смехом спросил я, не предполагая, что предусмотрительность князя шла дальше Баку.
– В Баку вы будете жить у господина Пигулевского, уездного начальника. Вы встретитесь там с очаровательным мужчиной, очаровательной женщиной и обворожительной девушкой.
– Не смею спрашивать вас, что будет дальше!
– Дальше? В Шемахе в вашем распоряжении будет превосходный казенный дом и превосходный человек, комендант города. В Нухе вы найдете князя Тарханова; таких, как он, у вас во Франции называют, если не ошибаюсь, сорвиголовами. Князь покажет вам алмазный перстень, пожалованный ему императором взамен двадцати двух голов разбойников, которые он имел честь поднести государю. Что поделаешь: самая красивая женщина на свете может дать лишь то, что у нее есть. Попутно поцелуйте от моего имени его сына, ребенка лет двенадцати, говорящего по-французски не хуже вас, да вы и сами увидите, какого удивительного ума этот очаровательный мальчуган. В Царских Колодцах вы встретите князя Меликова и графа Толя, которые дадут вам лошадей, чтобы вы отправились осматривать один из сотни дворцов царицы Тамары, лежащих в развалинах. Наконец, в Тифлисе вы остановитесь у вашего консула, барона Фино. Не знаю, первый ли он консул, которого Франция имеет в Тифлисе, но уж наверняка единственный. Там вы будете себя чувствовать, точно на Гентском бульваре. Ну а что будет после Тифлиса, меня уже не касается, это дело других.
– И все эти господа предупреждены?
– Курьер отправился еще три дня тому назад. Впрочем, до самого Баку в вашем распоряжении будет нукер, которому поручено заботиться, чтобы в дороге у вас не было недостатка ни в чем. В Баку вам предоставят взамен него другого сопровождающего – до Шемахи, а в Шемахе еще одного – до Нухи.
Поистине, никакой признательностью нельзя ответить на подобные заботы и, как философски выражается наш друг Нестор Рокплан, отплатить за них можно лишь неблагодарностью.
Однако я подожду другого случая, чтобы воспользоваться этим советом.
Наконец, наш караван тронулся в путь, и мы еще долго в знак прощания махали друг другу папахами, когда наших голосов уже не хватало, чтобы обмениваться словами.
Когда мы увидимся снова? Да и увидимся ли вообще?
Один лишь Бог знает!
Но вот мы повернули за угол какого-то дома, и я перевел взгляд на улицы Дербента, на его великолепные ворота, построенные, по всей вероятности, Хосровом Великим.
Это были ворота Азии!
Мы вступали во вторую часть света.
Калино, который и не догадывался, что в эту самую минуту мы совершали столь поэтический переход, с огромнейшим интересом читал, насколько ему позволяла тряска экипажа, небольшую книжку, по-видимому полностью поглощавшую его внимание.
Всегда пребывая в поисках того, что могло бы дополнить мое путешествие и доставить мне в пути сведения, касающиеся истории, науки или искусства, я позволил себе спросить его, что он читает.
– Вздор, – ответил он.
– Что значит вздор?
– Легенду.
– Легенду! О ком?
– О знаменитом разбойнике.
– Как! Легенда о знаменитом разбойнике – и вы называете ее вздором?
– Да в этих краях их сколько угодно.
– Легенд?
– Нет, разбойников.
– Так вот, друг мой, именно потому, что здесь много разбойников и мало легенд, я отыскиваю легенды. Что же касается разбойников, то я придаю им меньшее значение; к тому же, у меня всегда есть уверенность, что с ними я встречусь. И как называется эта легенда?
– «Снег с горы Шах-даг».
– А что это за снег с горы Шах-даг?
– Сначала вам следовало бы спросить меня, что такое гора Шах-даг.
– Вы правы. Так что же такое гора Шах-даг?
– Это небольшая гора, чуть выше Монблана, и на нее даже не обращают внимания, поскольку она всего лишь часть Кавказа. Мы увидим ее на пути в Кубу. Однажды утром она потихоньку выросла между верховьями рек Кусар и Кудиал-чай; высота ее четыре тысячи триста метров.
– Ну, а снег, которым она покрыта?
– Вот это совсем иное дело: татары приписывают ему необычайное свойство. Когда лето стоит чересчур засушливое и слишком долго не бывает дождя, выбирают татарина, слывущего самым храбрым во всей округе, и посылают его в горы, чтобы он, не страшась пропастей и разбойников, принес в медном кувшине фунт или два этого снега. Татарин приносит снег в Дербент, находит мулл, собравшихся в той самой мечети, где перед вами держали речь, и оттуда все в торжественном шествии, с бесконечными молитвами идут к Каспийскому морю, чтобы бросить в него снег.
– Ну, а затем что?








