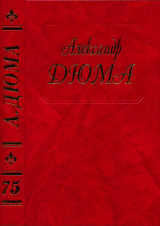
Текст книги "Путевые впечатления. Кавказ. Часть 1"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 33 страниц)
И это не считая его повара-армянина, так прекрасно приготовлявшего шашлык.
В пятистах шагах от окраины Шелковой мы снова встретились с Тереком, с которым мы никак не могли расстаться и который в последний раз преградил нам путь, указывая границу земель, полностью покорных русским.
На другом берегу мы будем уже во вражеской стране: не завоеванной, но близкой к тому, чтобы ею стать.
Стоит нам переправиться через мост, находящийся у нас перед глазами, и любой встречный сможет без всяких сожалений пустить в нашу сторону пулю из своего ружья.
И потому в конце моста, построенного графом Воронцовым и отличающегося необычайной крутизной, расположена застава, около которой стоит караульня и дежурит часовой.
Никакой путешественник не едет дальше один: если это знатная особа, ему полагается иметь конвой, если же он принадлежит к числу простых смертных, ему полагается ждать оказии.
За мостом вы пересекаете линию.
Линия проходит по Кубани и Тереку, то есть двум большим рекам, которые стекают с северных склонов Кавказа и, имея почти одни и те же истоки, тотчас разделяются и впадают: Терек – в Каспийское море, а Кубань – в Черное.
Представьте себе протянувшуюся у основания горной цепи огромную фигурную скобку, начинающуюся у подножия горы Кубань и оканчивающуюся: на востоке – в Кизляре, на западе – в Тамани.
На обеих ее половинах через каждые четыре льё стоят крепости.
Посредине, то есть у основания этой скобки, образованной двумя реками, расположено Дарьяльское ущелье.
По мере того как завоевание ширится, небольшие форты отделяются, так сказать, от крепостей и продвигаются вперед; посты отделяются от фортов и тоже продвигаются вперед; наконец, от постов отделяются часовые и в свою очередь продвигаются вперед, знаменуя достаточно неопределенную границу русского владычества, которую каждую минуту накрывает кровавой волной очередной набег горцев.
От Шемахи, где лезгины в 1721 году захватили триста купцов, до Кизляра, где Кази-мулла в 1831 году отрубил семь тысяч голов, на всем этом огромном поясе нет ни единой сажени, которая не была бы обагрена кровью.
Если там, где вы проезжаете и где вы рискуете в свою очередь погибнуть, пали татары, то на месте их гибели установлены плоские продолговатые камни, увенчанные чалмой и несущие на себе арабские письмена, которые содержат хвалу умершему и одновременно призывают к мести его семью.
Если же там пали христиане, то над ними ставят крест, служащий, напротив, символом прощения и забвения.
Но христианский крест и татарский могильный камень так часто встречаются по дороге, что от Кизляра до Дербента вы словно идете по обширному кладбищу.
Если же в каких-то местах их нет, как, например, от Хасав-Юрта до Чир-Юрта, это объясняется тем, что там чрезвычайно велика опасность и никто не осмеливается идти туда рыть могилы для убитых и ставить над ними камень или крест.
Мертвые тела оставляют там шакалам, орлам и стервятникам; человеческие кости белеют там посреди скелетов лошадей и верблюдов, и поскольку голова, эта отличительная примета мыслящей породы живых существ, унесена убийцей, то не сразу, а лишь после короткого осмотра, продлевать который всегда опасно, становится понятно, с чьими останками ты имеешь дело.
Нельзя сказать, чтобы горцы не захватывали пленников: напротив, на этом они строят все свои финансовые расчеты, всю свою торговлю; кабардинские шашки, черкесские бурки, чеченские кинжалы и лезгинские сукна для них всего лишь второстепенные промыслы.
Они держат у себя пленников до тех пор, пока их семьи не заплатят выкуп; если же пленники теряют терпение и пытаются бежать, то у горцев есть почти верное средство предотвратить повторение подобных попыток: они рассекают бритвой ступни пленнику и каждую рану набивают рубленым конским волосом.
Если семья пленника отказывается платить выкуп или она недостаточно богата, чтобы удовлетворить требования горцев, пленника отсылают на рынок Трапезунда и продают как невольника.
Вот почему в этой смертельной войне и та, и другая сторона показывает примеры удивительной доблести.
На всех почтовых станциях можно увидеть гравюру, изображающую подвиг, который в России пользуется такой же известностью, как во Франции – наша оборона Мазаграна.
Эта гравюра изображает полковника, который, укрывшись вместе с сотней солдат за завалами из убитых лошадей, обороняется против полутора тысяч горцев.
Генерал Суслов, в ту пору подполковник, находился в станице Червленной. 24 мая 1846 года его известили, что полторы тысячи чеченцев спустились с гор и овладели деревней Акбулат-Юрт (в буквальном переводе – «деревня Стальных клинков»).
Командующий левым флангом генерал Фрейтаг был в крепости Грозной, построенной генералом Ермоловым.
Обычно, когда горцы действуют настолько значительным числом, что небольшие казачьи посты не в состоянии оказать им сопротивление, генерала ставят в известность о нападении и ждут его приказов.
Подполковник Суслов получил из Грозной приказ двинуться навстречу чеченцам; одновременно ему было обещано подкрепление из двух батальонов пехоты и двух пушек.
Когда этот приказ пришел, было собрано уже семьдесят лошадей и казаки готовились выступить.
Подполковник отправился с этими семьюдесятью казаками. Но, когда после тридцати одной версты бешеной скачки он подъехал к переправе у Амир-Аджи-Юрта, в его отряде остались лишь те тридцать казаков, у которых были хорошие кони, а все другие отстали по пути.
На переправе оказалось семь донских казаков и сорок линейных. Эти сорок семь человек присоединились к тридцати прибывшим казакам и вместе с ними преодолели переправу.
Неприятель уже оставил деревню Акбулат-Юрт, уведя с собой пленных; он прошел в версте от переправы, и пять крупнокалиберных пушек обстреливали его через Терек.
Подполковник переправился на другой берег, располагая отрядом из девяноста четырех человек, среди которых были семь офицеров, в том числе его адъютант Федюшкин и его товарищ по оружию майор Камков. Осуществить переправу его побудили главным образом услышанные им пушечные выстрелы, доносившиеся со стороны Куринского: он подумал, что их произвели обещанные ему два батальона пехоты и два артиллерийских орудия.
Хотя канонада вскоре прекратилась, подполковник Суслов бросился со своими девяноста четырьмя казаками преследовать полторы тысячи чеченцев.
Заметив, однако, что пушки смолкли и дыма больше не видно, он, пытаясь выяснить, что происходит вдали, отправил двадцать пять человек на небольшой холм, высящийся над равниной.
При виде этих двадцати пяти разведчиков, появившихся на возвышенности, чеченцы бросили против них восемьдесят человек, опрокинули их и погнали вместе с командовавшим ими офицером обратно к основному отряду.
И вот тогда чеченцы, преследовавшие разведчиков, увидели, с каким малым числом врагов они имеют дело, и с этим известием вернулись к своим товарищам.
Тотчас было принято решение истребить эту горстку русских, и командир чеченцев отдал им приказ сделать крутой поворот и очистить равнину от любопытных и неблагоразумных гостей.
Подполковник Суслов заметил приближение крупного вражеского отряда.
Он тотчас собрал военный совет; вопрос о бегстве не стоял на нем и минуты, однако девяносто четыре человека, ожидая нападения полутора тысяч, вполне могли посовещаться, как им следует умереть.
Итогом совета, которым руководили адъютант и майор, стало решение образовать из лошадей большой круг, а людям укрыться за ними и, чтобы обеспечить точное направление огня, опереть ружья о седла.
После того как этот маневр был выполнен, подполковник крикнул во весь голос казакам:
– Стрелять только за пятьдесят шагов!
Чеченцы неслись как вихрь. Когда они оказались на расстоянии около пятидесяти шагов, подполковник скомандовал:
– Огонь!
Команда была исполнена, и маленький отряд окутало облаком дыма, начавшим затем медленно подниматься вверх.
О последствиях залпа нельзя было судить до тех пор, пока воздух не прояснился.
Когда же взгляд смог проникнуть сквозь дымовую завесу, казаки увидели, что они окружены со всех сторон, кроме одной: в правилах чеченцев всегда оставлять врагам возможность для бегства, чтобы не доводить их до отчаяния.
К тому же, имея превосходных коней, горцы твердо уверены, что им удастся настигнуть беглецов и, когда те бросятся врассыпную, легко с ними справиться.
Никто из казаков не двинулся: этот открытый выход был явной западней.
Чеченцы имели дело с людьми, которые, если бы даже их спасение было в бегстве, не хотели бежать.
И тогда противники начали с равным ожесточением обстреливать друг друга, но со стороны чеченцев выстрелы не были смертоносными, так как лошади осажденных служили им заслоном.
Через полтора часа лишь двадцать лошадей остались на ногах.
Круг сжимался, но люди, заключенные в нем, продолжали отстреливаться. Тогда чеченцы ползком приблизились к казакам на расстояние в двадцать—двадцать пять шагов и стали целиться в ноги людей, видневшиеся между ногами лошадей.
Именно в это время адъютант Федюшкин был ранен пулей в бедро.
Суслов увидел, как адъютант дернулся от боли, и понял, что его задела пуля.
– Ты ранен? – спросил он его.
– Да, бедро раздроблено, – ответил адъютант.
– Ничего! – сказал подполковник. – Уцепись за меня, уцепись за свою лошадь, уцепись за что можешь, но только не падай: тебя знают как одного из самых смелых среди из нас, и, если наши люди увидят, что ты упал, они сочтут тебя убитым, а это подорвет их дух.
– Будьте спокойны, – ответил раненый, – я не упаду.
И в самом деле, Федюшкин остался на ногах; однако точку опоры он обрел исключительно в самом себе – в собственном мужестве[18].
В начале боя неприятельская пуля попала в ружье подполковника Суслова: сломавшись прямо в его руках, оно стало бесполезным.
После двух часов сражения у казаков осталось лишь по два патрона на человека и еще сорок патронов, которые Суслов поневоле сберег.
Взяв у мертвых и раненых, выведенных из строя, патроны, их заново разделили между собой.
Каким-то чудом подполковник Суслов и майор Кам– ков не получили ни единой раны.
Чеченцы пришли в ярость от того, что им не удавалось захватить, расстрелять, истребить эту горстку людей.
Они приблизились к живому заслону и, хватая лошадей под уздцы, старались прорвать хотя бы одно звено живой и непреодолимой цепи, которую те составляли. Урядник по имени Вилков отрубил шашкой руку чеченцу.
Подполковник Суслов, у которого не осталось никакого другого оружия, кроме шашки, защищал не себя, ибо он совершенно забыл о себе, а свою любимую лошадь. Животное получило семь пуль. Он поддерживал голову лошади левой рукой, а правой, держа в ней свою грозную шашку, поражал всех, кто к нему приближался.
Правда, это был необыкновенный клинок, один из тех клинков, какие в шестнадцатом столетии привезли на Кавказ венецианцы[19].
Из девяноста четырех казаков подполковника пять человек были убиты и шестьдесят четыре ранены, но они сами перевязали себе раны своими изорванными рубахами и, пока могли продолжать стрельбу, оставались на ногах.
После двух часов и восьми минут этой беспримерной борьбы, за которой подполковник следил по часам, чтобы знать, на сколько времени и на сколько пуль у него еще хватит людей и лошадей, послышался пушечный выстрел со стороны Куринского.
В то же самое время галопом прискакали выбившиеся из сил казаки, отставшие у переправы возле Амир-Аджи– Юрта.
Примерно сорок человек, услышав ружейную перестрелку и догадавшись, что это их товарищи оказывают сопротивление чеченцам, поспешили присоединиться к сражавшимся и бросились в железный круг, а лучше сказать, в огненное пекло.
Пушечный выстрел, послышавшийся перед этим, произвел отряд генерала Майделя, который прежде по ошибке двигался в другом направлении.
– Смелей, ребята! К нам с двух сторон идут подкрепления! – воскликнул Суслов.
И в самом деле, подкрепления подошли, причем вовремя: из девяноста четырех человек шестьдесят девять уже были выведены из строя.
Чеченцы, видя вдали колонну генерала Майделя и слыша пушечные выстрелы, которые ободряли оборонявшихся и раздавались все ближе и ближе, в последний раз бросились в атаку и после этого, словно стая стервятников, унеслись в свои горы.
Когда генерал Майдель пришел на выручку храбрым казакам подполковника Суслова, они уже полностью израсходовали порох и пули и почти истекли кровью.
Лишь с его приходом они перевели дух, лишь тогда адъютант Федюшкин, три четверти часа остававшийся на ногах, хотя у него было раздроблено бедро, позволил себе опуститься на землю, но не рухнул на нее, а прилег.
Из казачьих пик сделали носилки для тех, кто из-за тяжести своих ранений не мог вынести перевозку на лошади, и двинулись в Червленную.
Лошадь подполковника, его несчастная белая лошадь, так любимая им, получила тринадцать пуль, и ее привели обратно короткими дневными переходами.
Пятеро раненых умерли на следующий день.
Лошадь издохла лишь три недели спустя.
Подполковник Суслов получил за это блистательное дело орден Святого Георгия.
Но этим милости начальства не ограничились, хотя в России орден Святого Георгия значит много. Граф Воронцов, наместник Кавказа, написал Суслову следующее письмо:
«Любезный Александр Алексеевич!
Позвольте мне поздравить Вас с получением ордена Святого Георгия и просить Вас принять мой крест, пока Вы не получите Ваш из Петербурга.
Вследствие рапорта генерала Фрейтага о Вашем геройском подвиге с гребенскими казаками, состоящими под Вашим начальством, радость и восхищение распространились в Тифлисе, вслед за чем кавалеры ордена Святого Георгия единодушно просили наградить Вас этим орденом, столь уважаемым в российской армии. Я постараюсь наградить всех, кто был с Вами, и при этом подразумеваю прежде всего почтенного майора Камкова.
Прощайте, любезный Александр Алексеевич. Моя жена сейчас вошла ко мне в комнату и, узнав, что я пишу Вам, просит меня засвидетельствовать Вам ее глубочайшее почтение».
Я собрал и записал эти подробности на том самом месте, где все это происходило; я взбирался на тот небольшой холм, что один на тридцать верст в округе высится над равниной; наконец, сопровождавшие меня казаки, которые хранят благоговейную память об этом блистательном подвиге, показывали мне место этого второго Мазаграна, а когда позднее, посетив весь левый фланг Кавказской линии, я прибыл в Тифлис, проехав перед этим через весь Апшеронский мыс, посетив Баку, Шемаху и Царские Колодцы, на повороте какой-то улицы французский консул барон Фино, с которым мы шли рука об руку, спросил меня, раскланявшись с повстречавшимся нам офицером:
– Знаете, с кем я раскланялся?
– Нет. Я только третьего дня сюда приехал; как же мне здесь кого-нибудь знать?
– Ну, этого человека, я уверен, вы знаете хотя бы по имени: это знаменитый генерал Суслов.
– Как! Герой Шелковой?
– Вот видите: вы его знаете.
– Еще бы! Конечно, знаю! Я записал всю его историю с чеченцами. Скажите ...
–Что?
– А можем мы нанести ему визит? Можно мне прочитать ему то, что я написал о нем, и попросить его поправить мой рассказ, если я в чем-то отклонился от истины?
– Разумеется; по возвращении я напишу генералу, чтобы спросить его, какой день и час он назначит для этого визита.
В тот же день барон получил ответ: генерал Суслов примет нас завтра в полдень.
Генерал – человек лет сорока пяти, небольшого роста, но широкоплечий, крепкий и очень простой в обращении; он крайне удивился, что я так восхищаюсь столь обыкновенным делом, в котором ему довелось участвовать.
Записанный мной рассказ оказался точен, и генерал добавил к подробностям, которыми я к тому времени располагал, лишь письмо графа Воронцова.
Уже расставаясь с генералом, я, по своей скверной привычке, подошел к собранию оружия, привлекшему мое внимание; это собрание включало, в частности, пять шашек.
Генерал снял со стены шашки, чтобы показать их мне.
– Какая из них была с вами в Шелковой, генерал? – спросил я его.
Он указал мне на самую простую из всех; я вынул шашку из ножен, и ее клинок поразил меня своим старинным видом. На нем были выгравированы два девиза, почти стертые от времени и от заточки: на одной стороне – «Fide, sed cui vide»[20], на другой – «Pro fide et patria»[21].
Мои археологические познания позволили мне разобрать эти восемь латинских слов, и я разъяснил их генералу.
– Ну, раз вы разобрали то, что мне никогда не удавалось прочитать, – промолвил он, – шашка принадлежит вам.
Я хотел было отказаться и упорствовал в этом, говоря, что никоим образом не достоин подобного подарка.
– Вы повесите ее на стену крест-накрест с саблей вашего отца, – сказал мне генерал, – это все, о чем я вас прошу.
Так что мне пришлось принять подарок.
Однако у горцев тоже есть свой календарь памятных дат, не менее славных, чем у русских.
Одно из отмеченных в нем событий – тот самый захват Ахульго, когда Шамиль был разлучен со своим сыном Джемал-Эддином, кого мы еще увидим возвращающимся на Кавказ, после того как его обменяли на княгинь Чавчавадзе и Орбелиани.
Своим живым и глубоким умом Шамиль понял преимущество европейских оборонительных сооружений перед азиатскими, возводимыми, кажется, лишь для того, чтобы они служили мишенью для пушек; он избрал своей резиденцией аул Ахульго, расположенный на уединенном утесе среди головокружительных пропастей и скал, подняться на вершину которых, как считалось, было невозможно.
На этом уединенном утесе польские инженеры, которые намеревались продолжить на Кавказе войну, начавшуюся в Варшаве, построили систему оборонительных сооружений, от которой не отреклись бы даже Вобан и Аксо.
Помимо этого, в Ахульго имелось большое количество провизии и боевых запасов.
В 1839 году генерал Граббе решился атаковать Шамиля в этом орлином гнезде.
Все считали, что подобная попытка обречена на неудачу, но генерал Граббе сделал в этот момент то, на что смелые врачи идут в безнадежных случаях: он взял на себя ответственность.
Генерал поклялся своим именем – а «Граббе» означает «могила», – что он возьмет Шамиля живым или мертвым, и выступил в поход.
Когда лазутчики донесли Шамилю о наступлении русской армии, он приказал чеченцам беспрестанно нападать на нее вдоль всего ее пути, начальнику крепости Аргвани велел задержать русских как можно дольше у ее стен, а аварским командирам, на которых он более всего полагался, отдал приказ отстаивать каждую пядь переправы через Койсу.
Сам же он намеревался ждать неприятеля в своей крепости Ахульго, до которой русские, вероятно, не дойдут.
Однако Шамиль ошибся: чеченцы смогли задержать русскую армию от силы на один день, Аргвани заставил ее потерять лишь два дня, а переправу через Койсу, считавшуюся непреодолимой, русские форсировали после первой предпринятой ими атаки.
С вершины своего утеса Шамиль следил за приближением неприятеля. Генерал Граббе взял крепость в осаду, надеясь удушить Шамиля голодом и принудить его к сдаче.
Осада продолжалась уже два месяца, когда генерал Граббе узнал, что Шамиль имеет съестных припасов еще на полгода.
Так что следовало отважиться на приступ.
Во время осады генерал не тратил время напрасно: он продолбил дороги посреди гранитных скал, построил бастионы на уступах утесов, считавшихся неприступными, перекинул мосты через пропасти.
Однако ни один из пунктов, которыми русским удалось пока овладеть, не господствовал над цитаделью Шамиля.
Наконец генерал обратил внимание на уступ, куда можно было подняться, лишь взобравшись с противоположной стороны на гору, а затем спустить на него с помощью веревок пушки, зарядные ящики и канониров.
Однажды утром эту площадку заняли русские, которые дали знать о своем присутствии там, обрушив на цитадель пушечный огонь.
После этого был отдан приказ идти на приступ, и 17 августа русские саперы преодолели укрепления Старого Ахульго.
Русские оставили у подножия только что взятых ими укреплений четыре тысячи человек убитыми.
Но оставался еще Новый Ахульго, то есть крепость.
Генерал Граббе дал приказ идти на приступ.
Шамиль в своем белом одеянии находился на стенах крепости.
Каждый из них жертвовал собственной жизнью: генерал – по одну сторону, имам – по другую.
Тот день был днем кровавой сечи, какой ни орлы, ни стервятники, парившие над вершинами Кавказа, никогда еще не видели.
Противники буквально плавали в крови; все ступени, с помощью которых наступающие преодолевали брешь в стене, были сложены из трупов.
Не слышно было больше воинственной музыки для воодушевления сражающихся: она умолкла.
Ее сменило хрипение умирающих.
Когда целый батальон взбирался вверх по крутой тропе, огромная скала на самой ее вершине, сдвинутая с места человеческими руками, внезапно отделилась от своего гранитного основания, как если бы и гора тоже стала сражаться на стороне горцев, и с ревом и страшным грохотом скатилась вниз по тропе, унеся с собой треть батальона.
Когда те, кто остался в живых, уцепившись за выступы утеса, за корни деревьев, подняли голову, они увидели на вершине горы, откуда обрушилась гранитная лавина, полураздетых женщин с растрепанными волосами, размахивающих саблями и пистолетами.
Одна из них, не находя более камней, чтобы скатить их на врагов, и видя, что они продолжают подниматься вверх, бросила в них своего ребенка, перед этим размозжив ему голову о скалу.
Затем с последним проклятием она ринулась вниз сама и рухнула среди них, все еще дыша.
Русские продолжали подниматься все выше; наконец, они достигли верха укреплений, и Новый Ахульго был взят так же, как и Старый.
В трех батальонах полка генерала Паскевича, полка, носившего название Графского, личного состава осталось лишь на один батальон, да и то для его формирования все равно не хватило сотни солдат. Русское знамя развевалось на Ахульго, но Шамиль не был схвачен.
Его искали среди мертвых, но он не был убит.
Лазутчики уверяли, что он укрылся в пещере, и указали ее; пещеру обыскали, но Шамиля в ней не оказалось.
Каким путем он бежал? Как он исчез? Какой орел унес его в облака? Какой подземный дух открыл ему путь сквозь недра земли?
Никто никогда этого не узнал.
Но вдруг каким-то чудом он появился во главе аварцев, во главе самых преданных своих наибов, и русские чаще, чем когда-либо прежде, стали слышать, как кругом них повторяют: «У Аллаха лишь два пророка: первый зовется Магомет, второй – Шамиль».
Не стоит и говорить, что почти все без исключения кавказские народы отличаются храбростью, доходящей до безрассудства, и потому в жизни, проходящей в вечных сражениях, у горца нет иных трат, кроме как на оружие.
Черкес, лезгин или чеченец, одетый почти что в лохмотья, имеет ружье, шашку, кинжал и пистолет, стоящие двести или триста рублей. И потому ружейные стволы, клинки кинжалов и шашек непременно несут на себе имя или вензель сделавшего их мастера.
Мне дарили кинжалы, стальной клинок которых стоил двадцать рублей, тогда как их серебряная оправа стоила всего лишь четыре или пять рублей.
У меня есть шашка, которую я выменял у Мохаммед– хана на револьверы и клинок которой прямо здесь, на месте, был оценен в восемьдесят рублей, то есть более чем в триста франков.
Князь Тарханов подарил мне ружье, один ствол которого, без оправы, стоит сто рублей, вдвое больше, чем спаренные стволы Бернара.
У некоторых горцев есть прямые мечи, доставшиеся им от крестоносцев; кое-кто из них носит к тому же кольчуги, щиты и шлемы тринадцатого столетия, а у других на груди красный крест, с которым – о чем они совершенно не знают – их предки взяли Иерусалим и Константинополь.
Эти клинки высекают огонь, как огниво, и срезают бороду, как бритва.
Но то, чему горец отдает все свои заботы, – это его конь. И в самом деле, конь горца – важнейшее его оружие, как оборонительное, так и наступательное.
Наряд горца, пусть даже обращенный в лохмотья, всегда если и не изящен, то, по крайней мере, живописен. Он состоит из черной или белой папахи, из черкески с двумя рядами патронных гнезд на груди, из широких штанов, стянутых начиная от колена узкими двухцветными гетрами, из красных или желтых сапог с бабушами того же цвета и из бурки – своеобразного плаща, непроницаемого не только для дождя, но и для пуль.
Некоторые доводят свое щегольство до того, что заказывают себе в Ленкорани бурки на пеликаньем пуху, обходящиеся им в шестьдесят, восемьдесят и даже в сто рублей.
Одну из таких бурок, дивной работы, подарил мне князь Багратион.
И когда одетый таким образом горец выезжает на своем низкорослом неутомимом коне, порода которого, как считается, происходит из Неджда или из Сахары, выглядит он действительно превосходно.
Есть немало свидетельств, что черкесские отряды пробегали за одну ночь сто двадцать, сто тридцать и даже сто пятьдесят верст. Их лошади поднимаются и спускаются, причем всегда галопом, по склонам, которые кажутся непроходимыми даже для пешехода. Поэтому преследуемый горец никогда не смотрит перед собой. Если какой– нибудь глубокий овраг пересекает ему дорогу и у него есть опасение, что вид этой пропасти испугает его коня, он снимает с себя бурку, накидывает ее на голову коня и с криком «Аллах! Иль Аллах!» бросается, причем почти всегда без всяких серьезных последствий для себя, в ров глубиной в пятнадцать—двадцать футов.
Хаджи-Мурад, историю которого мы позднее расскажем, совершил такого рода прыжок с высоты в сто двадцать футов.
Правда, он поломал себе обе ноги.
Горец, подобно арабу, до последней возможности защищает тело своего убитого товарища, но напрасно говорят, что он не покидает его никогда.
Мы видели в овраге близ аула Гелли тело чеченского командира и трупы четырнадцати его соратников.
Я храню у себя ружье этого командира. Оно было подарено мне полком местных горцев, находящимся под начальством князя Багратиона.
XII ТАТАРСКИЕ УШИ И ВОЛЧЬИ ХВОСТЫ
Вернемся, однако, к нашему мосту.
Благодаря конвою мы без всяких затруднений переехали его, задержавшись рядом с ним лишь на те несколько минут, какие понадобились Муане, чтобы сделать с него зарисовку.
Тем временем казаки ожидали нас на самой высокой точке моста и, отчетливо выделяясь на фоне снежных вершин Кавказа, составлявших задний план картины, выглядели чрезвычайно эффектно.
Мост этот поражает своей смелостью: он поднят не только над рекой, но и над обоими ее берегами на высоту более десяти метров. Эта мера предосторожности принята на случай паводков; в мае, июне и августе все реки здесь выходят из берегов и превращают равнины в огромные озера.
Пока длятся такие наводнения, горцы редко спускаются на равнину; однако некоторые из них, более смелые, чем другие, и в это время не прекращают свои набеги.
Вместе с лошадьми они на бурдюках переплывают вышедшую из берегов реку. В бурдюк, помогающий держаться на воде лошади, укладывают сабли, пистолеты и кинжалы.
Ружье, которое горец никогда не выпускает из рук, он держит, переплывая реку, над головой.
Это самый опасный для пленников момент: привязанные недоуздком к хвосту лошади и оставленные без внимания горцем, который вынужден заботиться о своей собственной безопасности, они почти всегда тонут в ходе переправы через разлившуюся на целую версту реку.
Переехав мост, мы оказались на обширной невозделанной равнине: никто не осмеливается обрабатывать эту землю, которая уже не принадлежит горцам и еще не принадлежит русским.
Равнина изобиловала куропатками и ржанками.
Поскольку дневной переход составлял не более тридцати пяти—сорока верст, мы сочли возможным доставить себе удовольствие охотой.
Сойдя с тарантаса – Муане в одну сторону от дороги, а я в другую, причем каждого из нас сопровождали четыре линейных казака, – мы отправились добывать в поте лица свой обед.
Через полчаса у нас было уже четыре-пять куропаток и пять-шесть ржанок.
Тем временем на другом конце равнины показался небольшой отряд из десяти—двенадцати вооруженных человек, и, хотя он двигался слишком медленным для вражеского отряда шагом, мы все же снова забрались в тарантас и заменили в ружьях дробь на пули. Нередко горцы, чья одежда в точности та же, что и у татар, обитающих на равнине, не дают себе труда устроить засаду; они следуют по дороге и, в зависимости от представившихся обстоятельств, либо остаются безобидными путниками, либо совершают вооруженное нападение.
Отряд, ехавший нам навстречу, состоял из татарского князя и его свиты.
Князю было около тридцати лет. Два нукера, следовавшие за ним, держали на руке по соколу.
Чуть подальше виднелся еще один отряд, следовавший той же дорогой и в том же направлении, что и мы. И поскольку он состоял из телег и пехотинцев, идущих шагом, нам вскоре удалось догнать его, и дальше мы двигались вместе.
Те, кому эти пехотинцы служили конвоем, были инженеры, направлявшиеся в Темир-Хан-Шуру строить там крепость.
Кольцо вокруг Шамиля сжимают все теснее и теснее, надеясь удушить его в конце концов в каком-нибудь узком ущелье.
Прибыв в Хасав-Юрт, мы оказались в полульё от сторожевых охранений имама и в пяти льё от его резиденции.
После Кизляра дорога, вслед за окружающим пейзажем, полностью изменила свой характер: она уже не была ровной и прямой, как та, что привела нас из Астрахани в Кизляр, а изобиловала поворотами, неизбежными из-за тех складок земли, какие всегда встречаешь на подступах к горам, и состояла исключительно из подъемов и спусков. Однако эти подъемы и спуски были столь крутыми и каменистыми, что европейский кучер счел бы дорогу непроезжей и повернул бы назад, тогда как наш ямщик, ничуть не беспокоясь об осях нашего тарантаса и о позвонках наших тел, пускал на каждом спуске лошадей в такой галоп, что они с разбега преодолевали следующий после спуска подъем.
Чем круче был спуск, тем сильнее окриком и кнутом ямщик погонял лошадей.
Нужно иметь железную карету и стальное тело, чтобы переносить подобную тряску.
Около двух часов пополудни вдали показался Хасав– Юрт. Ямщик помчался еще быстрее; мы переправились вброд через реку Карасу[22] и оказались в городе.
Находясь еще в четырех или пяти верстах от Хасавюрта, мы отправили вперед одного из конвойных казаков, чтобы справиться о квартире.
Он ожидал нас при въезде в город. Вместе с ним были два молодых офицера Кабардинского полка, которые, узнав, что пристанище ищут для меня, не позволили казаку идти дальше и заявили, что у нас не будет иной квартиры, кроме как их собственной.
Не было никакой возможности отказаться от столь любезно сделанного предложения. Они уже вынесли свои вещи из двух самых лучших комнат, чтобы предоставить эти комнаты нам.
Я занял одну из них; Муане и Калино расположились в другой.








