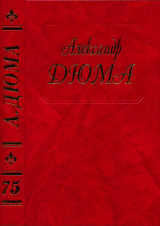
Текст книги "Путевые впечатления. Кавказ. Часть 1"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 33 страниц)
– Затем идет дождь.
– Дураки, – произнес Муане.
– Это ненамного глупее, дорогой мой, чем рака с мощами святой Женевьевы.
– Что правда, то правда. А то, что вы читаете, это история горы или история снега?
– Нет, это история молодого человека, отправившегося за снегом, рассказ об опасностях, которым он подвергался и так далее, и тому подобное.[40]
– Кто же вам дал эту книгу?
– Разумеется, князь. Он сказал мне: «Переведите-ка это для Дюма: я уверен, что он найдет тут кое-что интересное».
– Милый князь! Мало того, что ему приходится заботиться о пище для тела, так он еще принялся отыскивать пищу для ума. Калино, читайте. Я расскажу вам потом обо всем, что мы увидим по дороге, а вы переводите поскорее, мой мальчик. Если Багратион сказал, что это хорошая книга, значит, она действительно хорошая.
– Да, неплохая.
– Так вы довольны?
– Доволен.
– Ничего другого и не нужно. Ну же, ямщик, айда– ай д а!
«Айда-айда!» на татарском языке соответствует русскому «Скорей-скорей!».
Нашему ямщику было тем более непростительно засыпать, что дорога, по левую сторону которой простиралась степь, а по правую тянулось подножие гор, была великолепна.
Огромная стая пеликанов резвилась в море, проявляя, разумеется, грацию, присущую стае пеликанов. Внезапно почтенные пернатые стали выказывать сильное беспокойство; их полет, обычно столь размеренный, стал беспорядочным; вместо того чтобы прижиматься к самой воде, они с громкими криками поднялись в небо. Такой маневр заслуживал внимания. Я начал пристально смотреть в их сторону и вскоре опытным взглядом охотника различил две или три почти незаметные черные точки: именно они и стали причиной всего этого волнения.
То были два или три сокола, преследовавшие целую сотню пеликанов, которым пришла в голову пагубная мысль обратиться в бегство и броситься на восток.
Вскоре черные точки исчезли вовсе, и между лазурью неба и синевой моря остались видны лишь белые пятна. Какое-то время они еще летели, уменьшаясь, словно хлопья тающего снега, и, наконец, совсем растаяли в воздухе.
Наш конвой поступил почти так же, как пеликаны.
При выезде из Дербента с нами было пятьдесят милиционеров и шесть линейных казаков. Некоторые из этих милиционеров, облаченные не в форменную одежду, а в какие-то причудливые наряды, выглядели в высшей степени живописно. Для татар нет ничего важнее оружия: те, что входили в наш конвой, были одеты в лохмотья, но носили пояс, стоивший пятьдесят рублей, кинжал и шашку ценой в сто рублей и патронташ ценой в двадцать пять рублей.
На второй станции, то есть в Куларе, наш конвой состоял всего лишь из пятнадцати милиционеров и трех казаков.
Впрочем, наш первоначальный конвой был просто– напросто почетным эскортом: хотя от Дербента до Баку вы следуете все время вдоль Лезгинской линии, на которую вступают чуть выше селения Эндирей, никакая опасность здесь вам не угрожает, что не мешает местным путешественникам отправляться в поездку вооруженными до зубов, а иноземным путешественникам, если они не удостоились конвоя, ожидать, как уже говорилось, оказии.
Вскоре после третьей станции мы прибыли на берег Самура.
Этот грозный поток – мы не хотели бы оказывать ему честь, называя его рекой, – который в мае приобретает гигантские размеры и на восемь—десять футов заливает пространство в полверсты, сейчас ужался до ширины обычного ручья, что, впрочем, не мешало ему громко шуметь и создавать препятствие путникам. Мы дерзко перерезали его надвое нашим тарантасом и нашей телегой. Он клокотал, выл, пытался взять приступом наши экипажи, но так и не сумел в этом преуспеть.
Изо всех сил подгоняя лошадей ударами кнута, мы во весь опор взлетели на противоположный берег Самура, представлявший собой почти отвесный скат высотой в двадцать или двадцать пять футов. Выше уже говорилось, что на Кавказе именно таким способом преодолевают препятствия в виде складок местности.
Если лошади повалились на спуске, седоки погибнут.
Если лошади попятились на подъеме, седоки опять– таки погибнут.
Однако лошади не валятся и не пятятся, так что никто не погибает.
Ну а если такое случается, что ж, человеческая жизнь так мало значит на Востоке: как мне говорили в Константинополе, это товар, дешевле которого нет ничего.
К вечеру мы прибыли в Кубу. Было уже совершенно темно, когда мы въехали в еврейскую слободу, служащую предместьем города.
Здешние евреи, что бывает редко, скорее земледельцы, чем торговцы. Они происходят, как и воинственные евреи Лазистана, от пленников Синаххериба. Их предместье ведет к мосту, переброшенному через речку Кудиал-чай, над которой Куба возвышается более чем на сто футов.
Этот подъем по дороге без ограждения, которой ночной мрак придавал фантастический вид, был невероятно страшным.
Оставив позади узкие ворота, мы въехали в Кубу.
Однако нам подумалось, что мы въехали в озеро, островами в котором были дома: улицы города весьма напоминали каналы Венеции.
Наш тарантас погрузился в воду по самую ступицу.
Определенно, я предпочел бы оказаться в Самуре со всей его яростью и всем его шумом: по крайней мере, сквозь его воду, чистую как хрусталь, была видна галька, которую он катил.
Командир конвоя повел нас прямо в квартиру, где нам уже был приготовлен ужин.
Кубинское ханство было одним из самых значительных в Дагестане. Оно заключает в себе приблизительно десять тысяч семей, что составляет от шестидесяти до шестидесяти пяти тысяч душ.
В самом городе насчитывается до одной тысячи семей, то есть около пяти тысяч жителей.
Впрочем Куба, по крайней мере сам город, пользуется чрезвычайно дурной славой в отношении воздуха, которым там дышат. Это своего рода Террачина Каспийского моря. Для русских солдат трехлетнее пребывание в гарнизоне Кубы означает смертный приговор: как показывает вскрытие, почти у всех трупов печень и легкие поражены гангреной, а это доказывает, что несчастные умирают от малярийной заразы.
Однако здесь наблюдается некое странное явление, не укладывающееся ни в какие предположения ученых: оно состоит в том, что евреи, которые живут в долине и которым, следовательно, приходится дышать более скверным воздухом, чем обитателям Кубы, живущим на горе, не знают лихорадок, от каких умирают их соседи на правом берегу Кудиал-чая.
Главными предметами торговли в Кубе являются ковры, которые ткут женщины, и кинжалы, которые производят оружейники, соперничающие между собой в славе. Я хотел купить пару этих кинжалов, но щедрые подарки князя Багратиона и князя Али-Султана сделали меня привередливым, и мне не удалось найти здесь достаточно красивых или интересных в историческом отношении кинжалов, чтобы пополнить ими мою коллекцию.
Из Кубы видны многие высочайшие вершины Кавказа, в том числе и вершина Шах-дага, этого снежного великана из легенды, на которую мне посоветовал обратить внимание князь Багратион.
В восемь часов утра лошади были запряжены и конвой приготовился к отъезду; уездный начальник, г-н Коцей– овский, с радушием предоставивший нам превосходную квартиру, счел себя свободным от обязательств перед нами, лишь усадив нас в тарантас.
Какая-то маленькая девочка, прятавшаяся, подобно Галатее Вергилия, только для того, чтобы быть на виду, сопровождала нас более чем на пятьдесят шагов, перебегая с крыши на крышу.
Крыши заменяют в Кубе улицы, имеющиеся в других городах: только по крышам здесь можно ходить, почти не замочив ноги.
Выехав из Кубы, мы снова встретили на своем пути череду русских горок, и нам приходилось спускаться с них и подниматься на них под привычный аккомпанемент криков и хлопанья кнутом. Среди этих подъемов и спусков протекают три реки: Кара-чай («Черная река»), Ак-чай («Белая река») и третья – Вельвеле («Шумная река»).
По мере того как мы продвигались вперед, огромный Апшеронский мыс вытягивался все дальше по правую руку от нас: на каждой версте мы надеялись увидеть его оконечность, но всякий раз какой-нибудь очередной мыс возникал вслед за тем, что оставался у нас позади. Впрочем, погода стояла великолепная, воздух был просто по-летнему теплый, а листва на деревьях словно распускалась с каждым нашим шагом вперед.
Ночью мы прибыли на станцию Сумгаит. В пятистах шагах от нас слышались жалобные стоны Каспийского моря, какое-то время тому назад скрывшееся из наших глаз. Чтобы взглянуть на него при свете звезд, я поднялся на песчаный бугор, круто обрывавшийся к берегу.
С моря, спокойного и гладкого как зеркало, взгляд мой перенесся на степь, простиравшуюся между нами и оконечностью Апшеронского мыса. Пять или шесть огней, светившихся в двух-трех верстах от станции, указывали на то, что там находится татарское кочевье.
Я живо спустился с бугра и бегом бросился на станцию.
Лошади еще не были распряжены.
Я предложил Муане и Калино проехать на пару верст дальше и воспользоваться этой прекрасной ночью, чтобы поспать еще раз в собственной палатке, остававшейся без дела со времени нашей поездки к киргизским соленым озерам, и поближе посмотреть на татарское кочевье.
Предложение было принято. Ну а когда мы предложили ямщикам рубль на водку, это второе предложение было принято с еще большим восторгом, чем первое. Мы расправились с ужином, с утра положенным в телегу, сели в тарантас и отправились в путь, сопровождаемые татарином, который должен был служить нам переводчиком, помогая объясняться с новыми знакомыми, какими мы намеревались обзавестись.
Это был тот самый татарин, которого нам дали в Дербенте, поручив ему заботиться о том, чтобы в пути у нас не было недостатка ни в чем. Следует сказать, что поручение это было важное и исполнял он его добросовестно.
Весь день он скакал во главе конвоя; за три версты от станции, где нам предстояло остановиться, он ускорял бег своего коня и исчезал, а потом мы обнаруживали его у ворот этой станции, где он сообщал нам, что стол для нас уже накрыт. После этого он снова исчезал и появлялся нам на глаза лишь на следующий день – верхом и снова во главе конвоя.
Где и как он ужинал? Где и как он ночевал? Это оставалось тайной, которая не должна была нас заботить.
Он возникал снова, словно черт из табакерки.
Итак, мы тронулись в путь и десять минут спустя увидели по правую руку от себя татарское кочевье.
Оно располагалось вокруг развалин огромного здания, казавшегося еще больше при свете луны и высившегося посреди пустынного пространства.
Прежде всего мы поинтересовались, что это за здание. Нам ответили, что это один из караван-сараев, которые Шах-Аббас оставил у себя за спиной после своих завоеваний.
Развалины состояли из большой стены с боковыми башнями, которые, обрушившись и заполнившись изнутри собственными обломками, образовали террасы.
При свете дрожащих огней кочевья можно было различить на этой стене нечто вроде иероглифических фигур, выдолбленных в камне и, должно быть, служивших архитектурным украшением.
Помимо этой большой стены и башен, сохранились еще три свода, дугообразные проемы которых оказались почти вровень с землей; туда можно было спуститься по склону, усыпанному обломками, и там устроили себе жилище несколько татар, которые были видны в свете костров из хвороста.
О нашем прибытии задолго до него возвестил лай собак, а после того, что произошло в Кумтер-Кале, Муане был решительно не в ладах с этими четвероногими, столь неточно называемыми друзьями человека. Так что мы вышли из тарантаса, лишь когда по призыву нашего татарина, представившего нас как друзей, его соотечественники из кочевья подозвали к себе своих собак и успокоили их.
Едва сойдя на дорогу, вооруженные на этот раз ружьями и кинжалами, что, впрочем, было совершенно излишне, мы задали татарам два вопроса.
Во-первых, можно ли стать лагерем возле них.
На это они ответили, что мы вправе расположиться там, где нам будет угодно, ибо степь принадлежит всем.
Во-вторых, можно ли посетить их в кочевье.
На это они ответили, что мы будем желанными гостями.
Пока четыре казака вытаскивали нашу палатку из телеги и устанавливали ее по другую сторону дороги, возле высохшего колодца, камни которого были украшены такими же фигурами, какие были замечены нами на стенах караван-сарая, мы подошли к ближайшему кочевью, а именно к тому, что примыкало к развалинам большой стены.
Впрочем, оно казалось главным.
Те, кто его составлял, сидели кружком на мешках, которые они перевозили и в которых была мука, поступавшая из Баку и предназначавшаяся для Кавказской армии. Заняты они были тем, что пекли себе на ужин хлеб.
Происходило это очень быстро: они отрезали от огромного куска сырого теста кусок величиной с кулак, клали его на нечто вроде железного барабана, разогретого углями, раскатывали его по этому барабану деревянным катком, как делают наши кухарки, когда они приготовляют хлебные или сдобные лепешки, оставляли его испе– каться на одной стороне, через минуту переворачивали, чтобы он испекся на другой стороне, и передавали друг другу обжигающе горячим.
Эти лепешки своей формой и корочкой напоминают те хрустящие на зубах тонкие пряники, какие продают на наших деревенских праздниках.
Как только мы приблизились к этому кругу, один из кочевников, выглядевший в нем главным, поднялся и подошел к нам, протягивая хлеб и каменную соль – знак гостеприимства, которое он нам предлагал.
Мы взяли хлеб и соль и сели вокруг очага, расположившись на мешках с мукой.
И тогда, поскольку кочевники подумали, вероятно, что гостеприимства в виде хлеба и соли будет недостаточно, один из них подошел к висевшей на стене четверти конской туши, отрезал от нее ломоть, порубил его на небольшие кусочки и положил их на тот железный барабан, на каком только что пекли хлеб; мясо начало дымиться, шипеть и скручиваться; через несколько минут мясо было изжарено, и нам подали знак, что оно приготовлено специально для нас. Мы вытащили небольшие ножи, которые именно для этой цели оружейники присоединяют к ножнам кинжала, стали подцеплять ими кусочки превосходно зажаренного мяса и есть его с хлебом и солью.
Нам часто доводилось намного хуже ужинать за столом, накрытым куда лучше!
Правда, в этой стоянке под открытым небом была своя особая романтика.
Ужинать с потомками Чингисхана и Тимура Хромца, в прикаспийских степях, возле развалин караван-сарая, построенного Шах-Аббасом; видеть на горизонте, с одной стороны, горы Дагестана, откуда каждую минуту могут выйти разбойники, от которых пришлось бы защищать свою свободу и свою жизнь, а с другой – это огромное озеро, так редко посещаемое европейцами, что оно почти столь же неизвестно еще и сегодня в Европе, несмотря на рассказы Клапрота, как некогда оно было неизвестно в Греции, несмотря на рассказы Геродота; слышать вокруг себя звон колокольчиков полусотни верблюдов, которые щиплют иссохшую траву или спят лежа, вытянув голову на песке; находиться одному или почти одному в стране, по своей природе враждебной Европе; наблюдать, как полощется твоя одинокая палатка, напоминающая точку в беспредельном пространстве; развернуть над палаткой, на ночном ветру, трехцветное знамя, которое, быть может, развернуто здесь впервые, – такое не каждый день происходит, такое оставляет глубокое впечатление на всю жизнь, такое видишь снова и снова, закрывая глаза каждый раз, когда хочешь увидеть это опять: настолько огромно обрамление подобной картины, настолько поэтичны ее дали, настолько живописны на ней фигуры, настолько четки на ней линии.
Мы расстались с нашими хозяевами, пожав им руки. Главный кочевник, который уже поднес нам хлеб, приурочив этот дар к нашему прибытию, дал нам еще один хлеб, в предвидении нашего отъезда, ибо у этого кочевого племени не принято заботиться лишь о вечернем ужине: эти люди заботятся и о завтраке, который будет на следующий день.
Я спросил того, кто поднес нам хлеб и соль, как его имя: он назвался Абдель-Азимом.
Да хранит Господь Абдель-Азима!
XXVI БАКУ
На рассвете мы проснулись и осмотрелись кругом, отыскивая взглядом татар и их верблюдов, но никого не было: наши татары снялись ночью, и степь была так же пустынна, как и море.
Я не знаю ничего печальнее моря без кораблей.
Пока мы еще спали, наш татарин привел лошадей; оставалось лишь запрячь их в экипажи и отправиться в путь.
Голубоватая дымка, стлавшаяся по земле, обещала нам великолепный день. Невидимо для нас касаясь земли, сквозь эту дымку проходили стада диких коз, столь беспокойных, столь пугливых, столь боязливых, что я никак не мог приблизиться к ним на ружейный выстрел. Горные вершины были розового цвета, склоны гор – фиолетового с лазурными тенями, степь – золотистожелтого, а море – темно-синего.
Нам предстояло расстаться с этим бедным Каспием – пустынным, затерянным, забытым, неведомым и, вероятно, оклеветанным, – чтобы снова увидеть его только в Баку.
В самом деле, мы прибыли в ту точку Апшеронского мыса, где дорога, которая от Кызыл-Буруна следовала вдоль морского берега, круто поворачивает вправо, углубляется в степь и покидает мыс, уходящий, словно острие пики, в Каспийское море.
Первые пять-шесть верст мы следовали по ровной дороге, пролегавшей по степи; потом нам стали попадаться каменистые бугры, представлявшие собой первые складки гористой местности; наконец, чередование подъемов и спусков начало ощущаться сильнее: мы пересекали последние отроги Кавказа.
На этих плоскогорьях, в этих глубоких долинах, вид которых напоминает пейзажи нашей Бургундии, виднелись небольшие селения, где спокойно дымились печные трубы и мирно паслись стада.
Взошедшая пшеница местами набрасывала на серый фон гор свой зеленый покров с неровно обрезанными краями.
Из собственной ли прихоти кто-то обрезал его таким образом? Или же притязания соседей придали ему такую форму?
Во всяком случае, этим удостоверяла свое присутствие цивилизация.
Из груди у меня вырвался вздох: я уже так давно ничего не слышал о ней и поэтому так хорошо себя чувствовал!
Неужели мы завершили самую красочную и опасную часть своего путешествия?
Однако наш татарин, к которому мы обратились с расспросами, успокоил нас. По его словам, на другом склоне Кавказа, между Шемахой и Нухой, и красочности, и опасностей у нас должно было быть сколько угодно.
Опасность – странный спутник в дороге; сначала ее боятся, всячески ее избегают, потом свыкаются с ее соседством и, наконец, желают ее присутствия: это воз-
буждающее средство, которое удваивает цену всего. Опасность появляется, и ее встречают, как желанную гостью; затем она мало-помалу удаляется, покидает вас и исчезает, и тогда вы сожалеете о ее отсутствии, призываете ее и, если даже вам придется ради этого свернуть с дороги, готовы идти туда, где она есть.
Мы были бы рады сказать ей не «прощай», а лишь «до свидания».
Дорога оставалась почти все такой же, подъемы чередовались со спусками, и так продолжалось до тех пор, пока перед нами не предстал подъем более крутой и более обрывистый, чем все предшествующие; мы выпрыгнули из тарантаса, сделав это не столько ради того, чтобы облегчить нагрузку на лошадей, а ради того, чтобы побыстрее взобраться на вершину последней горы, скрывавшей от нас Баку, и стали пешком подниматься по ее склону.
Взобравшись на самую высокую ее точку, мы снова увидели Каспий, но между нами и морем, видневшимся, впрочем, лишь на некотором расстоянии от берега, лежал Баку, спрятанный в складке местности.
Но вскоре город предстал перед нами, словно по волшебству: мы, казалось, сходили с неба.
На первый взгляд есть два Баку: Баку белый и Баку черный.
Белый Баку – это расположенное вне города предместье, застраивавшееся в основном с того времени, когда Баку стал принадлежать русским.
Черный Баку – это старый Баку, персидский город, местопребывание ханов; он окружен стенами менее красивыми и менее живописными, чем стены Дербента, но, тем не менее, исполненными своеобразия.
Разумеется, все эти стены были воздвигнуты, чтобы противостоять холодному оружию, а не артиллерии.
Посреди города, заключенного в этих стенах, своим цветом, более темным, чем у других зданий, выделяются ханский дворец, разрушенный минарет, старая мечеть и Девичья башня, подножие которой омывается морем.
С этой башней связана легенда, давшая ей название, удивительное для сооружения такой высоты и такой толщины, – Девичья башня.
Один из ханов Баку имел красавицу-дочь; в полную противоположность античной Мирре, влюбленной в своего отца, тут отец был влюблен в свою дочь. Упорно преследуемая своим родителем и не зная, как отвергнуть его кровосмесительную страсть, девушка поставила хану условие: она уступит ему, если в доказательство своей любви к ней он велит построить самую высокую и самую крепкую городскую башню, чтобы дочь устроила там свое жилище.
В ту же минуту хан собрал своих рабочих, и они принялись за дело.
Башня начала быстро расти: хан не жалел ни камней, ни людей.
Однако, на взгляд девушки, башня все никак не достигала достаточной высоты.
«Еще один ярус», – говорила она всякий раз, когда ее отец уже считал работу законченной.
Так что ряды кладки ложились один на другой, и башня, хотя ее возводили на берегу моря, то есть в нижней части города, уже поднялась на высоту минарета, находившегося в его верхней части.
И вот настала минута, когда пришлось признать, что башня достроена.
Теперь следовало заняться ее убранством.
Башню убрали самыми богатыми персидскими тканями.
Когда же там был разостлан последний ковер, дочь хана, сопровождаемая своими придворными дамами, в первый раз поднялась на вершину башни, заявив, что она желает насладиться открывающимися оттуда видами.
Поднявшись на верхнюю площадку башни, она помолилась, препоручила свою душу Аллаху и, перепыгнув через стенные зубцы, бросилась в море.
На пути к этому памятнику девичьего целомудрия вам встретится другой памятник, напоминающий о предательстве.
Это посмертный памятник русскому генералу Цициа– нову.
Генерал Цицианов, управлявший Грузией, осаждал Баку.
Хан, заявив, что он желает выставить условия, на которых город будет сдан русским, попросил о встрече с генералом Цициановым.
Армяне, друзья русских, предупредили генерала, что хан намерен убить его во время этой встречи.
Он ответил, как Цезарь: «Они не осмелятся», – отправился на встречу и был убит.
Жители Баку, страшась возмездия, которое должно было обрушиться на их город, подняли восстание и изъявили желание выдать убийцу русским.
Однако тот сумел ускользнуть от них и укрылся в Персии. Так что русским был отдан лишь город.
Баку, главные здания которого были построены Аббасом II, во все времена считался священным местом для гебров. Ханство, вначале независимое, позднее стало вассалом Персии, которая в 1723 году уступила его России, в 1735 году возвратила его себе, но в конце концов, вследствие вероломного поступка последнего хана, утратила окончательно.
Гробница генерала Цицианова воздвигнута на склоне холма, посреди пустыря, протянувшегося между городом и предместьем. Она построена на том самом месте, где генерал был убит.
Тело его покоится в Тифлисе.
Въезд в Баку такой же, как у самых неприступных средневековых крепостей. Единственные ворота, позволяющие преодолеть три ряда крепостных стен, настолько узкие, что экипаж не сможет протиснуться сквозь них, если не отпрячь пристяжных лошадей тройки и не запрячь их цугом. Проехав через северные ворота, вы оказываетесь на площади, где архитектура домов тотчас же выдает присутствие европейцев.
Справа от площади высится христианская церковь.
Мы велели отвезти нас к уездному начальнику, г-ну Пигулевскому, который поспешил встретить нас у дверей своего дома и пригласил прийти к нему в тот же день на второй обед.
На первом обеде, проходившем в то самое время, когда мы прибыли в город, нам нельзя было присутствовать, поскольку за столом там были две татарские княгини, мать и дочь, а религиозные и общественные обычаи запрещают магометанским женщинам поднимать свои покрывала перед посторонними мужчинами.
Даже сам г-н Пигулевский не был допущен к устроенному им застолью, на котором присутствовали лишь его жена и дочь. Так что он приберег свои силы для обеда с нашим участием.
Нам выделили есаула, который встал во главе колонны и двинулся впереди нашего тарантаса, сопровождая нас в отведенную нам квартиру. Эта квартира, расположенная возле католической церкви, состояла просто– напросто из гостиных клуба, то есть представляла собой лучшее в городе жилое помещение, которого лишили себя члены клуба, чтобы отдать его в мое распоряжение.
Я уже даже не выражаю больше никому свою благодарность, а лишь удостоверяю, что на протяжении всего путешествия нам оказывали подобное щедрое гостеприимство.
Мы были чрезвычайно рады отсрочке, предоставленной нам г-ном Пигулевским, поскольку благодаря этому у нас появилось время ополоснуться, но, как только мы стали барахтаться в наших тазах, он явился собственной персоной.
Как выяснилось, обе татарские княгини решили отступить ради меня от своих национальных и религиозных обычаев: они хотели непременно повидаться со мной. Повар тут же принялся за работу, так что второй обед уже готовили и его должны были подать через четверть часа.
Два экипажа г-на Пигулевского ждали нас у ворот, а сам он, намереваясь увезти нас с собой, ждал, когда мы приведем себя в порядок.
Скажу отдельное похвальное слово г-ну Пигулевскому: он этого вполне заслуживает.
Господин Пигулевский – уездный начальник, полицмейстер и, вероятно, судья – сорокалетний мужчина ростом в пять футов восемь дюймов, скроенный в ширину соответственно своему росту, облаченный в русский мундир и с татарской папахой на голове.
Невозможно увидеть сквозь космы меховой татарской шапки блеск глаз более умных, более понятливых и выразительных.
Остальная часть лица – полные щеки, белые зубы, чувственные губы – удивительно вяжется с этими глазами.
Господин Пигулевский ни слова не говорит по-французски, но каждое русское слово он произносит с таким искренним выражением, с такой яркой интонацией, что вам становится понятно все, о чем он хочет сказать. Благодаря своему радостному и открытому лицу он нашел основы алфавита всеобщего языка, который наши ученые ищут со времени разрушения Вавилонской башни.
Мы сели в экипаж и возвратились к дому г-на Пигулевского.
Едва войдя туда, я понял, отчего по радостному лицу нашего хозяина разлито выражение счастья: дочь шестнадцати лет, мать тридцати двух—тридцати четырех лет, казавшаяся скорее сестрой своей дочери, обе восхитительные красавицы, два-три других ребенка, едва начавшие подниматься по ступеням жизни, – такова была семья, с дружески протянутыми руками вышедшая нам навстречу.
Две татарские княгини и муж младшей из них дополняли круг, куда нас допустили с сердечным радушием и где, судя по тому, какой прием нам здесь оказали, нас ждали, я бы сказал, с нетерпением.
Одна из княгинь была жена, а другая – дочь Мехти– Кули-хана, последнего хана Карабаха.
Матери на вид было лет сорок, а дочери двадцать. Обе были в национальных одеяниях.
Дочь была очаровательна в этом наряде, скорее богатом, впрочем, чем изящном.
Маленькая девочка трех или четырех лет, одетая в такое же платье, как и ее мать, с удивлением смотрела на нас большими черными глазами, в то время как между коленями бабушки прятался мальчик пяти-шести лет, на всякий случай или инстинктивно сжимавший рукоятку своего кинжала.
Это был, клянусь, настоящий кинжал, острый, как игла, и заточенный с обеих сторон, словно бритва, кинжал, который французская мать никогда не оставила бы в руках своего ребенка и который татарские матери вкладывают в руки своих детей как первую игрушку.
Отец семейства, князь Хасай Уцмиев, родившийся в Андрей-ауле, где мы недавно побывали в такой славной и приятной компании, – это красивый, степенный мужчина тридцати пяти лет, который говорит по-французски, словно парижанин, одет в красивый черный с золотом наряд, на голове носит остроконечную грузинскую шапку, а на боку – кинжал с рукояткой из слоновой кости и в позолоченных ножнах.
Признаться, я вздрогнул, услышав его чистое и безукоризненное французское произношение.
В Санкт-Петербурге, насколько я понял, князь познакомился с моим добрым другом Мармье, и теперь он тотчас принялся говорить мне о нем то доброе, что я и сам о нем думаю, а в заключение попросил меня передать от него привет ученому-путешественнику, как только я вернусь в Париж.
Поскольку я не знаю, где теперь пребывает Мармье – в Танжере или в Томбукту, в Мехико или в Дамаске, – и поскольку, вполне естественно, он не находится в библиотеке Министерства народного просвещения, я начинаю прямо сейчас исполнять возложенное на меня поручение, но не потому, что мне хочется побыстрее отделаться от него, а потому, что я спешу передать Мармье привет от друга.
Дамы, уже отобедавшие, оставались за столом во время нашего обеда. Дочь г-на Пигулевского, прекрасная голубая гурия, как назвал бы ее Магомет, прекрасный лазурный ангел, как назовет ее однажды Господь Бог, была нашим переводчиком на протяжении всей трапезы.
Когда обед закончился, выяснилось, что экипажи уже запряжены.
Речь шла о том, чтобы отправиться смотреть знаменитые бакинские огни.
Бакинские огни известны всему свету, но, естественно, куда меньше о них знают французы, то есть народ, путешествующий менее всех других народов в мире.
В двадцати шести верстах от Баку находится знаменитое святилище огня Атеш-Гях, где пылает вечный огонь.
Этот вечный огонь питается нефтью.
Нефть – это горное, или каменное масло, способное воспламениться в любое мгновение, легкое и прозрачное, когда оно очищено, но испускающее густой дым даже в очищенном виде и обладающее неприятным вкусом, что не мешает ее бытовому использованию от Ленкорани до Дербента. Ею пропитывают бурдюки, служащие для перевозки вина, что придает вину особый вкус, который чрезвычайно ценим знатоками, но к которому я никак не мог привыкнуть. Ею смазывают также колеса телег, что избавляет возчиков от необходимости притрагиваться к свиному жиру, к которому они, в основном мусульмане, питают отвращение. Наконец, из нее изготавливают цемент, который, будучи прародителем древнеримского цемента, использовался, как уверяют, при постройке Вавилона и Ниневии.
Нефть образуется вследствие распада твердой горной смолы, производимого подземными огнями. Ее находят во многих местах земного шара, но в самом большом изобилии она обнаруживается в Баку и его окрестностях. Повсюду вокруг города, по всему берегу Каспийского моря вырыты колодцы различной глубины – от трех до двадцати метров; проходя сквозь глинистый мергель, пропитанный нефтью, в ста из них выделяется черная нефть и в пятнадцати – белая нефть.








