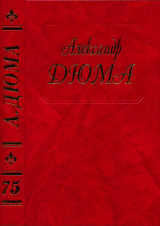
Текст книги "Путевые впечатления. Кавказ. Часть 1"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 33 страниц)
Оркестр играл весь вечер, чтобы торжественно отметить мое вступление в полк.
XXII ДЕРБЕНТ
Выехали мы на рассвете. Погода вновь стала превосходной; снег и гололедица исчезли, и нас заранее известили, что по дороге на Дербент мы встретим лето.
Мы снова проследовали через Гелли. Князь обменялся несколькими словами с начальником наших милиционеров Имам-Газалиевым, разговаривая с ним по-татарски, и, казалось, был удовлетворен его ответом. У меня не было сомнений, что речь шла о моем ружье, и потому я не проронил ни слова.
В Карабудахкенте мы остановились, чтобы позавтракать. Тарантас был набит провизией.
Муане сделал три рисунка. Окружающая местность была необычайно живописной: можно было бы останавливаться на каждом шагу и все зарисовывать.
В Буйнаках мы нашли наши повозки и слугу князя. Я остался с Багратионом в его тарантасе; Муане и Калино разместились в нашем экипаже. За несколько минут лошади были запряжены, и наш караван тронулся в путь.
В двухстах шагах от аула мы подняли целую стаю куропаток, опустившуюся затем в пятидесяти шагах от того места, где она взлетела.
Остановив экипажи, мы бросились преследовать куропаток, и я убил одну из них. Стая перелетела через небольшой холм, закрывавший мне горизонт. Я последовал за ней.
Но, поднявшись на вершину холма, я забыл о куропатках: передо мной открылось Каспийское море.
Оно было цвета синего сапфира, и никакая рябь не пробегала по его поверхности. Однако, подобно степи, продолжением которой оно казалось, море было пустынно.
Нет ничего более величественно печального, чем это Гирканское море, как называли его древние, почти баснословное до Геродота море, протяженность и пределы которого Геродот первым установил и которое сейчас ненамного известнее, чем во времена Геродота.
Таинственное море, принимающее в себя все реки Севера, Запада и Юга, а с Востока не принимающее ничего, кроме песка; поглощающее все и не исторгающее ничего; теряющее свои воды, хотя никто не знает, каким подземным путем они уходят; заполняющееся мало– помалу песком и грозящее превратиться в конце концов в огромное песчаное озеро или, по крайней мере, в одно из тех соленых болот, какие встречались нам в киргизских и ногайских степях.
Впрочем, положение местности и направление дороги ясно давали понять, что море уже не потеряется у нас из виду до самого Дербента.
Мы спустились с холма и снова сели в тарантас, который преодолел последнюю складку местности и снова оказался в степи.
Дальше уже не было ни тех невыносимых подъемов, ни тех безумных спусков, на какие кавказские ямщики даже не обращают внимания, поднимаясь и спускаясь по ним во весь опор и не замечая, что между подъемом и спуском протекает река.
Правда, в течение полугода река отсутствует, но она оставляет, чтобы напоминать о себе, гальку, на которой экипажи пляшут, совершая такие прыжки, о каких не имеют представления во Франции, но какие следует иметь в виду, когда изучаешь конструкцию тарантаса.
Тарантас – это символ борьбы человека с невозможным.
И вот человек побеждает невозможное, он прибывает к месту назначения: правда, человек всегда разбит от усталости и тарантас зачастую сломан, но что за беда, коль скоро путь проделан, расстояние преодолено, цель достигнута!
Нашей целью на этот раз был Каякент.
Мы прибыли туда около четырех часов пополудни. Извлеченная из тарантаса провизия послужила нам обедом. В дороге, особенно в такого рода путешествиях, обед становится чрезвычайно важным делом.
Правда, чаще всего дело это обречено на провал.
Я не устаю говорить снова и снова всем тем, кто намерен предпринять путешествие наподобие того, что совершил я, и совет этот распространяется на представителей всех народов: от Астрахани до Кизляра надо возить с собой все без исключения, а от Кизляра до Дербента надо запасаться провизией в городах или аулах, через которые вам случится проезжать.
В Италии едят плохо, в Испании едят мало, но в степях не едят вовсе.
Впрочем, русские, по-видимому, менее всего на свете испытывают потребность в еде, и, судя по тому, что они чаще всего едят, еда у них не только не считается искусством, но не является даже делом привычки: лишь бы кипел самовар и дымился чай в стаканах, а будет это желтый чай китайского императора или калмыцкий чай князя Тюменя, не имеет для них никакого значения; русские поступают так же, как поступают арабы, съедающие один финик утром и один финик вечером: они чуть потуже стягивают свой пояс, на котором висит кинжал, и, в состоянии обычной своей полноты отправившись в путь, прибывают к месту назначения, имея талию водевильного героя-любовника.
Но с князем Багратионом, который жил во Франции, любил Францию и так хорошо оценил ее продукты растительного и животного происхождения, ее четвероногих и двуногих, голода страшиться не приходилось.
Я до сих пор спрашиваю себя, где он раздобыл паштет из гусиной печени, который мы в первый раз отведали в Каякенте, а прикончили лишь в Дербенте.
Ведь если считать по прямой, то мы находились на расстоянии около тысячи двухсот льё от Страсбурга.
Правда, мы находились еще дальше от Китая и пили при этом отличный чай.
Главное преимущество русских постелей состоит в том, что они не побуждают человека к лени. Мало найдется на свете сибаритов, готовых и после своего пробуждения по-прежнему лежать на простой еловой доске, на которой для уже разбитых в тарантасе костей нет другой подстилки, кроме слоя краски цвета старого дуба. Первый луч света беспрепятственно проникает в комнату, не встречая на своем пути ни ставней, ни занавесок, и, как выражаются поэты, играет на ваших ресницах; вы открываете глаза, исторгаете стон или брань, в зависимости от того, склонны ли вы по характеру к меланхолии или к грубости, а затем соскальзываете со своей доски, и дело кончено: вы уже обуты, одеты, вычищены и, если только у вас нет желания чрезмерно настаивать, чтобы вам принесли воду, даже умыты.
Я купил в Казани три медных таза. Когда мы вытаскивали их из нашего тарантаса, они вызывали удивление у станционных смотрителей, которые вплоть до той минуты, когда мы начинали мыться, тщетно спрашивали себя, для чего эти тазы могут пригодиться.
Но князь имел свою походную кухню, свой чайный набор и свой туалетный несессер. Вот что значит поездить по Франции, где на каждой почтовой станции найдутся и кувшины с водой, и тазы!
Мы встали на рассвете. На рассвете погруженный в туман аул Каякент, который был ярко освещен на переднем плане, а на других планах менял свои оттенки от розового к фиолетовому и в конце концов терялся вдали в голубоватой дымке, являл собой настолько восхитительную картину, что Муане сделал ее зарисовку не только карандашом, но и акварелью.
Впрочем, у нас было на это время: мы находились всего лишь в пятидесяти верстах от Дербента и были уверены, что если обойдется без происшествий, то нам удастся прибыть туда в течение дня.
Но в дороге, особенно на Кавказе, всегда можно рассчитывать на какое-нибудь происшествие. И происшествие случилось: в восемнадцати верстах от Дербента, на Хан-Мамед-Калинской станции, не оказалось лошадей.
Однако рядом с нами находился Багратион, и потому беда эта была не так уж велика: князь встал посреди дороги, остановил шесть или восемь первых же проезжавших мимо арб и наполовину шутками, наполовину угрозами, говоря по-татарски и суля деньги, обратил возниц этих повозок в ямщиков, а их клячи – в почтовых лошадей.
Мы снова двинулись в путь.
По мере того как по дороге нам попадались возвращавшиеся на станцию лошади, мы отпускали на свободу татарских возниц с их тройками и двигались вперед все более быстрым шагом.
Около двух часов пополудни показалось татарское кладбище, давая знать о близости Дербента, скрытого от нас за изгибом горы.
Склон холма, имевшего форму амфитеатра и высившегося над морем, на протяжении целой версты ощетинился надгробными камнями, обращенными к востоку.
Багратион обратил мое внимание на стоявший среди этого леса надгробных камней небольшой памятник, игриво окрашенный в розовый и зеленый цвета.
– Вот могила Султанеты, – сказал он.
– Я стыжусь своего невежества, – отвечал я, – но кто такая Султанета?
– Это любовница или жена, как вам будет угодно, шамхала Тарковского. Вы помните тот дом на вершине скалы?
– Еще бы! И Муане тоже помнит его; не правда ли, Муане?
– Что? – переспросил Муане, сидевший в другом экипаже.
– Да ничего: я просвещаюсь.
И я обратился к Багратиону:
– Так вы говорите, князь, что о ней существует какое-то предание, какая-то легенда?
– Лучше того: подлинная история, и вам расскажут ее в Дербенте. На свете нет ничего более романтического.
– Прекрасно, я сделаю из этого целый том.[32]
– Вы сделаете из этого четыре, шесть, восемь томов – сколько пожелаете. Но неужели вы думаете, что ваших парижских читателей так уж заинтересует любовь аварской ханши и татарского бека, даже если он и потомок персидских халифов?
– Почему бы и нет? Сердце везде сердце – во всех странах света.
– Да, но страсти проявляются по-разному. Нельзя судить обо всех жителях Азии по Оросману, не желавшему, чтобы Нерестан превзошел его в благородстве. Аммалат-бек – Аммалат-бек это возлюбленный Султа– неты – так вот, Аммалат-бек, убивший полковника Верховского, который спас его от виселицы, вырывший труп Верховского из земли, чтобы отрубить ему голову, и принесший эту голову Ахмет-хану, отцу Султанеты, который назначил такую цену за руку своей дочери, – вряд ли все это будет вполне понятно графиням из Сен-Жерменского предместья, банкирам с улицы Монблан и княгиням с улицы Бреда.
– Это будет ново, дорогой князь, а я рассчитываю на новизну. Но что это там показалось?
– Да это Дербент, черт побери!
И в самом деле, это был Дербент, то есть огромная циклопическая стена, которая загораживала нам дорогу, протянувшись от вершины горы до самого моря.
Лишь массивные ворота, принадлежавшие, судя по их форме, к той мощной восточной архитектуре, которой предназначено бросать вызов векам, стояли открытыми перед нами и, казалось, втягивали в себя воздух и заглатывали дорогу.
Возле этих ворот возвышался фонтан: он был построен, по-видимому, еще пеласгами, и к нему приходили черпать воду татарские женщины в своих длинных накидках в яркую клетку.
Вооруженные до зубов мужчины стояли, прислонившись к стене, неподвижные и важные, как статуи.
Они не говорили между собой и не смотрели на проходивших мимо них женщин: они грезили.
По другую сторону дороги тянулась одна из тех разрушенных стен, какие всегда есть возле ворот и фонтанов в восточных городах и, по-видимому, находятся там для того, чтобы произвести впечатление на приезжих.
Внутри стены, там где, без сомнения, некогда стоял какой-то дом, росли огромные дубы и ореховые деревья.
Мы велели остановить экипажи.
Так редко можно встретить город, соответствующий тому представлению, какое вы составили себе о нем по его имени, по истории его возникновения и по свершившимся на его глазах событиям!
Но Дербент в самом деле таков; и это не просто город с железными воротами: он сам не что иное, как железные ворота; это огромная стена, призванная отделить Азию от Европы и остановить своим гранитом и своей медью вторжение скифов – этого ужаса древнего мира: в его глазах они представляли собой живое варварство, и само их имя напоминало свист их стрел.
Наконец, мы решились въехать в город.
Это в самом деле пограничный город, стоящий на стыке Европы и Азии, одновременно европейский и азиатский.
В верхней его части находятся мечеть, базары, дома с плоскими крышами и крутые подъемы, ведущие в крепость.
Внизу – дома с зелеными кровлями, казармы, дрожки и телеги.
Однако кишевшая на улицах толпа являла собой смешение персидских, татарских, черкесских, армянских и грузинских нарядов.
И посреди всего этого неторопливая, невозмутимая, ледяная и белая, как привидение в саване, армянка, задрапировавшаяся в длинное белое покрывало, словно античная весталка.
Ах, как же все это было красиво! Мой бедный Луи Буланже, мой дорогой Жиро, отчего вас не было с нами! Ведь мы с Муане оба звали вас с собой.
Экипажи остановились перед домом губернатора, генерала Ассеева; сам он был в Тифлисе, но слуги ждали нас на крыльце и обед был подан на стол: Багратион протянул свой волшебный жезл от Темир-Хан-Шуры до Дербента, и все было готово к нашему приезду.
Мы поели как можно скорее, ибо нам хотелось воспользоваться последними лучами солнца, чтобы спуститься к морю, находившемуся всего лишь в двухстах или трехстах шагах от нас.
Багратион взялся быть нашим проводником. Дербент – это его город, а точнее, его царство; здесь все его знали, все его приветствовали, все ему улыбались; чувствовалось, что все эти жители любят его, как принято любить все расточительное и благодетельное, как свойственно любить родник, изливающий свою воду, или дерево, отряхивающее свои плоды и дарующее тень.
Просто невероятно, как же легко быть добрым, если ты силен.
Огромное впечатление на нас произвело здесь в первую очередь небольшое земляное строение; его защищали две пушки, и оно было окружено цепью, на двух каменных столбах которой были выбиты две даты: «1722» и «1848», а также надпись:
«ПЕРВОЕ ОТДОХНОВЕНИЕ ВЕЛИКОГО ПЕТРА».
В 1722 году Петр посетил Дербент, а в 1848 году была установлена эта ограда вокруг землянки, в которой царь жил.
Третья пушка защищает землянку со стороны моря.
Эти пушки были привезены Петром; их отлили в Воронеже на Дону, и они несут на себе дату «1715».
Та из трех пушек, что помещена позади землянки, лежит на лафете того времени.
Вот еще одно место, в котором останавливался этот гениальный человек и которое освящено признательностью народов. Русские восхищают тем, что полтора столетия, прошедшие со времени смерти Петра, ничуть не уменьшили почтения, которое они испытывают к его памяти.
Царь увидел там море и побережье, но, к своему огорчению, не обнаружил там гавани.
Дербент не имеет даже рейда; суда подплывают к городу по каналу шириной в пятнадцать футов. За исключением этого прохода, море тут везде бьется о прибрежные скалы.
Часто, когда оно немного штормит, люди вынуждены бросаться в воду, чтобы направить свою лодку в этот узкий проход, где вода доходит только до пояса.
Нечто вроде мола, который морская вода заливает при малейшем движении волн, выдается в море шагов на пятьдесят. Мол этот служит для того, чтобы сесть в судно, находящееся за линией бурунов.
Стена, защищающая город с южной стороны, вначале тянется вдоль этого мола, но вскоре отходит от него, оставляя его одиноко выдаваться в море. Однако, чтобы уменьшить сопротивление волнам, в основании мола проделаны отверстия, напоминающие огромные бойницы: через них во время бури вода может входить и выходить; мы не говорим о приливах и отливах, так как в Каспийском море их нет.
С берега моря превосходно просматривается весь город, расширяющийся с каждым уступом. Это каскад из домов, спускающийся с первой цепи холмов к самому побережью. Но чем ближе эти дома к берегу, тем более европейский у них облик.
В верхней части города вы находитесь в татарском ауле.
В нижней части города вы находитесь в русской казарме.
С берега город предстает в виде вытянутого прямоугольника, который напоминает развернутый и провисший посередине ковер. С южной стороны стена имеет нечто вроде вздутия, как если бы она уступила давлению со стороны города.
Везде, где стена остается нетронутой, легко распознать, что она циклопической постройки; в тех местах, где стена обрушилась, она восстановлена из обычного камня и по нынешним правилам каменной кладки.
Однако я сомневаюсь, что стена восходит ко временам пеласгов; если бы у меня хватило смелости высказать свое мнение по поводу столь трудного вопроса, то я заявил бы, что Хусрав Великий, которого мы называем Хоеров, укрепил их, в соответствии с принятыми у пеласгов правилами, около 562 года, во время своих войн с Юстинианом.
Южные ворота могут служить, мне кажется, подтверждением этого мнения: они увенчаны знаменитым персидским львом, которого сын Кавада избрал своим символом и который выделяется среди различных пород львов, придуманных ваятелями, той характерной чертой, что его голова имеет вид погремушки.
Ниже льва начертана надпись на древнеперсидском языке, которую никто из нынешних персов прочитать не может. Багратион пообещал мне сделать оттиск с этой надписи, ну а я пообещал ему заставить моего ученого друга Соси сделать ее перевод.
Только ночь вынудила нас возвратиться в дом, а лучше сказать, в наш дворец, и мы обратились к ней с мольбой, чтобы она прошла столь же быстро, как проходят летние ночи.
Ведь мы так жаждали обозреть Дербент, который предстал перед нами в волшебстве вечерних сумерек и, конечно же, должен был являть собой самое любопытное зрелище из всего, что нам доводилось увидеть когда-либо прежде.
XXIII ОЛЬГА НЕСТЕРЦОВА
С рассветом мы были уже на ногах. Не будем, однако, неблагодарны к постелям дербентского губернатора и засвидетельствуем, что уже в третий раз, теперь в Дербенте, мы спали на чем-то, напоминавшем тюфяк, и укрывались полотенцами, напоминавшими простыни.
Русское гостеприимство опередило наше пробуждение: коляска, запряженная, вероятно, еще с вечера, ожидала у ворот.
Необходимо ежеминутно повторять, хотя этого все равно будет недостаточно, что ни один народ на свете не способен так понимать все тонкости гостеприимства, как русский народ.
Оставляя в стороне его второстепенные улицы, Дербент, подобно романским церквам, перерезан крестообразно двумя главными улицами, из которых одна продольная, а другая поперечная.
Продольная улица идет от моря к персидско-татарскому городу, однако она вынуждена остановиться у базара, поскольку пересеченность рельефа не позволяет ей подниматься выше.
Поперечная улица идет от Южных ворот к Северным, или, если предпочтительнее воспользоваться другими названиями, от ворот Льва к воротам Фонтана.
Обе стороны улицы, идущей в гору, застроены лавками, причем почти все они принадлежат медникам и кузнецам. В глубине каждой из этих лавок выдолблена ниша, и в ней неподвижно, с важностью, присущей его породе, на жердочке восседает сокол.
Во все дни праздников и отдыха кузнец или медник, словно знатный вельможа, доставляет себе удовольствие поохотиться с соколом на жаворонков и других мелких птиц.
Осмотрев базар, мы отправились в мечеть. Мулла ждал нашего прихода, чтобы помочь нам осмотреть ее. Я хотел было по восточному обычаю снять сапоги, но он не позволил это сделать, так что в итоге там просто убрали священные ковры и нас провели по каменным плитам.
Когда мы покидали мечеть, в глаза мне бросилось нечто вроде надгробного столба. Мне подумалось, что этот столб должен иметь отношение к какой-нибудь легенде.
И если я и ошибся, то лишь отчасти: это оказалась не легенда, а подлинная история.
Около ста тридцати лет тому назад, когда Дербент, персидский город, находился под властью Надир-шаха, местные жители восстали против шахского наместника, весьма мягкосердечного и миролюбивого, посланного им судьбой, и выгнали его из города.
Однако Надир-шах не мог позволить, что перед ним, властителем Азии, закрыли ворота в Европу; взамен миролюбивого наместника он послал в Дербент самого жестокого из своих фаворитов, приказав ему любой ценой снова захватить город и оставив на его усмотрение выбор наказания, которому следовало подвергнуть мятежников.
Новый хан двинулся к Дербенту, взломал его ворота и овладел городом.
На другой день после того, как хан взял в свои руки власть в Дербенте, он приказал всем правоверным отправиться в мечеть.
Благонамеренные мусульмане явились туда, неблагонамеренные остались дома.
Каждому из тех, кто явился по его приказанию, хан повелел вырвать при входе в мечеть один глаз.
Что же касается тех, кто остался дома, то им вырвали оба глаза.
Глаза всех этих кривых и слепых взвесили: по персидской мере их набралось семь батманов, по русской – три с половиной пуда, по французской – сто десять фунтов.
Все эти глаза погребены под столбом, стоящим напротив ворот, между двумя платанами.
Мы как раз выслушивали эту историю, весьма похожую на одну из сказок султанши Шахерезады, как вдруг я увидел приближающуюся ко мне группу примерно из двадцати персов, во главе которых шел двадцать первый перс, по-видимому их начальник.
Я был далек от мысли, что они ищут меня, но уже через минуту все мои сомнения на этот счет рассеялись.
Персы явно нацелились на меня.
– Что это значит, дорогой князь? – поинтересовался я у Багратиона.
– Ну, – отвечал он, – мне кажется, что это депутация.
– А вы не думаете, что они идут для того, чтобы вырвать у меня глаз? Я не имею никакой охоты быть властелином царства слепых.
– Не думаю, чтобы вы имели повод опасаться чего– либо подобного; к тому же мы здесь для того, чтобы защищать вас: нельзя ведь так вот взять и вырвать глаз у почетного члена полка местных горцев. Во всяком случае, я знаю главу этой депутации: он порядочнейший человек, потомок того, кто в свое время преподнес ключи от города русскому императору; его зовут Кавус-бек Али– Бен. Сейчас я узнаю, что им от вас надо.
Багратион направился к Кавус-беку Али-Бену и спросил у него, чего тот хочет.
– Все очень просто, – пояснил мне князь, вернувшись. – Этот славный человек, который изъясняется по-русски, читал ваши книги в русском переводе; он пересказал их – вы же знаете, что персы прекрасные рассказчики, – так вот, он пересказал их своим друзьям, и люди, которых вы здесь видите, – это почитатели «Мушкетеров», «Королевы Марго» и «Монте-Кристо».
– Послушайте, дорогой князь, я приехал из Парижа в Дербент совсем не для того, чтобы рисоваться. Поэтому скажите откровенно, чего на самом деле хотят от меня эти люди?
– Да я же объяснил вам, честное слово! Только не показывайте, что вы в этом сомневаетесь, а то они очень огорчатся; ну вот, они подошли: примите важный вид и слушайте.
И в самом деле, глава депутации приблизился к нам, положил руку на сердце и обратился ко мне со следующей речью на русском языке:
– Прославленный путешественник!..
Мне перевели это вступление, и в ответ я поклонился со всей важностью, на какую был способен.
Кавус-бек продолжал:
– Прославленный путешественник! Ваше имя известно нам благодаря вашим сочинениям, переведенным на русский язык. Уже давно газеты возвестили о чести, которой вы пожелали удостоить нас, посетив наш город. Уже давно мы ждем вас; теперь мы лицезреем вас и посему пребываем в счастье. Позвольте же, ваше превосходительство, выразить вам радость и признательность персидского населения Дербента, а также высказать надежду, что вы не забудете наш город, как ни один из его жителей никогда не забудет день вашего приезда к нам.
Я поклонился.
– Примите, – сказал я ему, – самую искреннюю благодарность человека, который всю жизнь стремился быть собратом Саади, никогда не имея надежды стать его соперником.
Князь перевел мой ответ, точно так же как перед этим он перевел обращенную ко мне речь; Кавус-бек повторил мои слова всей депутации, которая, по-видимому, осталась чрезвычайно довольна ими.
– Теперь, – сказал мне князь, – я полагаю, что было бы правильно пригласить его на обед.
– А вы не полагаете, что шутка несколько затянулась?
– Но, клянусь вам, это вовсе не шутка.
– Куда же, по-вашему, мне пригласить его на обед? В «Парижское кафе»?
– Нет, к себе домой.
– Но я здесь не у себя дома: я в доме генерала Ассе– ева, дербентского губернатора.
– Нет, вы у себя дома. Выслушайте то, что я скажу, и запомните это: на Кавказе, причем всюду на Кавказе, вы можете войти в первый встречный дом и сказать: «Я иноземец и пришел просить у вас гостеприимства». Тот, кому вы окажете эту милость, уступит вам свой дом, удалится со всей своей семьей в самую маленькую комнатку и будет каждый день заботиться о том, чтобы у вас ни в чем не было недостатка; и, когда по прошествии недели, двух недель, месяца вашего пребывания у него, вы соберетесь покинуть его дом, хозяин будет ждать вас у порога, чтобы сказать вам: «Продлите еще на день честь, которую вы мне оказали, и поезжайте завтра».
– В таком случае пригласите его от моего имени, дорогой князь, но с одним условием.
– Каким?
– Что он подарит мне перевод своей речи на персидский язык: я намерен вставить ее в рамку.
– Это большая честь для него: он принесет вам этот перевод, когда придет на обед.
И князь передал мое приглашение Кавус-беку Али– Бену, пообещавшему мне прийти на обед и принести с собой текст своей речи.
Пока все это происходило, привели четырех лошадей.
– А это еще что такое? – спросил я Багратиона. – Неужели эти лошади обучены грамоте и тоже прочли мои книги?
– Нет, это всего-навсего четыре лошади, верхом на которых мы поднимемся в крепость, куда невозможно доехать в экипаже.
– А нельзя ли нам отправиться туда пешком?
– Если у вас есть желание оставить свои сапоги в грязи, а вслед за сапогами оставить там и носки, то да; но если вы намерены прибыть туда так, чтобы иметь возможность познакомиться с комендантом крепости, с его женой и дочерью, ожидающими вас к себе на завтрак, то поезжайте верхом.
– Так комендант ждет меня к завтраку?
– По крайней мере, он дал мне знать об этом. Но, в конце концов, если вам этого не хочется, вы вольны отказаться.
– Да нет уж, черт побери! А вы уверены, что все эти люди не принимают меня за потомка Александра Великого, построившего, по их мнению, этот город?
– Берите выше: они принимают вас за самого Александра Великого, победителя при Арбелах! А вот и Буцефал. Садитесь!
Я оседлал Буцефала и, попросив Багратиона занять место во главе колонны, двинулся вслед за ним.
Мы приехали в крепость.
Следует думать, что достойный комендант наблюдал за нашими передвижениями, пользуясь подзорной трубой: он и его адъютант ждали меня у ворот.
Обменявшись с комендантом первыми приветствиями, я попросил у него разрешения обернуться назад.
Отсюда город представал передо мной совершенно иначе, чем я видел его накануне, и мне хотелось познакомиться с ним и с этой стороны.
Теперь, вместо того чтобы взбираться на вершину горы, Дербент спускался к морю, имея в ширину около одного километра, а в длину – три километра; оттуда, где мы находились, виднелись крыши домов с просветами улиц между ними и, на всем пространстве города, лишь два массива зелени.
Один из них был городским садом.
Другой – платанами мечети, под сенью которых были погребены глаза жителей Дербента.
Муане сделал мельчайшую зарисовку города, рассчитывая увеличить ее потом в размерах в десять раз.
Мне редко доводилось видеть что-либо величественнее картины, расстилавшейся перед моими глазами.
Багратион обратил мое внимание на то, что завтрак, по всей вероятности, остывает и нам следовало бы войти в дом коменданта.
Мы нашли там все очаровательное семейство, ожидавшее нас: жену коменданта, дочь и сестру; все они говорили по-французски.
На берегу Каспийского моря – вы можете представить себе такое? – это казалось каким-то чудом.
За завтраком комендант рассказал, что Бестужев– Марлинский по возвращении из Сибири жил в этой крепости.
– А знаете ли вы, – добавила супруга коменданта, – что Ольга Нестерцова похоронена в пятистах шагах отсюда?
– Нет, – отвечал я, – не знаю.
Зато я превосходно знал, кто такой Бестужев.
Бестужев-Марлинский приходился братом тому Бестужеву, которого повесили в Санкт-Петербургской крепости вместе с Пестелем, Каховским, Рылеевым и Муравьевым за участие в заговоре 14 декабря.
Будучи декабристом, Бестужев, как и его брат, был приговорен к смертной казни, но император Николай смягчил наказание, и Бестужев был сослан в сибирские рудники.
Спустя два года он получил разрешение отправиться рядовым солдатом на Кавказ, чтобы принять участие в войне с Персией. Именно тогда он и жил в этой крепости, и его снова произвели в прапорщики.
Я немало говорил о нем в Нижнем Новгороде с Анненковым и его женой – двумя героями моего романа «Учитель фехтования», которые после декабрьских событий стали изгнанниками и, проведя в Сибири тридцать лет, лишь недавно вернулись в Россию. Графиня Анненкова, наша соотечественница Полина Ксавье, показала мне крест и браслет, которые Бестужев выковал из куска кандалов ее мужа.
Эти две драгоценности – я говорю так потому, что в руках искусного кузнеца звено железной цепи превратилось в настоящие драгоценности, – были материальным символом поэзии, преобразующей все, к чему она прикасается.
Так что я знал Бестужева-Марлинского как декабриста, как изгнанника, как железных дел мастера, как поэта и как романиста.
Но, повторяю, все это нисколько не подсказывало мне, кто же такая Ольга Нестерцова, чья могила находилась всего лишь в пятистах шагах от крепости.
Я попросил рассказать мне о ней.
– Сначала мы покажем вам ее могилу, – сказала мне супруга коменданта, – а потом расскажем ее историю.
С этой минуты меня охватило желание как можно быстрее покончить с завтраком. Я очень люблю хорошие завтраки, но еще больше люблю хорошие истории, и если бы мне довелось жить во времена Скаррона и бывать на его обедах, то всем блюдам там я предпочел бы жаркое, поданное его женой.
Когда завтрак кончился, дамы пожелали проводить нас на христианское кладбище.
Мы поднялись еще шагов на сто, чтобы выйти из крепости, и оказались на площадке, которая с одной стороны господствовала над громадным обрывом, а с другой стороны, напротив, переходила в отлогий склон горы.
С этой стороны стены крепости были изрешечены пулями; осажденная в 1831 году Кази-муллой крепость устояла, но она сильно пострадала от соседства башни, захваченной горцами.
Так что башня теперь срыта, чтобы подобное не повторилось.
Эта башня являлась частью системы укреплений, связывающих первую крепость со второй; кроме того, она соединялась с той знаменитой стеной, что была соперницей Китайской стены и, по словам историков, простиралась от Дербента до Тамани, пересекая весь Кавказ и отделяя Европу от Азии.
Не будем долго распространяться об этой стене, ставшей предметом стольких научных споров, и скажем лишь то, что нам о ней известно.
Мы верхом проехали вдоль нее от первой крепости до второй, то есть около шести верст.
Там она прерывается, уступая место непреодолимой пропасти, где ее нельзя было продолжить; однако по другую сторону пропасти она вновь появляется, и мы проследовали вдоль нее, все так же верхом, еще двадцать верст: вот все, что мы самым искренним образом сочли своим долгом сделать в честь науки.
Татарский князь Хасай Уцмиев, с которым мы познакомились в Баку, проехал вдоль этой стены на двадцать верст дальше нас, то есть всего он проделал сорок семь верст и ни на минуту не терял из виду ее следов.








