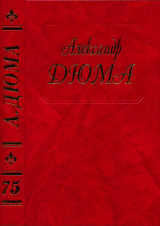
Текст книги "Путевые впечатления. Кавказ. Часть 1"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 33 страниц)
И наконец, добавьте ко всему этому грустный полумесяц, ставший символом ислама: скользя сквозь облака, сквозь дым горящей нефти, он, еще более бледный и печальный, чем обычно, словно взирает с удивлением на своих поклонников, смешанных с христианами.
Все это имеет причудливый вид, поражающий одновременно своей новизной и своей странностью.
Если же от общего впечатления перейти к подробностям, то вот что бросалось в глаза.
Ребенок, из непокрытой головы которого струится кровь: в знак покаяния его отец сделал ему надрезы на коже; рядом с ним семидесятилетний старик с крашеной в огненно-красный цвет бородой, размахивающий кинжалом; по другую сторону покрытый пылью и грязью татарин, опрыскивающий себя, чтобы казаться привлекательным, розовой водой.
Внезапно представление, на протяжении десяти дней остававшееся одной лишь битвой, возобновляет свой ход: эта битва была всего лишь вступлением. Хусейн берет Аллаха в свидетели честности своих намерений. Напрасно жены и сын пытаются умерить его пыл: он никого не слушает, выхватывает саблю и бросается на Омара. В эту минуту Муслим, зять Хусейна, падает мертвым. Хусейн взваливает его труп на коня и отвозит убитого к его женам, которые начинают вопить тем более ужасно, что их играют переодетые мужчины; при звуках этих стенаний все зрители разом начинают рыдать.
Наконец Хусейн, собственной рукой убив тысячу девятьсот пятьдесят врагов, в свой черед поддается усталости. Он испытывает нужду в отдыхе и к тому же ему надо напоить водой из источника, обладающего целебной силой, своего сына, страдающего грудной болезнью. Прежде о предрасположенности юного Хасана к чахотке и речи не было, однако татарские драматурги не слишком взыскательны в отношении средств, способных заранее подсказать дальнейшее развитие сюжета.
Хусейн берет на руки Хасана, как раньше он это делал с Муслимом, и верхом на коне мчится к источнику; однако в ту минуту, когда он должен вот-вот достичь цели, раздается оглушительный ружейный залп, и Хасан, находясь на руках своего отца, получает смертельное ранение.
Когда происходит это неожиданне несчастье, крики, слезы и рыдания усиливаются, прекращаясь лишь на минуту, когда на сцене появляется новый, совершенно незнакомый персонаж.
Это посланец, который явился из Медины и привез письмо от дочери Хусейна.
Он прибыл справиться о здоровье Хусейна и его близких. Минута, как видим, выбрана довольно неудачно, и потому в ответ Хусейн лишь показывает ему на трупы бедного Хасана и несчастного Муслима.
Внезапно толпа расступается, давая выйти на сцену дюжине мальчуганов с вымазанными черной краской лицами. Это джинны: возмущенные жестокостью врагов Хусейна, они явились предложить несчастному отцу свои услуги. Однако Хусейн, будучи слишком благочестивым магометанином, чтобы вступать в сделку с демонами, отвечает, что благодаря Магомету он не нуждается ни в чем, кроме своей правоты и своей сабли. Но едва он произносит эту похвальбу, как ружейный выстрел сваливает его с коня.
Если скорбь была столь велика из-за смерти сына и зятя, то судите сами, какой она должна была стать из-за смерти отца! Сверху, снизу, справа, слева, из середины – отовсюду раздаются рыдания, стоны, плач, и, что любопытно, из глаз зрителей текут непритворные слезы, причем столь волнующие, что даже барс спускается с соседних скал, чтобы поплакать над телом Хусейна.
Но он лишь опережает двух ангелов: облаченные в белые одежды, с огромными крыльями и в папахах, они спускаются по двум лестницам, чтобы унести на небо душу мертвого.
В ту минуту, когда они ее уносят, в глубине сцены начинают колыхаться большие веера из павлиньих перьев. Впрочем, это проявление небесных сил не мешает Омару завладеть богатой атласной мантией мертвеца и увести в плен жен Хусейна.
Вот так заканчивается эта необычная драма, которая на протяжении целых десяти дней до такой степени занимает население, что все дела оказываются заброшенными, поскольку мужчины, женщины, дети и старики проводят все ночи на спектакле, а когда наступает день, спят один крепче другого.
С утра, примерно до полудня, город все эти десять дней похож на царство Спящей красавицы.
Разумеется, за эти десять дней изрядное число кинжальных ударов и изрядное число пуль, забытых в ружьях, становятся причиной появления у Хусейна и его сына целой свиты мертвецов. Однако общепризнанно, что жертвы таких происшествий являются мучениками и одним скачком перепрыгивают с этой не очень-то достойной сожаления земли в несказанный рай Магомета.
Аминь!
XXX ПРОЩАНИЕ С КАСПИЙСКИМ МОРЕМ
Нам оставалось осмотреть еще две достопримечательности: одну в Баку, другую в его окрестностях.
В Баку – ханский дворец, построенный Шах– Аббасом II, персидским царем; в окрестностях Баку – Волчьи ворота.
Ханский дворец, являющийся образцом арабской архитектуры одной из лучших ее эпох, был построен около 1650 года тем самым Аббасом II, который умер в возрасте тридцати шести лет, завоевав перед этим Кандагар и с почестями приняв в своем государстве Шардена и Тавернье, и, если бы не они, был бы у нас совершенно неизвестен.
Дворец полностью заброшен; сохранился лишь очень красивый по форме портал с великолепными украшениями и зал, интересный одной подробностью.
Называется он залом Суда.
В самом центре этого зала вырыта яма, нечто вроде каменного мешка. Некогда, как утверждают, эта яма диаметром в восемнадцать дюймов закрывалась колонной. Если человека приговаривали к смерти и его казнь должна была совершиться в тайне, его приводили в зал Суда, сдвигали колонну, ставили осужденного на колени и одним взмахом сабли отрубали ему голову, которая, если удар был нанесен искусно, падала в каменный мешок, не задевая его краев. Затем тело уносили, колонну ставили на прежнее место, и на этом все кончалось.
Уверяют, что этот каменный мешок был подземельем, сообщавшимся с мечетью Фатимы.
Что же касается Волчьих ворот, то здесь все обстоит иначе: это странного вида проход, который пробит в скале в пяти верстах от Баку и выходит на долину, весьма похожую на один из уголков Сицилии, опустошенных Этной. Одна лишь Этна со своей беспорядочно разливающейся лавой может дать представление об унылости подобного пейзажа: голая земля, лужи стоячей воды, долина, являющая собой некую пропасть между двумя высокими горами и лишенная всяких следов растительности, – но таков вид не самих Волчьих ворот, а пейзажа, который открывается от них взгляду.
Чтобы мы могли совершить эту прогулку, нам привели трех лошадей: одну белую и двух рыжей масти. Меня соблазнила масть первой из них, и вначале я сел на нее, но, едва оказавшись в седле, почувствовал, что она ослабла под моим весом. Я спешился, отдал ее есаулу г-на Пигулевского и сел на другую.
И правильно сделал! Спускаясь к Волчьим воротам, белая лошадь оступилась и сбросила своего всадника шагов на десять вперед. К счастью, татары настолько хорошие наездники, что даже при падении они не причиняют себе никакого вреда.
Наши экипажи, уже запряженные и нагруженные багажом, ждали нас у ворот дома г-на Пигулевского; поданный на стол завтрак ждал нас в обеденном зале.
Позавтракав и простившись со всеми нашими знакомыми, появившимися у нас за эти три дня и теперь собравшимися, чтобы устроить нам проводы, мы тронулись в путь.
Покидая Баку, мы повернулись спиной к Каспийскому морю, которое я никогда не предполагал увидеть, читая его описание у Геродота, самого точного из всех древних авторов, говоривших о нем, а также у Страбона, Птолемея, Марко Поло, Дженкинсона, Шардена и Стрейса; мы повернулись спиной к этому морю, о разлуке с которым я никогда не предполагал сожалеть и, тем не менее, с которым мне жаль было расстаться, ибо в моих глазах любое море имеет непреодолимые чары: оно притягивает меня улыбкой своих волн, прозрачностью своих голубых вод. Оно часто сердилось на меня, и я видел его в гневе, но, возможно, как раз тогда оно казалось мне прекраснее, чем когда-либо прежде, и я улыбался ему, как улыбаются любимой женщине, даже когда она в ярости.
Однако я никогда не проклинал его, и, если бы даже я был царем царей и оно разрушило мой флот, у меня не хватило бы смелости высечь его розгами.
Вот почему порой я доверялся ему настолько безоглядно, что обмануть меня было бы предательством. Но ведь не каждая Далила обрезает волосы любовнику, который засыпает, опустив голову ей на колени. И если другие, прежде чем пуститься вплавь по его изменчивой поверхности, на всякий случай призывают на помощь себе Левиафана, то я бросаюсь в волны моря, словно Арион, восседающий на спине первого попавшегося дельфина. Сколько раз между морем и мною была лишь доска, на которую опирались мои ноги, и крайне редко случалось, чтобы я, наклонившись за борт лодки, уносившей меня к беспредельному и зыбкому горизонту моря, не мог ласкать рукой гребни волн, увенчанные, будто прядями волос, его пеной.
Сицилия, Калабрия, Африка, острова Эльба, Монте– Кристо, Корсика, Тосканский архипелаг, весь Липарский архипелаг видели, как я причаливал к их берегам на лодке, которую местные жители принимали за ялик с моего судна, и когда те, кто встречал меня, с удивлением спрашивали, окинув перед этим взглядом пустой горизонт: «На каком корабле вы прибыли?», а я в ответ указывал им на мою лодку, легкую морскую птицу, покачивающуюся на волнах, – не было никого, кто не сказал бы мне: «Вы более чем неблагоразумны – вы безумец!»
Видимо, им не было известно, что природе вовсе не присуща полная бесчувственность. Греки, эти поэты всякого сладострастия, прекрасно понимали это, коль скоро они заставили нимф источников похитить Гиласа, а Феба каждый вечер спускаться в перламутровый дворец Амфитриты.
Так вот, Каспий стал моим новым другом. Мы только что провели вместе почти целый месяц; мне говорили исключительно о его бурях, а оно показало мне лишь свои улыбки. Один только раз в Дербенте оно, словно хмурящая брови кокетка, принялось колыхать своей широкой грудью и украсило себе лицо пенной бахромой, но уже на другой день стало лишь еще более красивым, кротким, спокойным, прозрачным и чистым.
Мало поэтов видели тебя, о Гирканское море! Орфей останавливается в Колхиде; Гомер не доходит до тебя; Аполлоний Родосский никогда не ступает дальше Лесбоса; Эсхил приковывает своего Прометея цепями на Кавказе; Вергилий останавливается у входа в Дарданеллы; Гораций бросает свой щит, чтобы обратиться в бегство, но самым коротким путем возвращается в Рим воспевать Августа и Мецената; Овидию едва ли удается увидеть в своем изгнании Понт Эвксинский; Данте, Ариосто, Тассо, Ронсар и Корнель не имеют о тебе понятия; Расин воздвигает алтарь Ифигении в Авлиде, а Гимон де Ла Туш возводит ее храм в Тавриде; Байрон бросает якорь в Константинополе; Шатобриан черпает в Иордане воду, которой суждено было омыть лоб последнего потомка Людовика Святого; свое паломничество Ламартин оканчивает у берегов Азии, у подножия креста, но не Христова; Гюго, непоколебимый как скала, твердостью которой он обладает, скитается по морю во время бури, но останавливается у первого же острова, встретившегося ему на пути; Марлинский, еще один изгнанник, первым увидел и полюбил тебя; для него, вышедшего из льдов озера Байкал, ты стало пламенем, и потому он, как и я, в минуту расставания с тобой печалится о разлуке и оплакивает ее; твое побережье оказало ему гостеприимство, и он любил и страдал на твоих берегах; мокрыми от слез глазами смотрел он на тебя, стоя у могильного камня Ольги Нестерцовой; покидая тебя, он, как и я, прощался с тобой навеки; он отправлялся умереть – а может быть, как знать, искупить свою вину – в леса Адлера, где так и не был найден его труп. Сохранило ли ты, море Аттилы, Чингисхана, Тамерлана, Петра Великого и Надир-шаха, воспоминание о его прощальных словах? Сейчас я повторю их тебе на языке, который ты редко слышишь. Я повторю их, потому что это слова поэта, потому что поэт этот неизвестен у нас и потому что именно мне, его собрату, следует сказать: «Приветствую его тень! Он принадлежал к тому великому русскому поколению, которое в равной мере владело пером и шпагой и рисковало своей жизнью в заговорах и в битвах. Оно стремилось к тому, что являет собой день нынешний, но опередило время на тридцать лет».
«Я быстро скакал по берегу, я предался воле бешеного моего скакуна. Прочь с дороги, прочь!.. Брызжут искры, пыль кипит по следу, ветер уносит окрестность! Сладко, легко сердцу лететь с быстротой мысли, отрадно убегать от пространства и времени. О, есть, есть упоение в быстроте, есть поэзия в скачке, когда свет бежит мимо очей и дух занимается будто в восторге любви! Скорость есть сила, механическая сила всех веков, и особенно нравственная сила нашего. Скорость есть уже сила, говорю я, а быть сильным обворожительно! Вперед же, вперед, конь мой!.. А, ты закусил брошенные удила, ты несешь, ты пытаешься сбить меня! Бей, неси! Я найду зверя лютее тебя для твоего укрощения ...
И я направил разъяренного карабахца прямо в прибой Каспийского моря.
Видали ль вы, когда молния падает в волны? Один миг – и она погасла. Один миг – и конь мой стал среди валов, изумленный их ревом и плеском. Как дикие степные кони, разметав гриву на ветер, стадами рыскали, прядали они кругом, набегали, отбегали вдаль; и он строптиво, недоверчиво поводил своими раскаленными и черными как уголь глазами, вздувал дымные ноздри, обнюхивал незнакомых ему товарищей, и каждый раз, когда всплески расшибались в пену о грудь его, он злобно отряхал брызги с ушей, бил копытом песок и, оскалив зубы, готовился грызнуть неуловимых зачинщиков. Я трепал его по крутой шее, и наконец он смирно стоял, лишь повременно вздрагивая от набега всплесков.
Буйный северный ветер гнал волны свистящими крылами своими на берег, как гонит орел лебединое стадо. Серо было небо; лучи солнца рассыпались веером сквозь летучие струи облаков и порой зажигали бисерною радугою брызги над валами. Я склонил навстречу этому приветному дождю лицо свое, я полной грудью вдыхал ветер родины, – и мне чудились в гармонических переливах его говор родных, давно разлученных со мною, голоса друзей, давно погибших для сердца[41], пение соловьев над Волховом, звон столичного колокола! Мне казалось, он напоен дыханием милой, свежестью снегов, ароматом цветов туманной отчизны моей, он веял, пахал на меня поминками юности, и на клич сердца отозвались все любимые мечты былого: они слетелись, как ласточки, засверкали, как звезды, брызнули из земли, как цветы. Вы ли это, яркие чувства, блестящие грезы наяву, огнистые частицы моего бытия, божественные отрывки времени, которые обнял я на миг и потерял навечно? Вы ли?.. Я жадно желал вас, я долго ждал вас ...
Все исчезло! Только ветер шумит, только бушует море.
Что ж воспоминание, как не ветер, веющий из минувшего, играющий волнами воображенья! Счастлив, кто поймал на лету хоть один миг этого живого воспоминания, будто воскресшую ласточку после оцепенения зимы.
Праздником моему сердцу было такое самозабвение: то было отрадное чувство, перевитое с горестною мыслию. Последний раз перед разлукой любовался я Каспием: завтра я должен сказать ему последнее прости!
Негостеприимное, пустынное, печальное море! Я однако ж с грустью покидаю тебя! Ты был верным товарищем моих дум, неизменным наперсником чувств моих. В твои горькие воды лились горькие слезы мои; в твоих кипучих волнах охлаждал я пылкое сердце; к тебе уходил от людей, бежал от самого себя. Шум твоих непогод заглушал, безмолвия мои душевные бури; голос человека сникал перед величественным глаголом природы, вечно однозвучным и всегда разнообразным наречием, знакомым и непонятным вместе.
Нет, порой я понимал тебя, море! Душа разговаривала с тобой, погруженная в какую-то магнетическую дрему. Не только отголосок, но и ответ пробуждался в ней на зов твой. Ты шептало мне про свои заветные предания; я проникал в твои заповедные тайники; я разгадывал чудеса твоих бездн, бегло читал твои дивные руны, которые пишешь ты зыбью на песке взморья, прибоем на груди скал. Лестная, напрасная мечта! С прежней загадкою уходил я с берегов твоих. Многим и часто раскрываешь ты лоно свое, но как могилу, не как книгу. Подобно небу, ты замкнуто для опыта; подобно ему, ты доступно лишь мысли, беспрестанно изменчивой и так нередко обманчивой. Еще-таки человек вооруженным взором проник до Млечного Пути и буравом пронзил глубоко оболочку земную; но чей глаз, чей лот досягнул до дна твоих хлябей ? Кто до сих пор срывал твое влажное покрывало? Бедный человек! Ты осужден собирать раковинки на берегах океана и напрасно расточать свою премудрость, разгадывая кусочки морской смолы или зерна жемчуга. Неизмеримый вечный сфинкс пожирает тебя, как скоро ты дерзнешь покататься на его хребте и не сумеешь понять его языка, разгадать его загадок. Везде, всегда любил я море. Я любил и люблю его тиши, когда бездна, сомкнувшись зеркалом, молчит, словно полная какою-то божественною думою; и дном ее лежат небеса, и звезды плавают в ее влаге. Люблю я зыбь его дыхания и бой жизни в вечно юном, лазуревом его лоне, все обновляющем, все очищающем. Люблю его туманы, которые посылает оно жаждущей земле через небо, где морские воды теряют горечь свою. Но больше всего, страстнее всего люблю я бури и грозы на море. Люблю их в час дня, когда солнце пробивает лучом черные тучи и огненным каскадом обливает купы валов, рыщущих по влажной степи; другие с боя теснятся в светозарный круг, загораются, воют от ужаса и стремглав окунаются вглубь, чтоб затушить пламенеющие кудри; другие перегоняются с касатками, чудовищами, которые с безобразием моржа соединяют быстроту ласточки. Иные бросают снопы радуг в грудь смелого корабля, презирающего все стихии, и землю, от которой отторгся, и воздух, который рассекает, и воду, которую топчет он. Гордо бросается он в битву с валами, режет, расшибает, мнет их, так что кажется, будто великаны зыбей, набегая на него с угрозою, ниспадают с блестящею улыбкой, рассыпаются врозь, как прах, летящий с колеса!
Люблю их и в час ночи, когда бледный месяц подымает из-за туч свой череп, как мертвец из могилы, и неслышно идет по небу, влача за собой через море белый саван. Тогда валы возникают, как тени оссиановских героев, в вороненой броне, с белыми кудрями по плечам, со звездами брызгов над шлемом. Яростно бегут они в бой, гонят, достигают друг друга; сшибаются, сверкают сталью и падают в ночь, раздавленные другими ратниками, их настигшими! А там, вдали, грозно гуляют исполины смерти, надев тучу вместо шлема и пеня в молоко бездну моря стопами: еще шаг – и он задавит корабль!.. Но перун грянул, ад и небо дрогнули отголосками; смотрите! – исполин пал, застреленный мол– ниею.
Люблю видеть бессильный гнев твой, море, на каменные берега, не пускающие тебя залить землю. Ты крутишься и шипишь тогда, как змей, уязвляя пяту скал. Ты прядаешь на них и грызешь их, как тигр, с ревом и воем. Как хитрый человек, подрываешься ты под их основы, точишь, пилишь, растравляешь раны, нанесенные временем; неутомимо разишь своими влажными перунами. Ты хочешь поглотить, затопить по-прежнему землю, когда-то в тебе зачатую и потом не раз тобой покрытую. Прочь, второй Сатурн! Тебе не пожрать своего дитя! Ты дал ему лишь тело, но Бог вдохнул в него душу – человека. Ей ли, ему ли быть жертвою стихий?..
Да! Я видел не одно море и полюбил все, которые видел; но тебя, Каспий, но тебя – более других: ты был моим единственным другом в несчастье; ты хранил и тело и дух мой от истления. Как обломок кораблекрушения, выброшен был я бурею на пустынный берег природы, и, одинок, я нелестно узнал ее и научился бескорыстно наслаждаться ею. Я не ждал жатвы полей или добычи леса; я не вымучивал у моря ни рыб, ни драгоценностей; я не искал в нем средств жизни или светских прихотей; я просил у него советов для разумения жизни, для обуздания прихотей. Не овладеть стихиями, а сродниться с ними жаждал я; и сладостен был брак сердца – сына земли, с мыслию – дочерью неба ... Здесь человек не заслонял от меня природы; толпа не мешала мне сливаться со вселенною. Она ясно отражалась на душе моей, я сладостно терялся в ее неизмеримом кругу; границы между я и она исчезали. Самозабвение сплавляло в одно безмятежное, тихое, святое наслаждение частную и общую жизнь, распускало каплю времени в океане вечности.
Но, кроме того, меня влекло к тебе сходство твоей судьбы с моею судьбою. Ниже других и горче других твои воды. Заключено в песчаную тюрьму диких берегов, ты, одинокое, стонешь, не сливая волн твоих ни с кем. Ты не ведаешь ни прилива, ни отлива и даже в порыве гнева не можешь перебросить буруна своего на черту, указанную тебе перстом довечным. И кто знает, как поглощаешь ты столько огромных рек, падающих в жерло твое, столь мало отдавая дани воздуху? И кто разгадал твои огнедышащие подводные волканы, рядом с волканами, извергающими грязь? Кто скажет нам, сколько народов, потерявших имя, протекло по забережьям и по волнам твоим? Сколько безыменных жертв пожрано твоей пучиной? На тебе нет следу первых, нет крови вторых; только где-где обломки, изверженные на берег, знаменуют, сколько драгоценного похоронено в твоей глубине.
Не лета, а бури бросают морщины на чело твое, бури – страсти небес. Страшен, мутен, шумен бываешь ты тогда; зато порой, прозрачный и тихий, ты даешь лучам солнечным и взорам человека купаться в своем лоне и засыпаешь, играя раковинками приморья, как младенец, напевая лепетом сам себе колыбельную песню!
Да, Каспий! Во мне есть много стихий твоих, в тебе – много моего, много, кроме волн и познания вещей! Ты не можешь быть иначе как есть, – а я мог!.. Скажу вместе с Байроном: «Терны, мною пожатые, взлелеяны собственною рукою: они грызут меня, кровь брызжет. Пускай! Разве не знал я, каковы плоды должны созреть от подобного семени!»
Величествен венец из лучей, пленителен из ветвей лавра иль дуба, мил из благовонных цветов; но чем же не венок из тернов?..
Прощай, Каспий, – еще раз прощай! Я желал видеть тебя, я увидал нехотя. Неохотно расстаюсь я с тобою, но свидеться опять не хочу ... Разве ты постелешь волны свои широким путем на родину!
Я последний раз взглянул на грозную, прекрасную картину бурного моря. Валы широкими грядами катились к берегу, вздымали головы, загибали всплески и, кипя, распрыскивались в пену о плиты и башни сбитой ими стены, взбегали на песок и потом далеко обнажали его. Какой-то туманный дождь сорванных вихрем верхушек клубил над поверхностию моря, а оно, яркий хамелеон, зеленело, синело, белелось, сверкало и меркло мгновенно ...
Когда я, скрепив сердце, поворотил коня, мне показалось, будто море и ветер слили свою гармонию в жалобу, будто волны, как маленькие братья, прядали, просились ко мне на седло. Я дал повода, и обрадованный конь одним прыжком вынес меня на сушу ...
Когда я въехал в город, щеки мои были влажны – но не от брызгов моря».
Не кажется ли вам, что эти страницы написаны Байроном? И подумать только, что имя человека, написавшего их, у нас совсем неизвестно!
Но насколько то будет в моих силах, я исправлю это упущение, являющее собой почти что кощунство.
КОММЕНТАРИИ
Книга Дюма «Кавказ» («Le Caucase»), написанная прямо в пути, по горячим следам, на одном дыхании и остающаяся злободневной и через сто пятьдесят лет, после того как она была написана, посвящена второй половине его путешествия по Российской империи, когда с ноября 1858 г. по февраль 1859 г. он то в тарантасе, то верхом, то в санях, то в лодке проехал по маршруту Кизляр – Хасав-Юрт – Дербент – Куба – Баку – Шемаха – Нуха – Царские Колодцы – Тифлис – Кутаис – Марани – Поти, а оттуда морем вернулся во Францию.
Формально эти путевые заметки служат непосредственным продолжением его книги «В России», печатавшейся вначале, с 17 июня 1858 г. по 28 апреля 1859 г., в еженедельнике «Монте-Кристо», а затем, после двухлетнего перерыва, с 24 сентября 1861 г., в газете «Конституционалист», однако впервые они были опубликованы еще до ее завершения, сразу же по возвращении писателя в Париж, 16 апреля—15 мая 1859 г., в виде тридцати брошюр парижского издательства «Театральная библиотека» («La Librairie theatrale»), выходивших одна за одной ежедневно под заголовком: «Кавказ: газета путешествий и романов» («Le Caucase: journal de voyages et romans»), по восемь страниц в каждой, со сквозной нумерацией, в формате 30,4 х 21,5 см, в две колонки.
Первое книжное издание этого сочинения вышло в том же году в Брюсселе: Meline, Cans et С°, 3 v., 18mo.
Первое его книжное издание во Франции вышло в свет лишь спустя пять лет, в 1864 г.: Paris, Michel Levy freres, 3 v., 12mo.
Первый, сокращенный перевод этой книги на русский язык, выполненный Петром Никандровичем Роборовским, чиновником дипломатической канцелярии кавказского наместника, был опубликован в Тифлисе в 1861 г.
Спустя более чем сто двадцать пять лет, в 1988 г., в тбилисском издательстве «Мерани», вышло второе издание этого перевода, дополненного М.И.Буяновым.
Новый перевод, подготовленный специально для настоящего Собрания сочинений, выполнен с «брошюрного» издания 1859 г., которое значительно полнее последующих книжных изданий, однако в работе над переводом нами была учтена и та редакторская правка, и те мелкие дополнения, какие в них есть.
Издательство благодарит тех, кто оказал помощь в подготовке комментария к этой книге: историка Дагестана, публициста Анатолия Эрастовича Коркмасова (Москва);
дагестанского историка, д.и.н. Хаджи Мурада Доного (Махачкала); дербентского краеведа, автора «Энциклопедии города Дербента», Гусейн– Балу Яхьяевича Гусейнова (Дербент);
кавказоведа, сотрудника Института языкознания РАН, с.н.с., к.ф.н. Тимура Анатольевича Майсака (Москва);
Лидию Дмитриевну Петрову, главного библиотекаря отдела газет РГБ (Москва);
князя Николая Михайловича Чавчавадзе (Париж).
Общий взгляд на Кавказ
1. От Прометея до Христа
5 ... Мы расскажем сейчас нашим читателям ...о топографии, геоло
гии и истории Кавказа. — Основным источником, из которого Дюма почерпнул приведенные им ниже сведения о Кавказе, стал обстоятельный очерк «Кавказский край» («Region caucasienne»; рр. 1—48) французского дипломата, историка и литератора Сезара Фамена (1799—1853), входящий во второй том сочинения «История и описание всех народов. Россия» («Histoire et description de tous les peuples. Russie»; 1838) французского литератора и переводчика Жана Мари Шопена (1796—1871), много лет прожившего в России.
... Кавказский хребет ... простирается от Каспийского моря до Азовского, от Анапы до Баку. – Анапа – город на юге России, в Краснодарском крае, на берегу Черного моря; в XIV в. генуэзская крепость, захваченная османами в 1475 г. и перестроенная ими в 1781 – 1782 гг.; в ходе русско-турецких войн четырежды захватывалась русскими войсками; окончательно отошла к России в 1829 г. по Адрианопольскому мирному договору; права портового города получила в 1846 г.
Баку – крупнейший город на Кавказе, порт на западном берегу Каспийского моря, на Апшеронском полуострове; столица Азербайджана; известен с глубокой древности, с 1747 г. столица Бакинского ханства; в 1806 г. вошел в состав Российской империи; с 1806 г. уездный центр, а с 1859 г. – губернский.
... Три наивысших его пика: Эльбрус (высотой шестнадцать тысяч семьсот футов); Казбек, изначально называвшийся Мкинвари (высотой четырнадцать тысяч четыреста футов), и Шат-Альбрус (высотой двенадцать тысяч футов). — Высочайшие вершины Кавказа: Эльбрус (5 642 м), Дых-тау (5 204 м), Коштан-тау (5 152 м), Казбек (груз. Мкинвари; 5 033 м), Тебулосмта (4 493 м).
Следует отметить, что у разных народов, населяющих Кавказ, одни и те же горы носят разные названия. Неясно поэтому, какую кавказскую вершину высотой около 12 000 футов, стоящую, по словам С.Фамена, на границе Дагестана, он называет Шат– Альбрус (Chat-Albrouz); Эльбрус, то есть высочайшая гора Кавказа, стоящая на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево– Черкесии, фигурирует у него под названием Elbrouz. Дюма, позаимствовавший у С.Фамена все эти сведения, использует соответственно транскрипции Chat-Abrouz и Elbrouss.
Заметим, что Ю.Г.Клапрот (см. примеч. к с. 145) сообщает, что на Кавказе есть две горы, носящие название Elbrouz, или Albrouz: одна – это та, где берет начало река Кубань (то есть собственно Эльбрус), а вторая в Дагестане, известная там под названием Chah-Albrouz, или Chalbrouz, и расположенная к северу от ледника Шах-даг, название которого, как говорит этот автор, русские переделали в «Шат-даг», или «Шат-гора».
Так что, судя по всему, речь здесь идет об одной из вершин, расположенных вблизи Шах-дага (возможно, это находящаяся на территории Дагестана гора Шалбуз-даг высотой 4 142 м, считающаяся, по поверьям местных народов, священной).
... Никому еще не удавалось подняться на вершину Эльбруса ... – Официальной датой покорения Эльбруса считается 10 июля 1829 г., когда на его вершину поднялся местный проводник Киллар Хаши– ров, входивший в состав русской научной экспедиции, которую возглавлял командующий войсками на Кавказской линии генерал от кавалерии Георгий Арсеньевич Эммануэль (1775—1837).
...по библейскому преданию, на вершину Эльбруса опустился голубь с Ноева ковчега. — Согласно библейской легенде о всемирном потопе, который Бог послал на землю в наказание за грехи людей, от потопа спасся лишь праведник Ной, погрузившись с семьей в ковчег – судно, построенное по божественному откровению. Бог повелел ему также взять в ковчег по семи пар всех животных и птиц чистых и по паре нечистых. На седьмом месяце потопа ковчег остановился «на горах Араратских» (вопрос о местонахождении этих гор остается спорным, и вряд ли их можно отождествить с горой Арарат на Армянском нагорье), а еще через несколько месяцев, когда вода начала спадать и показались верхи гор, Ной выпустил в окно ковчега голубя, чтобы узнать, убыла ли вода с земли. «Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот, свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли» (Бытие, 8: 11).
... Мкинвари ... это та самая скала, к которой, согласно мифологическому преданию, был прикован Прометей. — Прометей – в древнегреческой мифологии титан (бог старшего поколения), благородный герой и мученик; похитил для людей огонь, научил их ремеслам, чтению и письму, за что его сурово наказал верховный бог Зевс: он был прикован к скале на Кавказе, и каждый день орел прилетал терзать его печень.
... Русские назвали ее Казбеком, потому что селение Степан-Цминда, расположенное у подножия этой горы, было с давних времен и остается до сих пор резиденцией князей Кази-беков, охраняющих ущелье. – Степан-Цминда – старинное селение в северо-восточной части Грузии, расположенное в верхнем течении Терека, у подножия горы Казбек, на Военно-Грузинской дороге, у южного края Дарьяльского ущелья, вблизи границы с Россией; административный центр Казбегского муниципалитета, входящего в состав края Мцхета-Мтианети; в 1921—2006 гг. называлось Казбеги, в честь грузинского писателя-классика Александра Михайловича Казбеги (1848—1893), родившегося и похороненного там.








