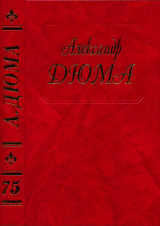
Текст книги "Путевые впечатления. Кавказ. Часть 1"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 33 страниц)
Между тем его товарищ гиканьем ответил на вызов горца и во весь опор поскакал по направлению к нему.
Прямо на скаку он выстрелил.
Абрек в это мгновение поднял свою лошадь на дыбы, и пуля попала ей в плечо. Почти тотчас горец в свою очередь выстрелил и сшиб папаху со своего противника.
Оба закинули ружья за плечо. Казак выхватил шашку, а горец – кинжал.
Горец с удивительной ловкостью управлял лошадью, хотя она была ранена, и, несмотря на то, что кровь ручьем стекала по груди животного, оно ничуть не казалось ослабевшим, настолько умело седок поддерживал его коленями, уздой и голосом.
В то же самое время абрек разразился потоком брани, способной разъярить казака.
Противники сошлись в схватке.
Какое-то мгновение мне казалось, что казак насквозь пронзил горца своей шашкой. Я видел, как клинок сверкнул за его спиной.
Однако он лишь проткнул его белую черкеску.
С этого момента мы не видели больше ничего, кроме двух сцепившихся в рукопашном бою людей. Через минуту один из них скатился с лошади.
Точнее говоря, с лошади скатилось лишь туловище человека: голова его осталась в руках противника.
Этим противником был горец. Он испустил победный клич, исполненный дикой и страшной силы, потряс отрубленной головой, из которой капала кровь, и прицепил этот трофей к ленчику своего седла.
Лошадь, лишившись всадника, бросилась бежать и, ведомая природным инстинктом, вернулась к нам, описав полукруг.
Обезглавленный труп остался лежать на земле.
Вслед за победным кличем горца послышался новый вызов на бой.
Я обернулся к казаку, изъявлявшему желание занять место своего товарища. Он спокойно курил трубку.
Кивнув мне, он произнес:
– Иду.
А затем в свой черед издал клич в знак того, что он принимает вызов.
Горец, джигитовавший на коне, остановился, чтобы разглядеть своего нового противника.
– Ступай, – сказал я казаку, – я увеличиваю награду на десять рублей.
На этот раз казак лишь подмигнул мне в ответ, не выпуская изо рта трубку. Казалось, он запасался табачным дымом, вбирая его в себя, но не выдыхая обратно.
Затем он пустился вскачь и, прежде чем абрек успел перезарядить ружье, остановился шагах в сорока от него, прицелился и нажал на спусковой крючок.
Легкий дымок, окутавший лицо казака, заставил всех нас подумать, что в его ружье вспыхнул лишь затравочный порох.
Абрек, полагая, что ружье противника разряжено, с пистолетом в руке бросился на казака и выстрелил в него с десяти шагов.
Казак, заставив коня отпрянуть в сторону, избежал пули, а затем мгновенно приложил к плечу ружье и, к великому удивлению всех нас, не видевших, чтобы он подсыпал в него новый затравочный порох, выстрелил.
По резкому движению горца было понятно, что пуля его задела.
Он выпустил узду и, чтобы не упасть, обеими руками обхватил шею лошади.
Лошадь, чувствуя, что ею больше не управляют, и испытывая ярость из-за собственной раны, понесла его через кустарник по направлению к Тереку.
Казак бросился вслед за ней.
Мы поскакали в том же направлении, что и он, как вдруг увидели, что горец начал мало-помалу терять равновесие и в конце концов свалился на землю.
Лошадь остановилась возле всадника.
Казак, не знавший, не было ли это хитрой уловкой со стороны противника и не притворяется ли он мертвым, сделал большой круг и лишь затем решил приблизиться к поверженному врагу.
Было видно, что он старается разглядеть лицо горца, но тот, либо случайно, либо с умыслом, упал лицом к земле.
Казак постепенно приближался к нему: горец не шевелился. Казак держал в руке пистолет, еще не послуживший ему в этой схватке, и был готов выстрелить.
В десяти шагах от чеченца он остановился, прицелился и спустил курок. Чеченец не пошевелился. Пуля была потрачена напрасно: казак выстрелил в труп.
Казак спрыгнул с лошади и сделал несколько шагов; затем, вытащив кинжал, он склонился над мертвым телом и мгновение спустя выпрямился: в руке у него была голова чеченца.
Весь конвой в один голос воскликнул:
–Ура!
Казак заработал тридцать рублей, а вдобавок спас честь полка и отомстил за товарища.
В одно мгновение горец был раздет догола. Набросив всю его одежду себе на руку, казак взял за узду раненую лошадь, которая и не пыталась бежать, положил на ее спину добычу, сел на своего коня и вернулся к нам.
У всех нас был к нему лишь один вопрос:
– Как могло твое ружье выстрелить, если затравочный порох в нем уже сгорел?
Казак засмеялся.
– Затравочный порох и не думал сгорать, – ответил он.
– Но мы же видели дым! – воскликнули его товарищи.
– Вы видели дым из моей трубки, который я удерживал во рту, а не дым из моего ружья, – заявил казак.
– Вот твои тридцать рублей, – сказал я ему, – хотя, мне кажется, ты немного сплутовал.
X ИЗМЕННИК
Как здесь водится, убитого чеченца, совершенно обнаженного, оставили на растерзание плотоядным зверям и хищным птицам, а обезглавленный труп казака бережно подняли и положили поперек седла на лошадь горца, где у ленчика уже висела его голова; один из казаков взял лошадь под уздцы и повел ее в крепость, откуда конвой выехал всего лишь за час до этих событий.
Что же касается казачьей лошади, ногу которой раздробило предназначавшейся мне пулей, то она поднялась и на трех ногах доковыляла до нашего отряда.
Однако спасти лошадь было невозможно, и потому один из наших казаков отвел ее ко рву и ударом кинжала вскрыл ей шейную артерию. Кровь хлынула фонтаном.
Животное явно ощутило, что ему нанесли смертельный удар, ибо оно вздыбилось, повернулось на месте, забрызгивая землю вокруг себя кровью, затем опустилось на колено неповрежденной ноги, потом медленно повалилось на бок, но еще приподнимало голову, глядя на нас по-человечески тоскливыми глазами.
Я отвел взгляд и, подойдя к командиру конвоя, заявил ему, что, на мой взгляд, жестоко оставлять орлам и шакалам тело храброго абрека, побежденного скорее хитростью, чем силой, и начал настаивать, чтобы его предали земле.
Однако командир конвоя ответил мне, что забота о погребении убитого лежит на его товарищах и что если они пожелают отдать этот последний долг несчастному, в чьей груди билось столь отважное сердце, то им придется ночью похитить его мертвое тело.
Вероятно, горцы так и намеревались поступить, ибо мы увидели, как они собрались на небольшом пригорке на другой стороне Терека, угрожая нам одновременно жестами, которые мы могли разглядеть, и возгласами, шум которых, но не смысл, нам удавалось уловить.
Великим позором для горцев было оставить в одиночестве своего товарища, но еще постыднее для них было бы бросить его труп. Поэтому они и не осмеливались вернуться в свой аул.
Будь у них хотя бы труп врага, который они могли бы предъявить вместо мертвого тела своего товарища!
И в самом деле, местный обычай здесь таков: когда горцы отправляются в набег и одного или нескольких из них убивают, они приносят тела убитых к окраине селения и там несколько раз стреляют из ружей, извещая женщин о своем возвращении, а как только те появляются на краю аула, кладут трупы на землю и уходят, имея право вернуться лишь тогда, когда им удастся добыть столько же вражеских голов, сколько у них погибло товарищей.
Если схватка произошла на расстоянии пяти или шести дневных переходов от аула, они разрубают тела погибших на части, посыпают солью, чтобы уберечь их от гниения, и каждый везет домой по такому куску.
Три племени горцев, исповедующих христианство и состоящих на службе у русских, пшавы, тушины и хевсуры, придерживаются этих же обычаев.
В особенности они проявляют такого рода чуткость к своему приставуини под каким предлогом не оставляют его тело в руках врагов.
Порой это заставляет их делать предложения, не лишенные своеобразия.
Приставом тушин был князь Челокаев.
Князь умер.
Тушинам прислали другого пристава, но он не имел чести называться Челокаевым, а они хотели, чтобы приставом у них был кто-нибудь из Челокаевых.
Их требования были так настойчивы, что губернские власти приступили к поискам какого-нибудь князя Чело– каева и с великим трудом нашли последнего представителя этого рода.
Хотя он был болен и отличался слабым здоровьем, его назначили приставом, доставив этим великую радость тушинам, наконец-то получившим начальника по своему выбору.
И вот однажды была задумана экспедиция, в которой принимали участие тушины; их пристав, естественно, шел во главе отряда; однако трудности похода окончательно подорвали его здоровье, и без того уже пошатнувшееся, и легко было заметить, что силы в нем поддерживало лишь его великое мужество, настолько присущее от природы грузинам, что оно, скорее всего, даже не считается у них достоинством.
Тушины рассудили, что он человек конченый и, по-видимому, вот-вот отдаст Богу душу.
Собрав совет, они стали обсуждать, как им поступить.
Когда обсуждение закончилось, к приставу была отправлена депутация.
Посланцы явились к его палатке и тотчас были приняты им.
Они почтительно поприветствовали своего начальника, и один из них взял слово.
– По нашему общему мнению, – сказал он князю Челокаеву, – Господь отметил тебя знаком близкой смерти, и ты не можешь идти дальше в таком состоянии.
Князь весь обратился в слух, а оратор продолжал:
– Если смерть настигнет тебя через два-три дня, то есть когда мы уже будем далеко в горах, ты станешь для нас немалой обузой, ибо, как тебе известно, нам надлежит доставить твое тело семье; ну а поскольку нам придется разрезать твое тело на части, то нельзя поручиться, что в случае поспешного отступления не пропадет какой– нибудь кусочек твоей достопочтенной особы.
– И что из этого следует? – спросил князь Челокаев, все шире и шире раскрывая глаза.
– Так вот, мы пришли с предложением убить тебя прямо сейчас, чтобы твое тело не подвергалось всякого рода опасностям, которые должны внушать тебе тревогу, и, так как мы теперь всего лишь в пяти-шести днях хода от твоего дома, твое тело прибудет к семье целым и невредимым.
Как ни лестно было такое предложение, князь от него отказался; более того, оно произвело действие, на какое была неспособна хина: лихорадка у больного мгновенно прекратилась.
С этого времени здоровье князя пошло на поправку.
Он с прежней отвагой проделал всю экспедицию, не получив ни единой царапины, и взял на себя труд лично доставить семье свое тело в целости и сохранности.
Однако предложение подчиненных тронуло его до такой степени, что он не мог рассказывать о нем без умиления.
Но как все же чеченцы, находясь в меньшинстве, решились напасть на нас? Не будь среди них абрека, они наверняка затаились бы в своем укрытии.
Однако абрек, находившийся вместе с ними, в силу данной им клятвы счел бы себя опозоренным, если бы, находясь так близко от опасности, он не бросил ей вызов.
Ведь абреки, как уже говорилось, дают клятву не только не отступать от опасности, но и идти ей навстречу.
Вот почему, когда его товарищи уклонились от схватки, показавшейся им чересчур опасной, он отважно эту схватку провоцировал.
Я не мог позволить себе уйти оттуда, не взглянув вблизи на его тело.
Он лежал ничком. Пуля вошла пониже его левой лопатки и вышла под правым соском. При виде такой раны можно было подумать, что его застрелили, когда он бежал с поля боя. Это огорчило меня: мне не хотелось, чтобы отважного абрека оклеветали после смерти.
Что же касается пистолетной пули, то она раздробила ему руку.
Казак осмотрел добычу, доставшуюся ему от горца: довольно красивое ружье, шашку с медной рукояткой, отнятую, скорее всего, у какого-нибудь казака, скверный пистолет и неплохой кинжал.
Что до денег, то, без сомнения, одним из обетов абрека был обет бедности: у него не нашлось ни копейки.
Кроме того, на нем был пожалованный ему Шамилем знак отличия – круглая серебряная бляха размером с шестифранковое экю, отделанная чернью и несущая на себе надпись: «Шамиль-эфенди».
Два слова разделялись изображением сабли и секиры.
Все эти предметы казак продал мне за тридцать рублей. К сожалению, я потерял в болотах Мингрелии ружье и пистолет, но кинжал и награда у меня сохранились.
Я уже говорил, что линейные казаки – великолепные воины. Именно они вместе с покорными татарами составляют охрану всех дорог на Кавказе.
Линейные казаки разделяются на девять бригад, пополняющих уже сформированные восемнадцать полков.
Во время моего пребывания там формировались еще два полка.
Эти бригады разделены следующим образом: на Кубани и Малке, то есть на правом фланге, находятся шесть бригад; на Тереке и Сунже, то есть на левом фланге, три бригады.
Когда хотят сформировать новый полк, то начинают с создания шести станиц.
Каждая станица выставляет свое войсковое подразделение.
Хотя это войсковое подразделение состоит из ста сорока трех человек, не считая офицеров, или из ста сорока шести, включая офицеров, оно называется сотней.
Эти новые станицы создаются из казаков, взятых из старых станиц; их переселяют с Терека или Кубани, где они жили, и в количестве не свыше ста пятидесяти семей привозят к новому месту назначения.
К ним присоединяют сто семей донских казаков и от пятидесяти до ста семей из внутренних областей России, прежде всего из Малороссии.
Каждый казак должен прослужить двадцать два года, но он может быть заменен на два—четыре года одним из своих братьев.
В двадцать лет казак начинает службу и покидает ее в сорок два года; в этом возрасте он переходит с действительной службы на службу станичную, то есть делается чем-то вроде нашего солдата национальной гвардии.
На пятьдесят пятом году он полностью оставляет службу и имеет право стать церковным старостой или станичным судьей.
В каждой станице есть атаман, избранный станичниками, и двое судей.
В выборах участвуют все жители.
Каждый казак – землевладелец: станичный атаман имеет тысячу арпанов земли, каждый офицер – двести, а казак – шестьдесят.
Таким образом, станицы – это одновременно земледельческие и военные поселения.
Каждый казак получает сорок пять рублей серебром годового жалованья и всем обеспечивает себя сам; мы уже говорили, что за убитую или раненую лошадь он получает двадцать два рубля.
В случае нападения на станицу сто сорок три человека, составляющие ее гарнизон, производят вылазку, а прочие станичники выдерживают осаду, расположившись за изгородями, как за крепостной стеной.
В этих обстоятельствах, когда существует опасность пожара, каждая женщина должна иметь под рукой ведро воды. Через несколько минут после того, как пушечный выстрел и колокольный звон возвестят тревогу, все уже находятся на своих постах.
То, что мы рассказывали в предыдущей главе о Черв– ленной и о паломничестве молодых офицеров в эту станицу, могло бы навести на мысль, что женщины этого восхитительного селения имеют в своей истории лишь страницы, достойные, как выразились бы поэт Парни или шевалье де Бертен, быть перевернутыми рукой амуров.
Но не заблуждайтесь: как только представляется случай, наши казачки становятся настоящими амазонками.
Однажды, когда все мужчины станицы были в походе, чеченцы, узнав, что в станице остались лишь женщины, совершили налет на Червленную.
Женщины собрались на военный совет, и на нем было решено защищать станицу до последней капли крови.
Они собрали все оружие, весь порох и весь свинец.
Имевшиеся в селении мука и домашний скот обеспечивали осажденным достаточное количество провизии, чтобы они могли не опасаться голода.
Осада длилась пять дней; около трех десятков горцев пали, но не на подступах к крепостным стенам, а на подступах к изгородям станицы.
Три женщины были ранены, две убиты.
Чеченцы были вынуждены снять осаду и с пустыми руками, как выражаются охотники, вернулись к себе в горы.
Червленная – самая старая станица на линии гребен– ских, то есть горских казаков; они ведут начало от русского поселения, происхождение которого историками не установлено. Легенда гласит, что, когда Ермак отправился завоевывать Сибирь, один из его ближайших сподвижников, звавшийся Андреем, отделился от него с несколькими людьми и основал селение, получившее по его имени название Эндирей – Андреева деревня. Однако достоверно известно, что когда Петр I задумал создать первую линию станиц, то граф Апраксин, на которого он возложил это поручение, нашел в этих краях какое-то количество соотечественников и поселил их в Червлен– ной.
От того далекого прошлого тут остались любопытные документы и знамена.
Что касается мужчин этой станицы, то почти все они фанатичные раскольники, сохранившие старорусские нравы.
Вернемся, тем не менее, к ее женщинам.
Женщины станицы Червленной составляют особый тип, унаследовавший качества одновременно русского и горского народов. Красота этих женщин принесла селению, где они живут, славу кавказской Капуи; овал лица у них русский, но им присущ стройный стан жительниц высокогорья, как называют такие края в Шотландии. Когда казаки – их отцы, мужья, братья или возлюбленные – отправляются в поход, казачки вскакивают на стремя, которое всадник оставляет свободным, и, обхватив его за шею или за стан одной рукой и держа в другой руке бутылку местного вина, которое они наливают ему на всем скаку, в ходе неистовой джититовки удаляются на три-четыре версты от деревни.
По окончании похода они выбегают навстречу его участникам и подобным же образом возвращаются в станицу
Такая легкость поведения жительниц Червленной составляет странный контраст со строгостью русских нравов и суровостью нравов восточных; некоторые из этих женщин внушили офицерам любовную страсть, завершившуюся супружеством, а другие подали повод для забавных историй, не лишенных своеобразия.
К примеру, поведение одной из жительниц Червленной дало обожавшему ее мужу настолько веские основания для ревности, что он, не имея более сил оставаться свидетелем счастья бесчисленных соперников, с отчаяния бежал в горы и начал воевать против русских.
В одной из схваток его взяли в плен, опознали, судили, приговорили к смерти и расстреляли.
Мы были представлены его вдове, и она сама рассказала нам свою плачевную историю, изложив подробности, несколько лишавшие этот рассказ драматизма, который ему вполне можно было придать.
– Самое ужасное в этом деле, – говорила она нам, – что в ходе следствия он не постыдился упомянуть мое имя. Во всем остальном, – добавила она, – он вел себя молодцом. Я видела его казнь; бедняга сильно любил меня и хотел, чтобы я присутствовала на ней, а я не сочла возможным омрачить последние его минуты своим отказом. Умер он очень достойно, тут ничего не скажешь. Он попросил не завязывать ему глаза и получил как милость право самому командовать своим расстрелом; когда же он подал команду «пли!» и упал замертво, это, уж не знаю почему, произвело на меня такое сильное впечатление, что я тоже повалилась на землю. Но я-то поднялась, хотя, наверное, какое-то время была без сознания, ибо, придя в себя, увидела, что его уже почти целиком засыпали землей, так что из-под нее торчали лишь его ноги. Они были обуты в красные сафьяновые сапоги, совершенно новые; я была так взволнована, что забыла снять их с него, и они пропали.
Эти пропавшие сапоги вызывали у бедной вдовы даже не сожаление, а угрызения совести.
В ту минуту, когда мы прибыли в станицу, могло показаться, что она опустела. Все жители станицы переместились на другую ее сторону, противоположную той, откуда мы въехали.
И в самом деле, в это время там происходило чрезвычайно важное событие, в определенной степени сходное с тем, о котором мы только что рассказали, хотя излагать этот рассказ стоило бы не раньше, а позднее того, какой вы сейчас прочитаете.
Событием этим стало не что иное, как смертная казнь.
Червленский казак, женатый и имевший двух детей, был за два года до этого взят в плен чеченцами. Он остался жив благодаря мольбам красавицы-горянки, проявившей к нему участие. Обретя свободу под свое честное слово и под поручительство брата горянки, он влюбился в свою освободительницу, платившую ему, со своей стороны, полной взаимностью. Однажды казак к своему великому огорчению узнал, что вследствие переговоров, начавшихся между горцами и русскими, он вместе со своими товарищами будет обменен; эта новость, переполнившая радостью других пленников, ввергла его в отчаяние. Тем не менее он возвратился в станицу и явился в супружеский дом, но, преследуемый воспоминаниями о прекрасной возлюбленной, оставленной им в горах, не смог снова привыкнуть к жизни на равнине.
В один прекрасный день он покинул Червленную, вернулся в горы, сделался мусульманином, женился на своей красавице-чеченке и вскоре прославился смелостью своих набегов и жестокостью разбоев.
Однажды он принял перед своими новыми товарищами обязательство сдать им Червленную, стойкую в обороне станицу, которую, как Перонну, никто никогда еще не захватывал.
И потому, пообещав им открыть ворота станицы, он проник внутрь ее ограды.
Но как только он там оказался, ему стало любопытно узнать, что происходит в его собственной семье; направившись к своему дому, он перепрыгнул через стену и оказался у себя во дворе.
Там он подобрался к окну спальни жены, приник к нему и увидел, что она стоит на коленях и молится Богу.
Это зрелище произвело на него настолько сильное впечатление, что он тоже пал на колени и принялся молиться.
Закончив молитву, он ощутил невыносимые угрызения совести и вошел в дом.
Жена, молившая Господа о возвращении мужа, закричала от радости и благодарности, заметив его, и кинулась ему в объятия.
Он обнял ее, нежно прижал к груди и попросил показать ему детей.
Дети были в соседней комнате; мать разбудила их и привела к отцу.
– А теперь, – сказал он, – оставь меня с ними и ступай за сотским.
Сотский – это начальник сотни.
Жена повиновалась и вернулась с сотским, прежде состоявшим в близкой дружбе с ее мужем.
Сотский пришел в сильное удивление, увидев своего бывшего друга, объявившего ему, что этой ночью на станицу должно быть совершено нападение, и посоветовавшего готовиться к обороне.
После чего, заявив, что Бог внушил ему раскаяние в совершенном им преступлении, казак сдался в плен.
Разбирательство было недолгим, подсудимый признался во всем и попросил предать его смерти.
Военный трибунал приговорил его к расстрелу. Мы прибыли в Червленную как раз в день казни. Вот почему станица казалась опустевшей, вот почему все станичники собрались на другом ее конце, противоположном тому, откуда мы въехали.
Именно там должна была происходить казнь.
Часовой, поставленный у ворот и крайне раздосадованный тем, что он не может оставить пост, сообщил нам все эти подробности и посоветовал поспешить, если мы хотим прибыть вовремя.
Казнь назначили на полдень, а было уже около четверти первого.
Однако казнь, видимо, еще не совершилась: ружейного залпа, по крайней мере, слышно не было.
Мы пустили наших лошадей рысью и пересекли всю станицу, защищенную обычными здесь укреплениями из заборов, решеток и палисадов, но, тем не менее, отличающуюся красотой облика, которой я не замечал в других казачьих селениях и, похоже, обнаружил в этом.
Наконец, мы добрались до места казни: происходить она должна была на лужайке, расположенной за пределами станицы и прилегающей к кладбищу.
Осужденный, человек лет тридцати—сорока, стоял на коленях возле свежевырытой ямы.
Руки у него были свободны, глаза не завязаны; из всего военного мундира на нем оставались лишь штаны.
Он был обнажен от плеч до пояса. Священник, находившийся возле него, слушал его исповедь. Когда мы подъехали, исповедь заканчивалась и священник готовился отпустить осужденному грехи.
В четырех шагах от них, наготове, с заряженными ружьями, стоял взвод из девяти солдат.
Мы остановились позади толпы, но, сидя в седлах, охватывали глазами всю сцену и, хотя и находясь дальше других, не упустили ни одной ее подробности.
Как только отпущение грехов было дано, атаман станицы подошел к осужденному и сказал ему:
– Григорий Григорьевич, ты жил как вероотступник и разбойник, умри как христианин и храбрый человек, и Господь простит тебе отступление от веры, а твои братья – измену.
Казак смиренно выслушал обращенные к нему слова, а затем поднял голову.
– Братья, – сказал он, поклонившись своим товарищам, – я уже просил у Господа прощения, и Господь простил меня; теперь я прошу прощения у вас: простите же и вы меня в свой черед.
И, точно так же, как он опустился на колени, чтобы получить прощение у Бога, он снова опустился на колени, чтобы получить прощение у людей.
Вслед за тем началась сцена, исполненная необычайного величия и высшей простоты.
Все, кто имел основание пожаловаться на осужденного, поочередно подходили к нему.
Первым приблизился старик и промолвил:
– Григорий Григорьевич, ты убил моего единственного сына, опору моей старости, но Господь простил тебя, и я тоже тебя прощаю. Умри с миром.
И старик, подойдя к осужденному, обнял его.
После старика подошла молодая женщина и сказала:
– Ты убил моего мужа, Григорий Григорьевич, ты сделал меня вдовой и превратил моих детей в сирот, но, раз Господь простил тебя, должна простить и я. Умри с миром.
И, поклонившись ему, она удалилась.
Затем к осужденному приблизился какой-то казак и сказал:
– Ты убил моего брата, ты убил мою лошадь, ты сжег мой дом, но Господь простил тебя, и я тебя прощаю. Умри же с миром, Григорий Григорьевич.
Так подходили к нему один за другим все, кто мог упрекнуть его в злодеянии или кому он принес горе.
Потом к нему в свой черед приблизились жена и двое его детей и простились с ним. Один из детей, едва ли двух лет от роду, играл в камешки, перемешанные с землей из ямы.
Наконец подошел судья и объявил:
– Григорий Григорьевич, пора!
Признаться, ничего другого из этой страшной сцены я уже не видел. Я из тех охотников, кто безжалостен к дичи, но не может видеть, как перерезают горло цыпленку.
Развернув лошадь, я вернулся в станицу.
Десять минут спустя послышался ружейный залп: Григория Григорьевича не стало, и народ молча потянулся в станицу.
Одна из кучек людей двигалась медленнее и была плотнее, чем другие: она сопровождала тех, кого людское правосудие сделало вдовой и сиротами.
Хотя и мало расположенный в эту минуту к веселости, я, тем не менее, поинтересовался, где находится дом красавицы Евдокии Догадихи.
На меня посмотрели так, словно я с луны свалился.
Евдокия Догадиха умерла еще лет пять назад! Но, подобно тому как на одном из надгробий кладбища Пер– Лашез начертано: «Его неутешная вдова продолжает его торговое дело», к сказанному добавили: «Юная сестра Евдокии заменяет ее, и вполне успешно».
– А их почтенный отец? – спросил я.
– Он все еще жив, и с ним благословение Божье.
И мы отправились просить у Ивана Ивановича Догады, почтенного отца Евдокии и Груши, гостеприимства, которое было нам оказано на определенных условиях и напоминало то, какое получил Антенор в доме у греческого философа Антифона.
Возвращение наше совершилось без всяких происшествий. Ночью, как и предсказывал начальник конвоя, тело абрека было похищено.
XI РУССКИЕ И ГОРЦЫ
На другой день после возвращения из Червленной я, прежде чем явиться к полковнику Шатилову, послал за нашими ямщиками.
Муане оказался прав: по их словам, подморозило еще сильнее, и теперь они требовали уже тридцать рублей.
Я взял папаху, пристегнул к поясу кинжал, ставший моим обязательным спутником при каждом выходе из дома, и отправился с визитом к полковнику Шатилову.
Он ждал меня с той самой минуты, когда ему передали мою визитную карточку. Накануне он лег спать около полуночи, рассчитывая все же, что я появлюсь у него еще вечером, а поднялся на рассвете.
Полковник с трудом говорил по-французски, но, предупрежденная о моем прибытии, пришла его жена, которая и послужила нам переводчицей.
Такой факт лишний раз удостоверяет превосходство в этом отношении женского образования над мужским в России.
У полковника не было никаких сомнений, что я обращусь к нему с какой-нибудь просьбой, и он сам предложил мне свои услуги. Я объяснил ему, что мне нужно шесть лошадей, чтобы доехать до Хасав-Юрта, ну а в Хасав-Юрте князь Мирский, которому я был рекомендован, возьмет на себя труд отправить меня в Чир-Юрт, где я снова найду почтовых лошадей.
Как я правильно предугадал, полковник предложил мне всю свою конюшню, однако при этом он заявил, что лошади будут готовы к отправке лишь после того, как я вместе с ним позавтракаю.
Я согласился, но с условием, что приглашение будет повторено мне милым десятилетним мальчуганом, который слышал о г-не Дюма и читал «Монте-Кристо».
Когда отворили дверь в его комнату, оказалось, что он стоит, припав глазом к замочной скважине, так что оставалось лишь впустить его в гостиную.
Удивительнее всего было то, что он не говорил по– французски, а «Монте-Кристо» читал на русском языке.
За столом разговор зашел об оружии. Заметив, что я большой его любитель, полковник поднялся и принес мне чеченский пистолет, оправленный в серебро и, помимо материальной ценности, имеющий еще и ценность историческую.
Это был пистолет лезгинского наиба Мелкума Раджаба, убитого на Лезгинской линии князем Шашковым.
Во время завтрака полковник отправил за нашим тарантасом и нашей телегой шесть лошадей и приказал снарядить конвой из пятнадцати человек, из которых пять были донскими казаками, а десять – линейными.
Повозки и конвой ждали нас у ворот.
Я простился с полковником, его женой и сыном, выразив им искреннюю признательность. По мере того как я приближался к Кавказу, русское гостеприимство не только не изменяло себе, но явно становилось все более щедрым и предупредительным.
Полковник осведомился, вооружены ли мы и в исправном ли состоянии у нас оружие, затем лично дал краткое напутствие конвою, и мы отправились в путь, сопровождаемые пятью донскими казаками, которые составляли наш авангард, и десятью линейными казаками, которые скакали по обе стороны наших повозок.
Двое наших вчерашних ямщиков с удрученным видом смотрели, как мы отъезжаем; они явились с предложением отвезти нас за восемнадцать рублей и даже за шестнадцать, но Калино повторил им на чистейшем русском языке то, что я уже высказал им на ломаном, и на этот раз они окончательно приняли сказанное к сведению.
Тогда ямщики решили удовлетвориться молодым офицером из Дербента, с которым у них вначале была договоренность о плате в двенадцать рублей, но потом они соглашались отвезти его лишь за восемнадцать. Теперь, опасаясь, что он ускользнет от них, как и мы, они вернулись к первоначальной цене.
В итоге молодой офицер, распорядившись поставить свою кибитку между тарантасом и телегой, сел вместе с Калино на переднюю скамью тарантаса, и наш конвой увеличился не только на одного храброго офицера, но еще и на хорошего товарища.








