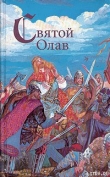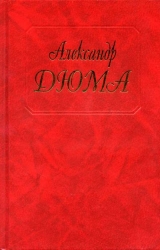
Текст книги "Сан Феличе Иллюстрации Е. Ганешиной"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 91 (всего у книги 141 страниц)
CLIV
НОЧЬ С 14 НА 15 ИЮНЯ
Сальвато не сомкнул глаз. Казалось, его стальное тело нашло средство обходиться без отдыха и сон ему не нужен. Он считал необходимым к утру точно знать, как обстоят дела, и пока все спали, кто как мог – один на охапке соломы, другой на заимствованном в соседнем доме тюфяке, – он шепнул несколько слов Микеле (среди них прозвучало имя Луизы) и зашагал вверх по улице Толедо, словно бы намереваясь посетить королевский дворец, ставший теперь Национальным дворцом, а потом по переулку Сан Сеполькро начал подниматься по крутому склону к картезианской обители святого Мартина.
Неаполитанская поговорка гласит, что самая прекрасная в мире панорама открывается из окна кельи настоятеля этой обители: балкон ее словно повис над городом и взор с него охватывает громадное пространство от Байского залива до селения Маддалони.
После восстания 1647 года, то есть после недолгой диктатуры Мазаньелло, живописцы, принимавшие участие в этой революции под именем «соратников смерти» и принесшие клятву истреблять испанцев, где бы они их ни встретили, – такие, как Сальваторе Роза, Аньелло Фальконе, Микко Спадаро (иными словами, самые выдающиеся таланты своего времени), укрылись от преследований в обители святого Мартина, имевшей право убежища. Но раз уж они там оказались, настоятель задумал извлечь из этого пользу. Он поручил художникам расписать церковь и помещения монастыря, а когда они спросили, какова будет плата за их труды, ответил:
– Жилье и пища.
Художники нашли такое вознаграждение недостаточным, и тогда аббат отворил ворота со словами:
– Поищите в другом месте, может быть, найдете что-нибудь получше.
Искать в другом месте значило попасть в руки испанцев и очутиться на виселице. Они примирились с неизбежностью и покрыли стены шедеврами.
Но Сальвато взбирался на склон горы, где стоял монастырь, не для того чтобы полюбоваться их творениями (недаром блистательная кисть Рубенса представила нам Искусства бегущими прочь от мрачного Гения войны), а с целью осмотреть сверху те места, где накануне лилась кровь и где ей предстояло литься завтра.
Сальвато был приветливо встречен патриотами, пять-шесть сотен которых укрылись в монастыре святого Мартина после того, как Межан закрыл перед ними ворота замка Сант’Эльмо.
На сей раз не настоятель диктовал им законы поведения, а сами они были хозяевами и монастыря, и угодливо, со страхом подчинявшихся им монахов.
Патриоты поспешили проводить Сальвато в покои настоятеля; тот еще не ложился и сам подвел гостя к знаменитому окну, из которого, как утверждают неаполитанцы, виден не город, а самый рай.
Райский пейзаж теперь превратился в адский. Из окна превосходно было видно расположение санфедистских и республиканских войск.
Санфедисты продвинулись на улицу Нуова, то есть на самый берег, до улицы Франческа, где у них стояла батарея пушек крупного калибра, нацеленных на малый порт и торговый порт.
Это была крайняя точка их левого фланга.
Все помощники кардинала – Де Чезари, Дуранте, Ламарра – находились тут.
Другое, правое крыло, руководимое Фра Дьяволо и Маммоне, выставило, как уже говорилось, аванпосты у Бурбонского музея, на верхнем конце улицы Толедо.
Центральные позиции растянулись по улице Сан Джованни а Карбонара, площади Трибунали и улице Сан Пьетро ад Арам до самого замка дель Кармине.
Кардинал по-прежнему находился в доме у моста Магдалины.
Нетрудно было оценить число санфедистов, атаковавших Неаполь, – их было тридцать пять или сорок тысяч человек.
Это количество внешних врагов было тем опаснее, что приходилось опасаться почти такого же числа внутренних врагов Республики.
А ее защитники, соединив все силы, едва набирали пять-шесть тысяч человек.
Охватив взором эту обширную панораму, Сальвато понял, что вылазка не привела к изгнанию из города врагов и опасно сохранять на улице Толедо длинный клин республиканских войск, так как санфедисты, установив связь с внутренними врагами, могут отрезать патриотам путь к отступлению под защиту фортов. Решение пришло мгновенно. Он вызвал Мантонне, показал ему расположение войск, разъяснил, с полным знанием дела, какая им грозит опасность, и склонил его к согласию со своим мнением.
Затем оба спустились в город и велели доложить о себе членам Директории.
А в Директории шли дебаты. Все уже знали, что от Межана ждать нечего, поэтому был отправлен нарочный к полковнику Жирардону, командующему гарнизоном Капуа. Опираясь на договор, которым скреплялся наступательный и оборонительный военный союз между Французской и Партенопейской республиками, Директория просила подкрепления живой силой.
Полковник Жирардон ответил, что не имеет возможности послать своих солдат в Неаполь; он заявил, что, если патриоты хотят послушать его совета, пусть они предпримут вылазку со штыковым боем, поместив посреди бойцов стариков, женщин и детей, и соединятся с его войсками в Капуа, и тогда он клянется честью Французской республики, что проводит их до границы Франции.
То ли совет действительно был хорош, то ли любовь к Луизе взяла верх над патриотизмом Сальвато, только он, выслушав нарочного, согласился с Жирардоном и стал твердо настаивать на принятии его плана, который означал сдачу города врагу, но должен был спасти жизнь патриотам. Для убедительности он описал расположение обеих армий и сослался на мнение Мантонне, тоже признавшего, что отстоять Неаполь невозможно.
Мантонне согласился, что город обречен, но заявил, что неаполитанцы должны погибнуть вместе с Неаполем и сам он почтет за честь быть похороненным под развалинами города, раз не может защитить его.
Сальвато вторично взял слово, чтобы возразить Мантонне; все, что есть в городе великого, благородного и самоотверженного, заявил он, находится на стороне Республики, обезглавить патриотов – значит обезглавить революцию. Он сказал, что народ еще слеп и слишком невежествен, чтобы поддержать собственное свое дело, дело прогресса и свободы, и потому, если патриоты будут уничтожены, народ подпадет под еще большее иго деспотизма, впадет в еще большее мракобесие; если же патриоты – живые носители принципа свободы – окажутся лишь переселены из Неаполя, то они продолжат свою деятельность, пусть с меньшими результатами, но зато с упорством изгнанников и окруженные уважением к их несчастью. Разве не станет земля отечества, спросил Сальвато, бесплодной на полвека, а то и на целый век, если топор реакции обрушится на головы таких людей, как Пагано, Чирилло, Конфорти, Руво? Разве имеют право несколько граждан, жаждущих славы и репутации мучеников, лишить осиротевшее потомство самых великих его людей?
Мы уже видели, что в Неаполе ложная гордость многократно вводила в заблуждение не только отдельных лиц, приносивших в жертву самих себя, но и целые группы людей, готовых принести в жертву отечество. Так и на сей раз большинство высказалось за жертву.
– Ну что ж, – только и сказал Сальвато, – умрем!
– Умрем! – в один голос отозвались присутствующие, словно римский сенат при известии о приближении галлов или Ганнибала.
– Мы погибнем, – продолжал Сальвато, – но прежде нанесем как можно больший урон врагу. Ходят слухи, будто корабли французского флота прошли через Гибралтар, соединились в Тулоне и готовы прийти нам на помощь. Я в это не верю, но в конце концов это возможно. Значит, мы будем продолжать оборону, а для этого необходимо сосредоточить силы только в тех местах, которые поддаются защите.
– Вот в этом я согласен с моим коллегой Сальвато, – подхватил Мантонне. – Я считаю его более искусным военачальником, чем все мы, и целиком полагаюсь на него.
Члены Директории склонили головы в знак одобрения.
– В таком случае, – продолжал Сальвато, – предлагаю наметить такую линию обороны: на юге от Иммаколателлы, через торговый порт и таможню вдоль улицы Мола с аванпостами на улице Медина, затем по площади Кастелло, по улице Сан Карло, через Национальный дворец и по спуску Джиганте, по Пиццофальконе, вниз по улице Кьятамоне к Витториа, а оттуда по улице Санта Катерина и через Giardini [166]166
Сады (ит.).
[Закрыть]к монастырю святого Мартина. Опорными пунктами будут Кастель Нуово, Национальный дворец, Кастель делл’Ово и Сант’Эльмо. Таким образом, у защитников города будет куда укрыться в случае нужды. Так или иначе, если в наших рядах не окажется предателей, мы сможем продержаться неделю и даже больше. А кто знает, что произойдет за неделю! Может прийти французский флот. А благодаря решительной обороне – ведь она будет сплоченной, а значит, энергичной – мы, вероятно, добьемся выгодных условий.
План был разумным, и его приняли. Осуществить его поручили Сальвато, и он, успокоив Луизу, снова вышел из Кастель Нуово, чтобы распорядиться об отводе республиканских войск на намеченные позиции.
В это самое время по улице Качьоттоли торопливо спускался нарочный полковника Межана. Он прошел по улицам Монтемилето и Инфраската, мимо заднего фасада Бурбонского музея, по улице Карбонара и через Капуанские ворота и Ареначчу достиг моста Магдалины. Там он велел доложить о себе кардиналу как о посланце французского командования.
Было три часа ночи. Кардинал только час тому назад лег наконец в постель; но он был единственным начальником, представляющим власть короля, так что о любом важном деле докладывали ему лично.
Посланного ввели к кардиналу.
Тот лежал в постели одетый; рядом на столе, на расстоянии вытянутой руки, находились его пистолеты.
Посланный протянул кардиналу бумагу, которая на дипломатическом языке называется верительной грамотой.
– Значит, вы явились от имени коменданта замка Сант’Эльмо? – спросил кардинал, прочитав эту бумагу.
– Да, ваше преосвященство, – отозвался тот. – Вы, должно быть, заметили, что господин полковник Межан на протяжении всех боев, вплоть до сегодняшних у стен Неаполя, хранил самый строгий нейтралитет.
– Верно, сударь, – отвечал кардинал, – и должен вам сказать, что при враждебном отношении Франции к королю Неаполя этот нейтралитет весьма меня удивил.
– Комендант форта Сант’Эльмо, прежде чем принять чью-либо сторону, желал войти в сношение с вашим преосвященством.
– Со мной? А с какой целью?
– Комендант – человек без предрассудков и волен поступать по своему усмотрению: прежде чем действовать, он хочет обеспечить свои интересы.
– Вот как!
– Говорят, что раз в жизни каждому выпадает возможность разбогатеть; комендант рассудил, что как раз теперь ему представился такой случай.
– И он рассчитывает, что я ему помогу?
– Он думает, что вашему преосвященству выгоднее быть его другом, чем врагом, и предлагает вам дружбу.
– Свою дружбу?
– Да.
– И как же, даром? Без всяких условий?
– Как я уже сказал, он считает, что ему представился случай разбогатеть. Но пусть ваше преосвященство не беспокоится: он уверен, пятисот тысяч франков ему будет довольно.
– Действительно, – промолвил кардинал. – Весьма примечательная скромность. К сожалению, я сомневаюсь, что в казне санфедистской армии содержится хотя бы десятая доля этой суммы. Впрочем, мы можем в этом удостовериться.
Он дернул за сонетку.
Вошел его лакей.
Все окружение кардинала, как и он сам, спало вполглаза.
– Спроси у Саккинелли, сколько у нас наличных в кассе?
Лакей с поклоном вышел.
Через минуту он вернулся и доложил:
– Десять тысяч двести пятьдесят дукатов!
– Вот видите, всего-навсего сорок одна тысяча франков, даже меньше, чем я вам говорил.
– Какой же вывод должен я сделать из слов вашего преосвященства?
– Тот вывод, сударь, – отвечал кардинал, приподнимаясь на локте и презрительно глядя на посланца, – что, будучи честным человеком, а это бесспорно, иначе в моем распоряжении уже давно была бы сумма в двадцать раз больше требуемой, – итак, как честный человек, я не могу вести переговоры с негодяем, подобным господину полковнику Межану. Но если бы у меня и была надобная ему сумма, я ответил бы то же самое. Я веду войну против французов и неаполитанцев при помощи пороха, железа и свинца, а не при помощи золота. Передайте этот ответ коменданту форта Сант’Эльмо вместе с выражением моего презрения.
И кардинал пальцем указал посланному на дверь.
– Не будите меня больше по пустякам, – приказал он и, опустившись на подушки, повернулся к стене.
Посланец вернулся в форт Сант’Эльмо и передал полковнику Межану ответ кардинала.
– Черт возьми, – проворчал тот. – Прямо как назло! Натолкнуться на честных людей сразу и у республиканцев и у санфедистов! Решительно, мне не везет.
CLV
ПАДЕНИЕ СВЯТОГО ЯНУАРИЯ – ТОРЖЕСТВО СВЯТОГО АНТОНИЯ
На рассвете следующего дня – иными словами, утром 15 июня, санфедисты заметили, что республиканские аванпосты сняты, и выслали вперед разведывательные отряды. Те сначала действовали робко, подозревая какую-то ловушку, но постепенно осмелели.
Действительно, за ночь Сальвато успел установить четыре артиллерийские батареи: одну – на углу дворца Кьятамоне, откуда простреливалась вся улица Кьятамоне, доступная также и для орудий Кастель делл’Ово; вторую – за воздвигнутым наспех укреплением между улицей Нардонез и церковью святого Фердинанда; третью – на улице Медина и четвертую – между портом Пикколо (сегодня таможней) и Иммаколателлой.
Так что едва санфедисты добрались до улицы Кончеционе, едва они появились в конце улицы Монтеоливето и достигли улицы Нуова, как сразу с трех сторон загремела канонада и они поняли, что жестоко ошиблись, вообразив, будто республиканцы уступили.
Санфедисты отошли туда, где им не грозили метательные снаряды, укрылись на поперечных улицах, куда не могли попасть ядра и картечь.
Все же город на три четверти был в их руках: они могли вволю грабить, поджигать, разрушать дома патриотов, убивать, душить, поджаривать и пожирать их владельцев.
Но странная неожиданность: ярость лаццарони прежде всего обратилась против святого Януария.
На Старом рынке, напротив лавки раненого Беккайо, собралось нечто вроде военного суда с участием самого живодера, чтобы судить святого.
Для начала толпа запрудила его церковь, несмотря на сопротивление каноников, которых сбили с ног и топтали башмаками.
Затем разнесли двери ризницы, где под замком хранился бюст покровителя Неаполя вместе с бюстами других святых, составляющих его свиту. Кто-то непочтительно схватил святого в охапку, вытащил из церкви и под вопли «Долой святого Януария!» водворил на каменную тумбу на углу улицы Сант’Элиджо.
С большим трудом удалось отговорить чернь от намерения забросать бюст святого камнями.
Но, пока толпа ломилась в церковь, явился человек, который благодаря своему весу в глазах простонародья и известности в бедных кварталах Неаполя имел большое влияние на лаццарони.
Этот был фра Пачифико.
В бытность свою матросом фра Пачифико несколько раз наблюдал на борту своего корабля военный суд. Он знал, как он проходит, и придал судилищу видимость порядка.
Послали в Викариа, добыли там пять судейских одеяний и две адвокатские мантии, и процесс начался.
Один адвокат выступал в роли общественного обвинителя, другой – в роли официального защитника.
Святого Януария допросили по всем правилам.
Потребовали от него назвать свое имя, фамилию, возраст, сословную принадлежность, рассказать, за какие заслуги удостоен он был столь высокого положения.
За святого отвечал его защитник, и, надо сказать, отвечал куда добросовестнее, чем это делают обычно адвокаты. Он высоко оценил героическую смерть святого, его отеческую любовь к Неаполю, его чудеса: не только превращение крови, но и то, что по его молитвам паралитики бросали свои костыли; упавшие с шестого этажа вставали на ноги целыми и невредимыми; застигнутые бурей суда благополучно возвращались в гавань; Везувий угасал от одного его присутствия при извержении; наконец, австрийцы были разбиты при Веллетри вследствие обета, данного Карлом III, пока он прятался в печи.
Но, к несчастью для святого Януария, его поведение, столь примерное в прошлом, сделалось непонятным и двусмысленным с того момента, как в город вошли французы. Чудо, сотворенное в час, заранее назначенный генералом Шампионне, и все другие чудеса, совершенные в пользу Республики, были серьезной провинностью со стороны святого, и тут ему трудно было оправдаться.
Он пытался возражать, что Шампионне прибегнул к запугиванию, в ризнице находились адъютант и двадцать пять гусаров, наконец, ему угрожали расправой, если чудо не свершится.
На это ему ответили, что святому, уже однажды претерпевшему мученичество, не следовало так легко поддаваться запугиванию.
Но Януарий с величайшим достоинством возразил, что опасался он не за себя, ибо положение блаженного делало его неуязвимым и укрывало от любых покушений, а за дражайших своих каноников, которые питали гораздо меньшую склонность к мученическому концу; что их страх перед пистолетом посланца французского генерала был столь велик, а молитвы их столь ревностны, что он, святой, не мог устоять; однако, если бы он увидел, что каноники расположены принять венец мучеников, никакая сила не заставила бы его совершить чудо, принуждать же их он не смел.
Само собой разумеется, все эти доводы были победоносно разбиты обвинителем, так что в конце концов его противник вынужден был умолкнуть.
После бурных дебатов приступили к голосованию, и святой Януарий был разжалован; более того, его присудили к потоплению в море.
Затем заседание продолжилось. Под дружные крики на место покровителя города выдвинули святого Антония, который, раскрыв «заговор веревок», отнял у Януария остаток его популярности. Итак, Антония возвели в ранг святого покровителя Неаполя.
В 1793 году Франция низложила самого Господа Бога; почему бы Неаполю в 1799 году не свергнуть святого Януария?
Его бюст обвязали веревкой вокруг шеи, проволокли по всем улицам, а затем потащили в ставку кардинала; тот утвердил вынесенный приговор, объявил святого Януария лишенным высокого чина верховного командующего войсками королевства и от имени короля наложил секвестр на его сокровища и все его имущество; его преемником кардинал признал святого Антония и даже – что доказывало причастность его преосвященства к свершившемуся перевороту – вручил толпе лаццарони огромную хоругвь с изображением святого Януария, которого преследует святой Антоний, вооружившийся розгами.
Убегающий же святой Януарий в одной руке держит связку веревок, в другой – трехцветное знамя Неаполя.
Тот, кто знаком с неаполитанскими лаццарони, может себе представить, какую радость доставил им подобный подарок: он был принят с ликующими воплями, и это еще больше распалило в толпе жажду убийства и грабежей.
Знаменосцем единодушно был избран фра Пачифико, и он с хоругвью в руках занял место во главе процессии.
За ним двигалась другая хоругвь, с изображением Руффо, коленопреклоненного перед святым Антонием, который открывает кардиналу заговор веревок.
Эту хоругвь нес Бассо Томео в сопровождении своих трех сыновей в качестве телохранителей.
Затем следовал маэстро Донато; он тащил на веревке святого Януария, ибо подразумевалось, что с той минуты, как святому был вынесен приговор, он принадлежит палачу, словно простой смертный.
А сзади валила тысячная толпа, вооруженная чем попало, рыча, вопя, высаживая двери, выбрасывая в окна мебель, из которой тут же складывали и разжигали костры, и оставляя за собою кровавый след.
Вдруг распространился слух – то ли его пустили в насмешку, то ли тут снова проявилось суеверие черни, – будто у всех патриотов где-нибудь на теле имеется татуировка в виде дерева Свободы, и это послужило поводом к странным надругательствам. Каждого схваченного в городе или у него дома патриота лаццарони раздевали донага и гнали по улицам ударами бича, а устав от погони, убивали выстрелом в спину из ружья либо пистолета или стреляли жертве в ноги, чтобы продлить ее мучения.
Герцогиню де Пополи и герцогиню де Кассано, совершивших непростительный, с точки зрения лаццарони, проступок (ведь они собирали средства для патриотов-бедняков), выволокли из их дворцов; их платья, юбки – словом, всю одежду – обрезали ножницами от подола до пояса, а затем этих почтенных и целомудренных женщин, которых не могло унизить никакое оскорбление, погнали оголенными с улицы на улицу, с площади на площадь, с одного перекрестка на другой. После этого их отвели в Кастель Капуано и бросили в тюрьму Викариа.
Была еще одна женщина, как и они, заслужившая прозвание матери Отечества; то была подруга Луизы герцогиня Фуско. Кто-то произнес ее имя, – по преданию, один из тех, кому она оказывала помощь, – и лаццарони немедленно решили пойти за нею в ее дом и подвергнуть ее такому же наказанию. Но путь в Мерджеллину преграждали республиканские войска, стоявшие между площадью Витториа и замком Сант’Эльмо. Когда толпа докатилась до Джардини, не зная, что они охраняются, ее встретил дружный ружейный огонь, и она невольно подалась назад, оставив на земле дюжину убитых и раненых.
Однако неудача эта отнюдь не отвратила лаццарони от их затеи: скоро они появились на подъеме Сан Никола да Толентино. Но на улице Сан Карло алле Мортелле их встретил такой же огонь, и снова на землю начали падать убитые и раненые.
Наконец лаццарони поняли, что, не зная расположения республиканских войск, они угодили на какую-то оборонительную линию. Тогда они решили обогнуть высоты монастыря святого Мартина, где реяло республиканское знамя, дойти по улице Инфраската до улицы Святого Януария Антиньянского и по склону Вомеро спуститься к Кьяйе.
Тут они уже были как дома. Некоторые задержались, чтобы помолиться перед изображением мадонны Пие ди Гротта, но большинство продолжало путь через Мерджеллину к дому герцогини Фуско.
Когда они дошли до Львиного фонтана, вожак банды предложил для большей верности проникнуть в дом без лишнего шума. Но кто-то закричал, что здесь имеется женщина еще более преступная, нежели герцогиня Фуско: та, что подобрала раненого адъютанта генерала Шампионне, та, что выдала Беккеров и привела их к гибели.
И все тотчас вспомнили о Луизе Сан Феличе.
Послышались крики: «Смерть Сан Феличе!»
Не думая больше о предосторожностях, необходимых для захвата герцогини Фуско, лаццарони ринулись к Дому-под-пальмой, выломали садовые ворота и по ступеням террасы ворвались в особняк.
Как известно читателю, дом был пуст.
В первом порыве ярости оборванцы разбили оконные стекла, выбросили через окна мебель, но это не принесло им удовлетворения.
Вскоре опять послышались вопли: «Герцогиню Фуско!», «Герцогиню Фуско!», «Смерть матери Отечества!» Толпа ворвалась в коридор, соединявший оба дома, и хлынула из особняка Сан Феличе в покои герцогини.
Достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что если дом Сан Феличе покинут всеми обитателями уже несколько дней тому назад, то дом герцогини оставлен только сейчас.
На столе, сервированном прекрасным серебром, виднелись остатки обеда; в спальне хозяйки валялись на полу недавно сброшенные одежды: это свидетельствовало о том, что герцогиня бежала, переодевшись в чужое платье. Если бы лаццарони не развлекались грабежом и разгромом дома Луизы Сан Феличе, они наверняка успели бы схватить герцогиню Фуско, за которой им пришлось так далеко идти, напрасно подставив под пули добрых два десятка своих людей.
Их охватила дикая ярость. Они принялись стрелять из пистолетов по зеркалам, поджигать драпировки, рубить топорами мебель, как вдруг, в разгар этих занятий, из сада послышался крик, от которого они содрогнулись; дерзкий голос прокричал им в самые уши:
– Да здравствует Республика! Смерть тиранам!
Ответом был каннибальский рев: нашелся все же кто-то, на ком можно будет выместить свое разочарование!
Через окна и через двери толпа хлынула в сад.
Сад представлял собою удлиненный четырехугольник, засаженный прекрасными деревьями и окруженный стенами; в нем не было никакого строения, способного послужить убежищем, так что тот, кто столь неосторожно и столь дерзко выдал свое присутствие, не мог ускользнуть от погони.
Садовая калитка, выходившая на Позиллипо, была приотворена, может быть, через нее и скрылась герцогиня Фуско?
Такое предположение перешло в уверенность, когда у этой калитки, обращенной к холму, подобрали носовой платок с инициалами герцогини.
Она не могла далеко уйти, и лаццарони уже собирались обшарить окрестности, когда снова, непонятно откуда, послышался крик, еще более дерзкий, чем прежде: «Да здравствует Республика! Смерть тиранам!»
Разъяренные лаццарони обернулись. Деревья были недостаточно высоки и не так густо посажены, чтобы среди них мог спрятаться человек, да к тому же крик, казалось, доносился из дома, со второго этажа.
Часть грабителей побежала в дом и устремилась вверх по лестнице, остальные остались в саду и вопили:
– Бросьте его нам через окно!
Именно таково и было намерение достойных санфедистов, но напрасно они искали, заглядывали под кровати, в шкафы, в печные трубы – никакого патриота нигде не было.
Неожиданно над головами тех, кто остался в саду, в третий раз прозвучал тот же революционный призыв. Стало ясно, что кричавший прячется в ветвях великолепного дуба, закрывавшего своей тенью чуть ли не треть сада.
Все глаза обратились к дереву, напряженно всматриваясь в листву. Наконец на одной ветке лаццарони заметили взгромоздившегося на нее, как на жердочку клетки, попугая герцогини Фуско, ученика Николино и Веласко; в суматохе он вылетел в сад и с испугу не нашел ничего лучшего, как выкрикивать патриотический лозунг, которому научили его два республиканца.
Напрасно бедная птица обнаружила свое присутствие и свои политические убеждения: лучше бы попугаю скрыть и то и другое. Как только его обнаружили и признали в нем виновника суматохи, на него уставились дула санфедистских ружей; прогремел залп, и птица упала, пробитая тремя пулями.
Это немного утешило лаццарони в их неудаче: по крайней мере, они хоть с кем-то посчитались. Правда, птица не человек, но некоторые люди так походят на говорящих птиц!
Свершив эту казнь, они вспомнили о святом Януарии, которого Донато все еще волочил за собою на веревке, и, поскольку они находились в двух шагах от залива, несколько лаццарони прыгнули в лодку и вышли в открытое море, а там Донато, не один раз окунув святого в воду, под вопли и улюлюканье отпустил веревку, так что святой Януарий, решив, должно быть, что не время показывать чудеса, вместо того чтобы всплыть на поверхность, то ли от бессилия, то ли из презрения к небесному блаженству погрузился в бездну морскую и исчез в ней.