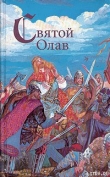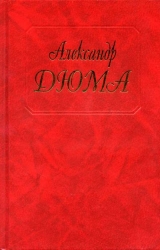
Текст книги "Сан Феличе Иллюстрации Е. Ганешиной"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 141 страниц)
LXVI
ЛЮБОВНИЦА-СУПРУГА
Умы посредственные, люди, чей взгляд скользит по поверхности, видя это неожиданное, невиданное, почти всеобщее выражение верноподданнического восторга, могли подумать, что никакая сила даже на время не в состоянии подорвать трон, покоящийся на доверии всего народа. Но умы возвышенные, проницательные, не позволяющие заворожить себя пустыми словами и громогласными излияниями, столь свойственными неаполитанцам, за этим восторгом, слепым, как все проявления простонародных чувств, видели мрачную истину: бежавшего короля, разбитую неаполитанскую армию, французов, наступающих на Неаполь. Подобные люди, трезво воспринимающие события, предвидели их неизбежные последствия.
Особенно сильное впечатление эти новости производили в доме, хорошо известном нашим читателям под именем Дома-под-пальмой. Объясняется это тем, что два человека, там обитавшие, были обо всем прекрасно осведомлены с двух разных сторон, причем оба с волнением ждали исхода событий: в одном случае причиной столь живого интереса было чувство, владеющее сердцем хозяйки дома, в другом – общественное положение хозяина.
Луиза сдержала слово, данное Сальвато. После того как юноша уехал, после того как он покинул комнату, куда был принесен умирающим и где понемногу, благодаря уходу молодой женщины, вернулся к жизни, она проводила здесь все время, когда муж ее отсутствовал.
Луиза не плакала, не жаловалась, у нее даже не было потребности поговорить с кем-нибудь о Сальвато. Джованнина, удивляясь тому, что ее госпожа никогда не упоминает о юном офицере, пробовала сама заговорить о нем, но ничего не добилась; Луизе казалось, что, раз Сальвато уехал, раз Сальвато нет, она может говорить о нем только с Богом.
Непорочность этой любви, столь пылкой, всецело завладевшей ее душой, погрузила ее в состояние печальной безмятежности. Луиза входила в комнату, улыбалась предметам обстановки, ласково кивала им, словно добрым друзьям, нежно смотрела на них, садилась на привычное свое место, то есть у изголовья постели, и предавалась мечтам.
У нее появилось новое, второе прошлое, и если о прежнем, первом, она совершенно забыла, то об этом втором думала беспрестанно. Грезы, в которых два минувших месяца проходили перед ее духовным взором один за другим, день за днем, час за часом, минута за минутой, прошлое оживало само собою, без какого-либо усилия памяти, и они, эти грезы, были полны неизъяснимого очарования. Иной раз, когда воображение рисовало ей час разлуки, она подносила руку к губам, словно хотела удержать единственный беглый поцелуй, запечатленный на них юношей в минуту разлуки, и поцелуй этот оживал во всей своей прелести. Прежде ей в часы одиночества нравилось заниматься какой-нибудь работой или чтением; ныне она забросила все – иглу, карандаш, музыку. Если возле нее находились муж или друзья, она жила в настоящем лишь наполовину. Оставшись одна, она всецело погружалась в минувшее, в воображаемую жизнь, куда более привлекательную, чем действительная.
Прошло всего четыре дня с тех пор, как уехал Сальвато, и эти дни заняли в жизни Луизы огромное место; они превратились как бы в синее озеро, спокойное, уединенное и глубокое, где отражалось небо; если отсутствие Сальвато продолжится, это идеальное озеро грез станет все более расширяться; если же разлука будет вечной, озеро поглотит всю ее жизнь, прошлое и настоящее, затопит надежду на будущее, память о минувшем: оно превратится в море и берега его навсегда исчезнут из виду.
В этой умозрительной жизни, постепенно вытесняющей жизнь реальную, все, как во сне, принимало призрачный облик; так, она терпеливо ждала, когда столь желанное письмо покажется вдали в виде белого паруса, еле видного на горизонте; ей явственно представлялось, как он словно бы растет, скользя белоснежным крылом по синим волнам, медленно подплывая все ближе к берегу, на котором она спала.
Печаль, завладевшая ею после отъезда Сальвато и смягченная его обещаниями вернуться – твердым обещанием, что хранилось в ее сердце как жемчужина, – была так тиха, что даже муж, чья бесконечная доброта, казалось, не ведала большего счастья, чем видеть Луизу, не замечал ее тоски и, следовательно, не спрашивал о ее причине. Она же отвечала ему, как прежде, глубокой, нежной привязанностью, исполненной благодарности, и дочерней нежности, ничуть не ослабевшей от этой любви, что влекла ее к другому. Пожалуй, когда она выходила на крыльцо, чтобы встретить мужа, возвращающегося из библиотеки, ее лицо казалось немного бледнее; пожалуй, когда она приветствовала его, в ее голосе слышалась порой дрожь, словно от слез, но Сан Феличе мог бы заметить столь неуловимые перемены, только если бы кто-нибудь обратил на них его внимание. Итак, Сан Феличе по-прежнему оставался человеком спокойным и счастливым, каким был всегда.
Но известие о возвращении короля взволновало их обоих, хоть и по-разному.
Сан Феличе, придя в королевский дворец, не застал там принца, но адъютанту было приказано сообщить библиотекарю, что его высочество находится у короля, который минувшей ночью спешно возвратился из Рима.
Хотя событие это и показалось Сан Феличе весьма важным, он все же, не зная, чем оно окажется для жены, и не подумал уйти из дворца хоть на минуту раньше: домой он вернулся в обычное время.
Дома он рассказал Луизе о приезде короля как о новости скорее удивительной, чем тревожной. Но Луиза, со слов Сальвато знавшая, что сражение неминуемо, сразу же подумала, что внезапное возвращение короля связано именно с этим. Она уверенно заметила, удивив кавалера своей прозорливостью, что, если король возвратился, значит, произошла битва между французами и неаполитанцами и французы одержали верх.
Но, высказывая такое предположение, в правильности которого она не сомневалась, Луиза вынуждена была сделать невероятное усилие воли, чтобы не выдать своего волнения, ведь французы не могли победить без боя, а в бою им, конечно, пришлось понести более или менее значительные потери: как знать, не оказался ли и Сальвато среди раненых или убитых?
Под первым попавшимся предлогом Луиза удалилась в свою комнату и перед тем распятием, под которым некогда лежал князь Караманико, ее умирающий отец, а Сан Феличе поклялся исполнить его волю – жениться на ней и позаботиться о ее благополучии, она долго и горячо молилась, не говоря, о чем просит, и предоставив Богу самому читать в ее сердце.
В пять часов до Сан Феличе донесся с улицы необычный шум; он подошел к окну и увидел людей, бегущих со всех сторон и расклеивающих прокламации, тут же привлекающие всеобщее внимание. Он спустился на улицу, подошел к одной из афиш и прочел непонятное воззвание. Потом, как всякому мыслящему человеку, ему захотелось узнать смысл этой политической загадки, и он спросил Луизу, не хочет ли она пройтись вместе с ним по городу, чтобы узнать новости, а когда она отказалась, отправился один.
В его отсутствие пришел Чирилло; об отъезде Сальвато он еще не знал. Молодая женщина без утайки поведала ему все: как появилась Нанно и на своем иносказательном языке, поведав греческую легенду, дала Сальвато понять, что французам предстоит сражение и что он должен драться вместе с ними. Чирилло, так же мало знавший о событиях, как и Сан Феличе, был весьма встревожен, но постарался убедить Луизу, что, если с Сальвато не случилось несчастья, он тем или иным путем сообщит друзьям новости, а если он сам, Чирилло, что-нибудь узнает, то немедленно все передаст ей.
Луиза умолчала о том, что надеется получить от Сальвато вести, по меньшей мере, так же скоро, как и доктор.
Когда Сан Феличе возвратился домой, Чирилло давно уже ушел. Кавалер был озадачен и нежданным триумфом короля, и восторгами неаполитанцев. Запутанный и темный смысл воззвания не ускользнул от его проницательного ума, а сердцем он был не так прост, чтобы не почувствовать тут какой-то обман.
Он пожалел, что не застал Чирилло, которого любил как человека и ценил как врача.
В одиннадцать часов он удалился к себе, а Луиза ушла в свою комнату или, вернее, в комнату Сальвато, как имела обыкновение уходить туда, когда там ее ждал юноша. Теперь, когда его уже здесь не было, тревога придала ее любви еще небывалую страстность. Она опустилась на колени у постели и долго плакала, снова и снова прижимаясь губами к подушке, на которой покоилась голова раненого.
Послышался легкий шорох, она обернулась: на пороге стояла Джованнина. Луиза встала, смущенная неожиданным появлением девушки, а та сказала, оправдываясь:
– Я слышала, что вы плачете, и подумала: может быть, я вам нужна?
Луиза в ответ только покачала головой: она не хотела говорить, боясь, как бы в смятении не сказать чего-нибудь такого, о чем следует молчать.
На другой день Луиза была бледна, выглядела крайне растерянной; впрочем, оправданием ей служило то, что всю ночь слышался треск петард и mortaretti [96]96
Хлопушки (ит.).
[Закрыть].
Кавалер кончал завтракать, когда у его ворот остановился экипаж. Джованнина отворила калитку и впустила секретаря принца. Принц обязан был присутствовать на заседаниях Совета в полдень, но перед тем желал поговорить с Сан Феличе, а потому прислал за ним экипаж и просил приехать немедленно.
На крыльце кавалеру встретился почтальон; он застал калитку отворенной и вошел; в руках у него было письмо.
– Мне? – спросил Сан Феличе.
– Нет, ваше превосходительство, вашей супруге.
– Откуда?
– Из Портичи.
– Отнесите поскорее! Вероятно, это от ее няни.
И Сан Феличе, не задерживаясь, сел в экипаж и уехал.
Луиза слышала слова, которыми обменялись ее муж и почтальон; она вышла почтальону навстречу и взяла письмо.
Оно было написано незнакомым почерком.
Луиза в растерянности распечатала его, увидела подпись и вскрикнула: письмо было от Сальвато.
Она прижала его к сердцу, бросилась в священную комнату и заперлась.
Ей казалось, что было бы кощунством прочитать первое послание ее друга иначе как в этой комнате.
– От него! – шептала она, опускаясь к кресло у изголовья кровати. – От него!
Несколько мгновений она не в силах была читать; кровь, отхлынув от сердца, прилила к голове: в висках стучало, глаза подернулись пеленой.
Сальвато писал с поля битвы:
«Благодарите Бога, возлюбленная моя! Я успел к сражению, и наша победа не обошлась без моего участия. Ваши святые, непорочные молитвы были услышаны: Бог, к которому взывал чистейший и прекраснейший из его ангелов, охранял меня и мою честь.
Никогда еще не бывало такой полной победы, любимая моя Луиза; еще на поле сражения мой дорогой генерал прижал меня к сердцу и произвел меня в командиры бригады. Армия Макка рассеялась как дым! Сейчас я уезжаю в Читтадукале, откуда постараюсь отправить Вам это письмо. В том беспорядке, который последует за нашей победой и разгромом неаполитанцев, нельзя положиться на почту. Люблю Вас всем сердцем, которое полнится любовью и гордостью. Люблю Вас! Люблю!
Читтадукале, 2 часа ночи.
Вот я уже на десять льё ближе к Вам! Мы с Этторе Карафа нашли крестьянина, который на моей лошади, оставленной мною здесь (поблагодарите за нее от меня Микеле), соглашается тотчас же отправиться в путь; он остановится, только когда лошадь падет под ним, а вместо нее возьмет другую. Он берется доставить письмо нашему другу, у которого Этторе скрывался в Портичи. Письмо к Вам будет вложено в тот же конверт, что и письмо к нему, и он Вам его перешлет.
Я говорю это, чтобы Вы не задумывались над тем, каким путем оно к Вам попало; это на несколько мгновений отдалило бы Вас от меня. Нет, я хочу, чтобы Вы испытали от чтения моего письма такую же радость, какую испытывал я, когда писал его.
Наша победа так значительна, что, как мне кажется, нам уже не придется еще раз давать сражение. Мы движемся прямо на Неаполь, и если ничто, как можно предполагать, не задержит нас, я увижу Вас самое большее через восемь-десять дней.
Оставьте открытым окно, через которое я ушел; через него я и вернусь. Я увижу Вас в той же комнате, где был так счастлив; я принесу Вам жизнь, что Вы даровали мне.
Я не упущу ни одной возможности написать Вам; однако если писем от меня не будет – не тревожьтесь: это всего лишь значит, что посланцы мои либо убиты, либо задержаны, либо оказались изменниками.
О Неаполь! Любезная моя родина! Вторая любовь моя после Вас! Итак, Неаполь, ты обретешь свободу!
Не хочу задерживать своего посланца, не хочу более ни на миг отдалять Вашу радость. Я дважды счастлив – своим счастьем и Вашим. До свидания, обожаемая моя Луиза. Люблю Вас! Люблю Вас!
Сальвато».

Луиза перечитала письмо юноши десять, быть может, двадцать раз. Она перечитывала бы его без конца, позабыв о времени.
Вдруг в дверь постучалась Джованнина.
– Кавалер возвращается, – сказала она.
Луиза вскрикнула, поцеловала письмо, спрятала его у сердца, бросила, выходя, взгляд в другую комнату, на то окно, через которое выпрыгнул Сальвато и через которое он должен вернуться.
– Да, да, – прошептала она, улыбнувшись ему.
Любовь эта была так живительна, что одухотворяла все эти бесчувственные, привычные предметы.
Когда Луиза входила в гостиную, в другой двери появился ее муж.
Кавалер был явно озабочен.
– Что с вами, друг мой? – спросила Луиза, идя ему навстречу и обратив к нему свой ясный взор – Вы грустны?
– Нет, дитя мое, – ответил кавалер, – я не грущу, а беспокоюсь.
– Вы виделись в принцем? – спросила молодая женщина.
– Да, – ответил кавалер.
– И беспокойство ваше вызвано разговором с ним?
Кавалер молча кивнул.
Луиза глядела на мужа, стараясь проникнуть в его мысли.
Кавалер сел, взял обе руки стоявшей перед ним Луизы и тоже посмотрел на нее.
– Говорите, друг мой, – сказала Луиза, чувствуя, как в ее душе рождается недоброе предчувствие. – Слушаю вас.
– Положение королевской семьи, – ответил кавалер, – как мы вчера и предполагали, весьма серьезно. Нет никакой надежды воспрепятствовать вторжению французов в Неаполь, поэтому король с королевой решили переехать на Сицилию.
Сердце Луизы сжалось – она сама не понимала почему.
По выражению ее лица кавалер понял, что в ее сердце царит смятение. Губы ее дрожали, глаза были полузакрыты.
– Так вот, слушай внимательно, дитя мое, – произнес кавалер с отеческой нежностью, как порою говорил с нею. – Принц мне сказал: «Кавалер, вы единственный мой друг, единственный, с кем мне действительно приятно беседовать; всеми моими скромными познаниями я обязан вам; все, что придает мне некоторую ценность, исходит от вас; один только человек может помочь мне перенести изгнание – это вы, кавалер. Прошу вас, умоляю: если мне придется уехать, будьте вместе со мною!»
По всему телу Луизы пробежала дрожь.
– А что вы ему ответили, друг мой? – спросила она дрожащим голосом.
– Я сжалился над королевским горем, над этой слабостью в могуществе, над принцем, в изгнании теряющим друга, над наследником престола, лишенным поддержки, как потом, быть может, лишится короны, – я обещал.
Луиза вновь содрогнулась; это не ускользнуло от кавалера, ведь он держал ее за руки.
– Но пойми, Луиза, – продолжал он с живостью, – я дал обещание только за себя, оно никого другого ни к чему не обязывает; ты далека от двора, при котором пренебрегла занять подобающее тебе место, и потому у тебя нет никакого долга по отношению к кому бы то ни было.
– Вы так считаете, друг мой?
– Считаю; поэтому ты, любимое дитя мое, вольна не уезжать из Неаполя, не покидать дом, который любишь, сад, где играла и резвилась ребенком, – словом, тот небольшой уголок земли, где за семнадцать лет у тебя накопилось немало воспоминаний… подумать только, ведь уже семнадцать лет, как ты здесь и радуешь меня своим присутствием! Мне все кажется, что ты здесь появилась только вчера.
Кавалер вздохнул.
Луиза ничего не ответила. Он продолжал:
– Герцогиня Фуско, изгнанная королевой, вернется, как только королева уедет. Значит, рядом с тобой будет такой друг, что я смогу столь же мало тревожиться за тебя, как если бы тебя опекала твоя мать. Через две недели французы будут в Неаполе, но тебе нечего опасаться французов. Я долго жил среди них и хорошо их знаю. Они несут моей родине блага, которыми, к сожалению, не наделили ее наши монархи: прогресс, свободу, разум. Все мои друзья, а следовательно, и твои – патриоты. Тебе нечего страшиться революции, никакие преследования тебе не угрожают.
– Значит, друг мой, вы думаете, что я могу счастливо жить без вас? – спросила Луиза.
– Женщина твоего возраста не может тосковать по такому мужу, как я, – сказал Сан Феличе со вздохом.
– Но даже если допустить, что это так, разве вы, друг мой, можете жить без меня?
Сан Феличе опустил голову.
– Вы боитесь, что мне будет недоставать этого дома, сада, этого уголка земли, – продолжала Луиза. – А вам разве не будет недоставать меня самой? Если наша совместная жизнь, которой вот уже семнадцать лет, вдруг оборвется, разве для вас не оборвется нечто привычное, даже необходимое?
Сан Феличе молчал.
– Если вы не желаете расстаться с принцем, который всего лишь ваш друг, – продолжала Луиза глухим голосом, – то как же можете вы предлагать мне расстаться с вами, с тем, кто одновременно и отец мой и друг, с тем, кто развил мой ум, открыл моему сердцу добро, моей душе – Бога?
Сан Феличе вздохнул.
– Словом, неужели, обещая принцу последовать за ним, вы подумали, что я не последую за вами?
Из глаз кавалера на руку Луизы скатилась слеза.
– Если вы так подумали, то напрасно, – продолжала она, ласково и грустно покачав головой. – Отец, умирая, соединил нас, Господь благословил наш союз; только смерть разлучит нас. Я поеду с вами, друг мой.
Сан Феличе порывисто поднял голову, лицо его сияло счастьем, и теперь уже слезинка Луизы скатилась на руку ее мужа.
– Значит, ты любишь меня? Благословение Господне! Ты меня любишь? – воскликнул кавалер.
– Отец мой, вы проявили неблагодарность, – сказала Луиза, – просите у своей дочери прощения.
Сан Феличе бросился на колени, покрывая руки Луизы поцелуями, в то время как она, возведя глаза к небу, прошептала про себя:
«Боже мой, если бы я поступила иначе, разве не стала бы я недостойной их обоих?»
LXVII
ДВА АДМИРАЛА
Сообщая кавалеру Сан Феличе о том, что отъезд королевской семьи – дело решенное, принц Франческо считал, что говорит от имени отца и матери; на самом же деле он говорил только от имени матери. Было решено бежать во что бы то ни стало. Но король, видя преданность народа, заколебался, как ни был он слеп – или, вернее именно вследствие этой слепоты. Слыша клятвы ста тысяч человек в том, что все они вплоть до последнего готовы умереть ради него, Фердинанд вернулся к мысли защитить столицу, положившись вместо малодушной армии на мужественный народ, так пылко предлагающий себя в жертву.
Встав утром 11 декабря, то есть на другой день после невероятного триумфа, который мы попытались описать нашим читателям, еще не приняв окончательного решения, но склоняясь скорее к сопротивлению, чем к бегству, король узнал, что адмирал Франческо Караччоло уже полчаса ожидает в приемной выхода его величества.
Под влиянием королевы Фердинанд невзлюбил адмирала, однако не мог не уважать его за исключительную храбрость, выказанную им во многих стычках с берберийцами, за ловкость, с какою он вывел свой фрегат «Минерва» из тулонской гавани, когда город был отбит Бонапартом у англичан, за хладнокровие, с каким Караччоло защищал другие корабли, – да, пострадавшие от шторма и поврежденные снарядами, – но которые он, как бы то ни было, все до одного привел в гавань, за что и получил чин адмирала.
В первых главах нашего повествования говорилось о том, по каким причинам королева была недовольна адмиралом. Вскоре Каролине, со свойственной ей ловкостью, удалось восстановить против него короля.
Фердинанд подумал, что адмирал явился просить о снисхождении к его племяннику Николино, и был очень доволен, что из-за ложного положения, в которое поставил себя один из членов его семьи, Караччоло теперь вполне у него в руках. Горя желанием досадить адмиралу, Фердинанд приказал немедленно впустить его.
Адмирал, одетый в парадный мундир, вошел, как всегда, с достоинством и спокойно; благодаря своему высокому положению члены этой семьи уже четыре столетия соприкасались с монархами всех династий – анжуйской, арагонской, испанской, – последовательно занимавшими неаполитанский престол. Аристократизм сочетался в адмирале с утонченной вежливостью – образцом ее явился его двойной отказ, за себя и за племянницу, которым он ответил королеве на приглашение принять участие в торжествах, устроенных неаполитанским двором в честь Нельсона.
Такая изысканная учтивость, от кого бы она ни исходила, всегда несколько стесняла Фердинанда, которому тонкое обхождение было не слишком свойственно. Поэтому, когда он увидел, что адмирал почтительно остановился в нескольких шагах от него и, соответственно этикету, выжидает, пока король первый не заговорит с ним, он не нашел ничего лучше, как сразу же начать с упрека:
– А, вот и вы, господин адмирал! Говорят, вы очень настойчиво выражали желание меня видеть?
– Это правда, государь, – отвечал адмирал, кланяясь, – мне казалось, что я должен как можно скорее добиться чести быть принятым вашим величеством.
– Понимаю, что вас ко мне привело, – сказал король.
– Тем лучше для меня, государь, – отвечал Караччоло. – Значит, ваше величество по заслугам оценивает мою преданность.
– Ну да, вы пришли, чтобы поговорить об этом негоднике, о Николино, вашем племяннике, не так ли? Он впутался, оказывается, в скверную историю, ведь речь идет не более не менее как о государственной измене. Но предупреждаю: любое заступничество, даже ваше, окажется бесполезным и его судьбу решит только правосудие.
По суровому лицу адмирала пробежала улыбка.
– Ваше величество заблуждается, – возразил он. – В дни великих политических катастроф мелкие семейные невзгоды меркнут. Я не знаю и не хочу знать, чем провинился мой племянник; если он невиновен, то это выяснится в ходе следствия, как выяснилась невиновность кавалера Медичи, герцога де Кассано, Марио Пагано и многих других обвиняемых, так что после трехлетнего заключения пришлось вернуть им свободу. Если племянник виновен, пусть правосудие скажет свое слово. Николино знатного происхождения; он будет иметь право на отсечение головы, а меч – вашему величеству это известно – оружие столь благородное, что даже в руках палача оно не позорит тех, на кого обрушивается.
– Но в таком случае, раз вы явились не затем, чтобы похлопотать за племянника, для чего же вы пришли? – сказал король, несколько удивленный простым, спокойным и полным достоинства тоном адмирала, ибо ему самому такой тон был чужд.
– Я пришел поговорить о вас, государь, и о королевстве.
– Ах, вот как, вы хотите что-то мне посоветовать?
– Если ваше величество окажет мне честь узнать мое мнение, – отвечал Караччоло, почтительно склонив голову, – я буду горд и счастлив предоставить мой слабый опыт в ваше распоряжение. В противном же случае я ограничусь тем, что предложу вашему величеству свою жизнь и жизнь доблестных моряков, которыми имею счастье командовать.
Король рад был бы поводу разгневаться, но перед лицом такой скромности и такой почтительности у него не оказалось для этого ни малейшего основания.
– Гм-гм! – буркнул он и, помолчав две-три секунды, сказал: – Ну что ж, адмирал, говорите.
Фердинанд уже обернулся к Караччоло, готовый выслушать его, но тут в дверях приемной появился лакей. Он подошел к королю и тихо шепнул ему несколько слов, которых Караччоло не слышал, да и не пытался услышать.
– Вот как? – удивился король. – И он здесь?
– Здесь, ваше величество. Он говорит, что третьего дня, в Казерте, ваше величество сказали ему, что вам надо с ним переговорить.
– Да, правда.
И, обращаясь к Караччоло, король спросил:
– То, что вы собираетесь сообщить мне, можно сказать при свидетеле?
– Хоть перед всем светом, государь.
– В таком случае просите, – сказал Фердинанд лакею и добавил, обращаясь к Караччоло: – Тем более что желающий войти – друг; более чем друг – союзник. Это прославленный адмирал Нельсон.
Дверь распахнулась, и лакей торжественно провозгласил:
– Лорд Горацио Нельсон Нильский, барон Бёрнем-Торпский, герцог Бронте!
При перечислении этих титулов по губам Караччоло скользнула легкая улыбка, не лишенная горечи.
Нельсон вошел; он не знал, кто находится у короля; устремив свой серый глаз на того, кто прежде его оказался в королевском кабинете, он узнал адмирала Караччоло.
– Представлять вас друг другу, господа, нет надобности, – сказал Фердинанд. – Вы знакомы.
– Со времени Тулона, государь, – заметил Нельсон.
– А я имею честь знать вас, сударь, с более ранних пор, – отвечал Караччоло с обычной изысканной учтивостью, – я знаю вас с того дня, когда вы у берегов Канады воевали на бриге с четырьмя французскими фрегатами и ускользнули от них, проведя свой корабль по проливу, который дотоле считался непроходимым. Это было, если не ошибаюсь, в тысяча семьсот восемьдесят шестом году, то есть двенадцать лет тому назад.
Нельсон поклонился. Суровому моряку тоже был непривычен такой слог.
– Милорд, – сказал король, – адмирал Караччоло пришел, чтобы посоветовать мне кое-что относительно положения, в каком мы оказались. Вам оно хорошо известно. Садитесь и послушайте, что скажет адмирал; когда он выскажется, вы ответите ему, если захотите что-нибудь возразить. Но предупреждаю заранее: я буду рад, если двое таких выдающихся и столь искушенных в военном искусстве мужей окажутся одного и того же мнения.
– Если милорд, в чем я не сомневаюсь, истинный друг королевства, – начал Караччоло, – я уверен, что в наших взглядах могут обнаружиться лишь мелкие расхождения, которые не помешают нам быть согласными в основном.
– Говори, Караччоло, говори, – сказал Фердинанд, возвращаясь к привычке испанских и неаполитанских королей обращаться к своим подданным на «ты».
– Вчера, – начал адмирал, – в городе стал распространяться – надеюсь, ложный – слух о том, что ваше величество, отчаявшись в возможности защитить королевство на материке, решили переехать на Сицилию.
– А ты, стало быть, иного мнения?
– Государь, – отвечал Караччоло, – я придерживаюсь и всегда буду придерживаться того мнения, которое ведет к чести, а не позору. Честь государства, ваше величество, и, следовательно, честь вашего имени требует, чтобы столица защищалась до последней возможности.
– А тебе известно, в каком мы положении? – перебил король.
– Знаю, государь, положение опасное. Но не безнадежное. Армия рассеяна, но не уничтожена; тысячи три-четыре убитых, шесть-восемь тысяч попавших в плен. Вычтите это число из пятидесяти двух тысяч – остается сорок тысяч, то есть армия, которая в четыре раза больше, чем у французов. Притом наша армия будет воевать на собственной земле, защищать неприступные ущелья, пользоваться поддержкой жителей двадцати городов и шестидесяти селений, помощью трех крепостей, которые нельзя взять, не располагая осадными приспособлениями, – Чивителла дель Тронто, Гаэта и Пескара, не считая Капуа, последнего рубежа, крайнего оплота Неаполя, до которого французы и не дойдут.
– А ты берешься собрать армию?
– Да, государь.
– Объясни же, как ты за это возьмешься. Буду очень рад.
– У меня под началом, государь, четыре тысячи моряков. Это люди проверенные, не чета новобранцам сухопутной армии. Дайте мне только приказ, и я немедленно пущу их в дело: тысяча воинов станет на защиту дороги из Итри в Сессу, тысяча – из Соры в Сан Джермано, еще тысяча приготовится защищать дорогу из Кастель ди Сангро в Изерниа; тысяча других – моряки ведь на все пригодны, милорду Нельсону это известно лучше, чем кому-либо: он не раз заставлял своих моряков творить чудеса! – итак, тысяча других превратится в саперов, займется укреплением этих трех перевалов и поможет артиллерии. С ними, даже если они будут вооружены всего лишь абордажными крюками, я сдержу натиск французов, как бы он ни был силен, а когда ваши солдаты увидят, как умирают моряки, они, государь, присоединятся к ним, особенно если ваше величество будет с ними, подобно знамени.
– А кто в это время станет охранять Неаполь?
– Наследный принц, ваше величество, и восемь тысяч солдат под командованием генерала Назелли, которых милорд Нельсон привез в Тоскану, где им уже нечего делать. Милорд Нельсон, если не ошибаюсь, оставил Часть своего флота в Ливорно; пусть он отправит быстроходный корабль с приказом вашего величества вернуть эти восемь тысяч свежих солдат, и они с Божьей помощью через неделю будут здесь. Итак, обратите внимание, государь, какое огромное воинство остается в вашем распоряжении: сорок пять – пятьдесят тысяч солдат, население тридцати городов и пятидесяти селений, готовое к восстанию, а позади всего этого – Неаполь с пятьюстами тысяч душ. Что станется с десятью тысячами французов, когда на них хлынет этот океан?
– Гм! – проронил Фердинанд, глядя на продолжавшего молчать Нельсона.
– Уехать, государь, вы всегда успеете, – продолжал Караччоло. – Поймите: у французов нет даже вооруженной лодки, а у вас в порту целых три флота: ваш собственный, португальский и флот его британского величества.
– Что скажете о предложении адмирала, милорд? – спросил король у Нельсона, лишая его возможности долее отмалчиваться.
– Я скажу, – ответил Нельсон, не вставая с места и продолжая левой рукой чертить пером на бумаге какие-то иероглифы, – скажу, что нет ничего хуже, как менять уже принятое решение.
– Разве король уже принял решение? – спросил Караччоло.
– Нет, видишь ли, решение еще не совсем принято. Я в нерешительности, я колеблюсь.
– Уезжать решила королева, – сказал Нельсон.
– Королева? – воскликнул Караччоло, не дав Фердинанду ответить. – Отлично. Пусть уезжает. В таких обстоятельствах женщинам позволительно удалиться от опасности, но мужчины обязаны встречать ее лицом к лицу.
– Видишь, Караччоло, милорд Нельсон склоняется к решению об отъезде.
– Простите, государь, – возразил Караччоло, – но мне кажется, милорд еще не высказал своего мнения.
– Скажите же, милорд. Прошу вас! – настаивал король.
– Мое мнение, государь, совпадает с мнением королевы, а именно – я буду счастлив, если ваше величество найдет на Сицилии верное убежище, каким уже не может служить вам Неаполь.
– Я умоляю милорда Нельсона взвесить свои слова, – сказал Караччоло, обращаясь к своему коллеге, – ибо он должен предвидеть, сколь авторитетно будет суждение такого заслуженного человека.
– Но я уже все сказал и от мнения своего не отрекусь, – твердо отвечал тот.
– Государь, – возразил Караччоло, – не забывайте, что милорд Нельсон – англичанин.