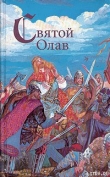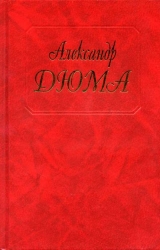
Текст книги "Сан Феличе Иллюстрации Е. Ганешиной"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 59 (всего у книги 141 страниц)
– Идет! – вскричал Микеле, теребя свой красный шерстяной колпак. – Согласен! Больше того: я за нее отвечаю!
– Особенно если я дам тебе в начальники твоего друга Сальвато, – сказал ему, понизив голос, главнокомандующий.
– Ах, генерал! Да я умру за него и за мою сестрицу!
– Ты слышишь, Сальвато, – сказал Шампионне молодому офицеру. – Поручение самое важное. Надо завербовать святого Януария в лагерь республиканцев.
– И это мне вы поручаете прицепить ему к уху трехцветную кокарду? – спросил, смеясь, молодой человек. – Не думаю, чтобы у меня было призвание к дипломатии. Но деваться некуда! Сделаю все что смогу!
– Перо, чернила и бумагу! – потребовал Шампионне.
Приказание поспешили исполнить, и через минуту он уже мог выбирать из десяти листов бумаги и стольких же перьев.
Не сходя с лошади, генерал пристроил бумагу на луке седла и написал письмо кардиналу-архиепископу:
«Ваше преосвященство!
Я утихомирил на время ярость моих солдат и их месть за совершенные преступления. Воспользуйтесь этой передышкой, чтобы открыть все церкви. Возложите на алтарь святые мощи и молитесь за мир, порядок и повиновение законам. На этих условиях я забуду прошлое и приложу все усилия, чтобы заставить уважать религию, людей и собственность.
Объявите народу, что, кем бы ни оказались те, против кого я вынужден буду принять самые суровые меры, я остановлю грабеж; мир и спокойствие воцарятся в этом несчастном городе, который жестоко предали и обманули. Но в то же время я заявляю, что, если из какого-нибудь окна последует хоть один выстрел, дом этот будет сожжен, а его обитатели расстреляны. Исполните же долг, к коему Вас обязывает Ваше звание, и тогда религиозное рвение Вашего преосвященства, надеюсь, послужит общему благу.
Посылаю Вам почетный караул для церкви святого Януария.
Шампионне.
Неаполь, 4 плювиоза VII года Республики
(23 января 1799 года)».
Микеле, вместе со всеми слушая чтение этого письма, искал глазами в толпе своего друга Пальюкеллу, но, не найдя его, выбрал четырех лаццарони, на которых мог положиться как на самого себя, и вместе с ними двинулся впереди Сальвато, за которым шагала гренадерская рота.
К архиепископскому собору, расположенному довольно близко от площади Пинье – места отправления маленького кортежа, – путь лежал через улицу Ортичелло, переулок Сан Джакомо деи Руффи и улицу Арчивесковадо, то есть самыми узкими и населенными улицами старого Неаполя. Французы пока не дошли до этой части города, где время от времени для поддержания духа еще трещали ружейные выстрелы черни и где республиканцы, проходя, могли прочесть на лицах горожан только три чувства: ужас, ненависть и оцепенение.
К счастью, Микеле, спасенный Пальмиери, помилованный Шампионне, видя себя уже в форме полковника, гарцующим на прекрасном коне, искренне и со всей пылкостью прямодушной натуры предался своим новым товарищам и, маршируя впереди них, кричал во всю глотку: «Да здравствуют французы!», «Да здравствует генерал Шампионне!», «Да здравствует святой Януарий!» Когда ему казалось, что лица встречных хмурятся, он бросал в воздух горсть карлино, которые передавал ему Сальвато, и разъяснял своим соотечественникам, с каким поручением явился сюда французский офицер. Как правило, это действовало благотворно, свирепые физиономии смягчались, и на них появлялось доброжелательное выражение.
Кроме того, Сальвато, родом из неаполитанской провинции, говорил на местном наречии как уроженец Бассо Порто, время от времени обращался к своим землякам со, словами, действие которых, подкрепленное пригоршнями карлино, оказывалось весьма благотворным.
Таким образом почетная стража достигла собора. Гренадеры выстроились под портиком. Микеле произнес длинную речь, чтобы объяснить соотечественникам свое присутствие здесь; он добавил, что офицер, который командовал гренадерами, спас ему жизнь в ту минуту, когда его собирались расстрелять, и теперь он просит неаполитанцев во имя дружбы к нему, Микеле, чтобы ни одно оскорбление не было нанесено ни Сальвато, ни его гренадерам, ставшим сейчас защитниками святого Януария.
XCIII
В ПРЕДДВЕРИИ ИСПЫТАНИЯ
Едва Микеле, Сальвато и его гренадеры исчезли за углом улицы Ортичелло, как Шампионне пришла в голову одна из тех мыслей, что рождаются в минуты озарения. Он решил, что лучшее средство расстроить ряды лаццарони, все еще продолжавших упорно сопротивляться, и прекратить грабеж одиночек – это отдать королевский дворец на всеобщее разграбление.
Он поспешил сообщить эту мысль нескольким пленным лаццарони, которым возвратили свободу при условии, что они вернутся к своим и заставят их принять участие в этом проекте, якобы исходящем от них самих. Для лаццарони это был способ вознаградить себя за усталость и пролитую кровь.
Сообщение это имело именно то действие, на какое рассчитывал Шампионне. Самые ожесточенные, видя, что город на три четверти взят, потеряли надежду на победу и поэтому сочли более выгодным заняться грабежом, нежели продолжать сражаться.
И действительно, как только разрешение грабить королевский дворец достигло слуха лаццарони, для которых не осталось тайной, что оно исходит от французского генерала, как вся эта толпа рассеялась, устремившись через улицы Толедо и Трибунали к королевскому дворцу, увлекая за собою женщин и детей, опрокидывая часовых, выламывая двери, чтобы, как поток, наводнить собою четыре этажа дворца.
Меньше чем за три часа оттуда было унесено все, вплоть до свинцовых переплетов с окон.
Пальюкелла, которого Микеле тщетно искал на площади Пинье, чтобы сообщить о своей удаче, был одним из первых, кто кинулся ко дворцу и осмотрел его с любопытством и не без выгоды для себя от подвала до чердака и от фасада, смотрящего на церковь святого Фердинанда, до фасада, выходящего на Дарсену.
Фра Пачифико, напротив, видя, что все погибло, с презрением отвернулся от вознаграждения, предложенного его униженному мужеству, и с бескорыстием, делавшим честь давним урокам дисциплины, полученным им на фрегате адмирала Караччоло, отступая шаг за шагом, бился как лев лицом к лицу с врагом, пока не укрылся в своем монастыре, пройдя через Инфраскату и подъем Капуцинов; закрыв за собою ворота монастыря, он поставил осла в конюшню, дубинку бросил в сарай и смешался с толпой братьев, певших в церкви «Dies illa, dies irae» [112]112
«День сей, день гнева» (лат.).
[Закрыть].
Нужно было обладать немалой долей проницательности, чтобы искать в монастыре и распознать под монашеской рясой одного из вождей лаццарони, дравшегося с французами в течение трех дней осады Неаполя.
Николино Караччоло с высоты крепостных стен замка Сант’Эльмо следил за ходом сражений 21, 22 и 23 января и, как мы видели, в ту минуту, когда смог прийти на помощь французам, выполнил свои обязательства по отношению к ним.
Велико же было его удивление, когда он увидел, что лаццарони, хотя никто и не думал их преследовать, поспешно покинули свои посты, сохранив оружие, и не то чтобы стали пятиться к дворцу, но, напротив, ринулись туда.
Через мгновение все ему стало ясно: по той поспешности, с какой они опрокидывали часовых, врывались в двери, мелькали в окнах и на всех этажах, выскакивали на балконы, он понял, что в часы затишья, чтобы не терять время, сражавшиеся превратились в грабителей, и, так как он не знал, что разграбление дворца совершалось по инициативе французского генерала, он послал в этот сброд три пушечных ядра, которые смяли семнадцать человек, среди них одного священника, и откололи ногу мраморного великана, древнего изваяния Юпитера Статора, украшавшего Дворцовую площадь.
В какой мере жажда грабежа овладела толпой и заглушила в ней всякое другое чувство? Мы приведем сейчас два факта, взятые из тысячи подобных; они дадут представление о переменчивости настроений этого народа, который только что проявил чудеса мужества, защищая своего короля.
Адъютант Вильнёв, продолжая удерживать Кастель Нуово, послал лейтенанта во главе патрульного отряда из пятидесяти человек с приказом пробиться сквозь эту обезумевшую от грабежа толпу и добраться до улицы Толедо, чтобы установить связь с французскими аванпостами. Лейтенант позаботился о том, чтобы впереди отряда шло несколько патриотов-лаццарони, которые время от времени восклицали: «Да здравствуют французы! Да здравствует свобода!» На эти крики моряк из Санта Лючии, ярый сторонник Бурбонов – моряки из Санта Лючии до сих пор сплошь приверженцы Бурбонов, – принялся кричать: «Да здравствует король!» Так как этот крик мог иметь нежелательный отклик и побудить толпу к расправе со всем отрядом, лейтенант схватил моряка за воротник, и держа его на расстоянии вытянутой руки, крикнул: «Огонь!»
Моряк упал, расстрелянный в самой гуще толпы, но лаццарони, поглощенные сейчас другими заботами, не думали ни о его защите, ни о мести.
Второй случай был с дворцовым слугой: не подумав, он вышел из дворца в ливрее, обшитой золотым галуном; народ тотчас же сорвал с него ливрею и разорвал на куски, чтобы потом снять с нее золото, хотя эта ливрея и принадлежала королю.
В ту самую минуту, когда со слуги короля Фердинанда стаскивали ливрею, чтобы ободрать золотой галун, генерал Келлерман, спустившись со своим отрядом в две-три сотни людей со стороны Мерджеллины, вышел через Санта Лючию на Дворцовую площадь.
Но перед тем, как прибыть сюда, он остановился перед церковью Санта Мария ди Порто Сальво и объявил, что желает видеть дона Микеланджело Чикконе.
Это был, напомним, тот самый священник-патриот, за которым послал Чириллло, чтобы тот дал последнее причастие сбиру, раненному Сальвато в ночь с 22 на 23 сентября и умершему утром 23-го в угловом доме у Львиного фонтана, куда его перенесли. У Келлермана было письмо Чирилло, который, обращаясь к патриотизму достойного священнослужителя, призывал его присоединиться к французам.
Дон Микеланджело Чикконе не колебался ни минуты: он тотчас последовал за Келлерманом.
В полдень лаццарони сложили оружие и Шампионне въехал в город как победитель. Негоцианты, буржуа, вся мирная часть населения, не принимавшая участия в боях, не слыша больше ни ружейных выстрелов, ни стонов умирающих, начала робко отворять двери и окна лавок и домов. Один вид генерала уже обещал спокойствие: он ехал в окружении людей, дарования, ученость и мужество которых завоевали уважение всего Неаполя. Это были: Баффи, Покрио, Пагано, Куоко, Логотета, Карло Лауберг, Бассаль, Фазуло, Молитерно, Роккаромана, Этторе Карафа, Чирилло, Мантонне, Скипани. День воздаяния настал, наконец, для всех этих людей, которые прошли путь от деспотизма к гонениям и от гонений к свободе. Генерал, заметив, как одна из дверей отворяется, приблизился к ней и попытался уверить тех, кто отважился выйти на порог (он говорил по-итальянски), что все беды кончены, а его цель – принести им мир, положить конец войне и заменить тиранию свободой. Бросив взгляд на дорогу, которой проехал генерал, и убедившись, что спокойствие воцарилось там, где минуту назад французы и лаццарони дрались не на жизнь, а на смерть, неаполитанцы окончательно успокоились, и все это население di mezzo ceto – иными словами, буржуазия, составлявшая силу и богатство Неаполя, – украсив себя трехцветными кокардами за ухом, с криками «Да здравствуют французы!», «Да здравствует свобода!», «Да здравствует Республика!» стало весело заполнять улицы, махая платками; и по мере того как толпа успокаивалась, она дала волю той пылкой радости, которая овладевает людьми, уже погружавшимися в мрачную бездну смерти и вдруг, каким-то чудом, снова вернувшимися к жизни и свету.
И в самом деле, если бы французы помедлили войти в Неаполь еще сутки, кто знает, что случилось бы с оставшимися в живых патриотами и с уцелевшими домами!
В два часа пополудни Роккаромана и Молитерно, утвержденные в звании народных вождей, издали указ об открытии лавок.
Этот указ был помечен вторым днем I года Партенопейской республики.
Шампионне с тревогой заметил, что к нему присоединились только буржуазия и знать, а народ держится в стороне. Тогда он решился на отчаянное предприятие, назначив его на следующий день.
Главнокомандующий прекрасно знал, что, если бы только ему удалось заполучить в свой лагерь святого Януария, весь неаполитанский народ последовал бы за ним.
Он отправил Сальвато, который охранял кафедральный собор – иными словами, самый важный пункт города, – письмо с распоряжением ни в коем случае не покидать свой пост иначе как по приказу самого генерала.
Послание, отправленное Сальвато, предписывало ему свидеться с канониками и просить их на следующий день вынести народу на поклонение святой сосуд в надежде, что святой Януарий, которого французы глубоко чтили, соблаговолит сотворить чудо в их пользу.
Каноники находились меж двух огней.
Если бы святой Януарий сотворил чудо, они были бы опорочены перед королевским двором.
Если бы не сотворил, они навлекли бы на себя гнев французского генерала.
Каноники прибегли к уловке и ответили, что сейчас не та пора, когда святой Януарий имеет обыкновение совершать свое чудо и они сильно сомневаются, чтобы прославленный блаженный согласился даже ради французов изменить свою привычную дату.
Сальвато передал через Микеле ответ каноников генералу Шампионне.
Но тот в свою очередь ответил, что это дело святого, а не их, что они никак не могут предугадать добрые или дурные намерения святого Януария, а он знает одного священника, к кому, как ему кажется, святой Януарий не останется безучастным.
Каноники передали, что, раз Шампионне непременно этого желает, они вынесут сосуды, но сами ни за что не отвечают.
Едва получив это согласие, генерал велел оповестить население города, что на следующий день в соборе будут выставлены святые сосуды и ровно в половине одиннадцатого утра совершится разжижение драгоценной крови.
Это было известие странное и уж совсем невероятное для неаполитанцев. Святой Януарий никогда еще не делал ничего, что бы заставило подозревать его в содействии французам. Хотя с некоторых пор он вел себя чрезвычайно капризно. Так, перед началом Римской кампании, накануне своего отъезда Фердинанд собственной персоной явился в собор, чтобы испросить у него поддержку и покровительство, но святой Януарий, несмотря на неотступные просьбы короля, заупрямился и отказался разжижить свою кровь; это предвещало гибель многих.
Если же теперь святой сделает для французов то, в чем он отказал неаполитанскому королю, это будет означать, что убеждения его изменились и что Януарий стал якобинцем.
В четыре часа пополудни Шампионне, видя, что в городе восстановилось спокойствие, сел на коня и попросил проводить себя к могиле другого покровителя Неаполя, к которому он питал уважение гораздо большее, чем к святому Януарию.
Это была могила Публия Вергилия Марона, вернее, остатки гробницы, заключающей в себе, по словам археологов, прах автора «Энеиды».
Известно, что, возвращаясь из Афин, куда он сопровождал Августа, Вергилий умер в Бриндизи: прах его был перевезен на столь любимый поэтом холм Позиллипо, откуда он любовался местами, которые обессмертил в шестой книге «Энеиды».
Шампионне спешился перед монументом, воздвигнутым попечением Саннадзаро, и поднялся на крутой холм, ведущий к небольшой ротонде, на которую обычно указывают путешественнику как на колумбарий, где помещалась урна с прахом поэта. В центре монумента рос дикий лавр, которому предание приписывало бессмертие. Шампионне отломил от него веточку и воткнул ее за шнур своей шляпы; сопровождавшим его он разрешил сорвать каждому только по одному листочку, боясь, как бы более обильная жатва не принесла вреда дереву Аполлона и почитание не обернулось бы в конечном счете оскорблением святыни.
Затем, постояв несколько минут в мечтательном раздумье на этих священных камнях, генерал потребовал карандаш и, вырвав страницу из своей записной книжки, написал следующий декрет, который был отправлен в тот же вечер в типографию и появился утром на следующий день.
«Главнокомандующий Шампионне,
считая, что первый долг Республики чтить память великих людей и побуждать таким образом граждан к подражанию возвышенным примерам, для чего подобает увековечивать славу гениев всех времен и всех народов, которая следует за ними и после их смерти,
постановляет:
1) воздвигнуть Вергилию мраморную гробницу на том месте, где находится его могила, возле грота Поццуоли;
2) министру внутренних дел объявить конкурс, на который будут допущены все проекты памятников, представленные художниками; конкурс будет длиться двадцать дней;
3) по истечении этого срока комиссия из трех членов, назначенных министром внутренних дел, выберет из представленных проектов тот, который сочтет наилучшим, и курия займется установкой памятника, поручив это тому художнику, чей проект будет принят.
Исполнение настоящего приказа поручается министру внутренних дел.
Шампионне».
Любопытно, что установление памятников Вергилию в Мантуе и в Неаполе было декретировано двумя французскими генералами: в Мантуе – Миоллисом, в Неаполе – Шампионне.
С тех пор прошло шестьдесят пять лет, но еще и первый камень памятника в Неаполе не заложен.
XCIV
ЧИТАТЕЛЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ДОМ-ПОД-ПАЛЬМОЙ
Необходимость неотступно следовать за политическими и военными событиями, в результате которых Неаполь попал под власть французов, заставила нас удалиться от романтической части нашего повествования, оставив в стороне персонажей пассивных, подчинявшихся обстоятельствам, чтобы, напротив, заняться персонажами деятельными, которые этими обстоятельствами управляли. Теперь, когда мы воздали должное всем эпизодическим лицам этой истории, да будет нам позволено вернуться к главным героям, на которых должен сосредоточиться основной интерес нашей книги.
Среди этих персонажей, которых читатель считает, быть может, несправедливо забытыми, прежде всего надо упомянуть бедную Луизу Сан Феличе, которую мы, наперекор возможным нареканиям, не теряли из вида ни на мгновение.
Оставшись без чувств на руках своего молочного брата Микеле на набережной Витториа, тогда как ее муж, верный своей службе принцу и обещаниям, данным когда-то умирающему другу, с риском для жизни последовал за герцогом Калабрийским, оставив нашу героиню в Неаполе с риском для своего счастья, Луиза, перенесенная в карету, была доставлена обратно в Дом-под-пальмой, к великому удивлению Джованнины.
Микеле, не знавший истинных причин этого удивления, которому нахмуренные брови и почти угрожающий взгляд придавали совсем особый характер, рассказал о том, что произошло на набережной Витториа.
Луизу уложили в постель в сильнейшей лихорадке. Микеле провел в доме целую ночь и, так как к утру состояние больной нисколько не улучшилось, побежал за доктором Чирилло.
В это время почтальон принес письмо, адресованное Луизе. Нина узнала штемпель Портичи. Она заметила, что всякий раз, когда приносили письмо с таким штемпелем, ее госпожу охватывало сильное волнение; она уходила с письмом в комнату Сальвато, закрывалась там и выходила всегда с красными от слез глазами.
Джованнина поняла, что оно от Сальвато, и на всякий случай, еще не зная, удастся ли ей прочесть его, спрятала письмо, решив, что, если его у нее потребуют, нетрудно будет объяснить: она не передала его раньше из-за тяжелого состояния, в котором находилась тогда Луиза.
Чирилло поспешил прийти на зов. Он считал, что Луиза уехала; но, выслушав простодушный рассказ Микеле, который привез ее обратно, понял все.
Мы уже говорили о том, что добрый доктор испытывал к Луизе отеческую нежность. Он нашел у нее все симптомы воспаления мозга, и, не задавая вопросов, которые могли бы только усилить нравственные страдания пациентки, занялся излечением ее физического недуга.
Слишком искусный, чтобы не справиться с известной ему болезнью, к тому же распознанной в самом начале, он повел с ней энергичную борьбу, и к концу третьих суток Луиза была если не вполне исцелена, то, по крайней мере, вне опасности.
На четвертый день дверь отворилась и в комнату вошла особа, при виде которой Луиза радостно вскрикнула и протянула к ней руки. Это была ее задушевная подруга, герцогиня Фуско. Как и предсказывал кавалер Сан Феличе, после отъезда королевы опальная герцогиня вернулась в Неаполь. За несколько минут она уже успела разузнать обо всех событиях. В течение трех месяцев Луиза была вынуждена скрывать все в своем сердце. За четыре последних дня оно настолько переполнилось, что, вопреки максиме одного великого моралиста, будто мужчины лучше хранят чужие тайны, а женщины – свои, через четверть часа у Луизы уже не было секретов от подруги.
Нет нужды говорить, что дверь, соединяющая их покои, открывалась как никогда часто и что в любой час дня и ночи Луиза имела доступ в заветную комнату.
В тот день, когда Луиза встала с постели, она получила еще одно послание из Портичи. Джованнина видела, с каким волнением ее госпожа взяла письмо. Она ждала, что скажет Луиза после его прочтения. Если бы в этом письме было упоминание о предыдущем и Луиза о нем спросила, Джованнина поискала бы письмо и вернула его нераспечатанным, объяснив свою забывчивость хлопотами, вызванными болезнью госпожи. Однако если Луиза его не потребует, то Джованнина сохранит письмо на всякий случай, в помощь тому мрачному замыслу, который еще не созрел, но зерно которого уже зародилось в ее мозгу.
События между тем шли своим чередом. Они известны: мы уже подробно рассказали о них. Герцогиня Фуско, принадлежавшая к партии патриотов, возобновила свои приемы и принимала в своем салоне всех выдающихся патриотов-мужчин и знаменитых женщин. В числе последних была Элеонора Фонсека Пиментель, с которой нам вскоре предстоит встретиться; женственная душой, она обладала мужеством мужчины и принимала участие в политических делах своей родины.
Эти политические события приобрели сейчас для Луизы, которая до сего времени никогда ими не интересовалась, первостепенное значение. Так что, сколь хорошо ни были осведомлены завсегдатаи салона герцогини Фуско, существовало одно обстоятельство, о котором Луиза была осведомлена лучше всех: о приближении французов к Неаполю. И действительно, каждые три или четыре дня она получала письма от Сальвато и из них точно узнавала, где находятся республиканцы.
Она получила также два письма от кавалера Сан Феличе. В первом, сообщая о своем благополучном прибытии в порт Палермо, он выражал сожаление, что бурное море помешало ему взять ее с собой; но он ни словом не обмолвился о какой-либо иной помехе и о том, чтобы она приехала к нему. Письмо было спокойное и, как всегда, по-отечески нежное. Вероятно, кавалер не слышал последнего, отчаянного крика Луизы.
Второе послание содержало рассказ о положении двора в Палермо, подробности, которые читатель узнает впоследствии из нашего повествования. Но еще меньше, чем в первом, в этом письме выражалось желание, чтобы она покинула Неаполь. Напротив, в нем давались советы, как ей вести себя среди политических потрясений, неизбежных в ближайшее время в столице, и сообщалось, что этой же почтой дом Беккеров получит уведомление о передаче в распоряжение Луизы Сан Феличе суммы, которая ей может понадобиться.
Вскоре с письмом кавалера в руках в Дом-под-пальмой явился Андреа Беккер, которого Луиза не видела со дня его посещения Казерты.
Луиза встретила его с присущей ей спокойной доброжелательностью, поблагодарила за такую любезную обязательность, но предупредила, что, живя в полном уединении, в отсутствие мужа она решила не принимать ничьих визитов. Если случится, что ей понадобятся деньги, она сама придет в банк или пошлет за ними Микеле с распиской.
Это был отказ по всей форме. Андреа понял это и со вздохом удалился.
Луиза проводила его до подъезда и сказала Джованнине, которая пришла закрыть за гостем дверь:
– Если когда-нибудь господин Андреа Беккер явится к нам и спросит меня, скажите ему, что меня нет дома.
Известна фамильярность, с какой неаполитанские слуги относятся к своим хозяевам.
– Ах, Боже мой! – воскликнула Джованнина. – Чем только такой красивый молодой человек мог прогневить госпожу?
– Он ничем меня не прогневил, – холодно ответила Луиза. – Но пока мужа нет дома, я не буду принимать никого.
Джованнина, которую не переставала терзать ревность, чуть не возразила: «За исключением господина Сальвато», – но вовремя удержалась, и двусмысленная улыбка была ее единственным ответом.
Последнее письмо, которое Луиза получила от Сальвато, было из Беневенто; помеченное 19 января, оно пришло 20-го.
Весь день 20 января Неаполь провел в тоскливом ожидании, но тоска Луизы была особенно мучительной. От Микеле она знала о грозных приготовлениях к обороне; от Сальвато ей было известно, что французский главнокомандующий поклялся взять город любой ценой.
Сальвато умолял Луизу, если будут бомбардировать Неаполь, спуститься в самые глубокие подвалы дома, чтобы найти там убежище.
Эта опасность могла возникнуть главным образом в том случае, если замок Сант’Эльмо, вопреки обещаниям, будет сражаться против французов и патриотов. Утром 21 января лихорадочное волнение охватило Неаполь. Замок Сант’Эльмо, как мы помним, поднял трехцветное знамя; итак, он сдержал обещание и выступил на стороне патриотов и французов.
Луиза почувствовала радость, но не за патриотов и не за французов – у нее никогда не было никаких политических предпочтений, – однако ей казалось, что эта поддержка, оказанная французам и патриотам, уменьшит опасность, грозящую ее возлюбленному, ибо, будучи патриотом в душе, Сальвато стал французом по убеждению.
В тот же день к ней пришел Микеле. Один из народных вождей, решившийся бороться до конца задело, не вполне ему понятное, он, тем не менее, был предан ему всей душой: то было дело его среды, к тому же он был захвачен общим вихрем. Микеле пришел проститься с Луизой на случай несчастья и поручить ее заботам свою мать.
Луиза горько плакала, прощаясь со своим молочным братом, но оплакивала не только Микеле: добрую половину слез она пролила, страшась опасностей, которые подстерегали Сальвато.
Микеле, сам то плача, то смеясь и относя все слезы Луизы на свой счет, старался успокоить ее в отношении своей судьбы, напомнив ей предсказание Нанно. Ведь, по словам албанской колдуньи, Микеле должен был умереть полковником и на виселице. А он всего лишь капитан, и если ему и угрожает гибель, то от ножа или пули, но никак не от веревки.
В самом деле, если предсказание Нанно сбудется для Микеле, оно должно будет сбыться и для Луизы, и если Микеле умрет на виселице, Луизе суждено умереть на эшафоте.
Альтернатива была неутешительной.
Молодые люди расстались.
В ту минуту, когда Микеле уже уходил, рука Луизы задержала его, и слова, которые давно уже просились на ее уста, наконец сорвались:
– Если ты встретишь Сальвато…
– О сестрица! – вскричал Микеле.
Оба они прекрасно поняли друг друга.
Через час после того, как они расстались, послышались первые пушечные залпы.
Большая часть неаполитанских патриотов, те, кто из-за преклонного возраста или мирных занятий не призывались к оружию, собрались у герцогини Фуско. В ее салон каждый час приходили известия о боях. Но для Луизы эти известия значили слишком много, чтобы ожидать их в гостиной, в обществе тех, кто собирался обычно у герцогини. В одиночестве она молилась, стоя на коленях перед распятием в комнате Сальвато.
Каждый пушечный залп отзывался в ее сердце. Время от времени герцогиня Фуско приходила к своей подруге и сообщала ей сведения о продвижении французов, но в то же время с патриотической гордостью рассказывала о чудесах мужества, проявляемых лаццарони при защите города.
Луиза отвечала стоном. Ей казалось, что каждое ядро, каждая пуля угрожали сердцу любимого. Неужели эта ужасная борьба будет длиться вечно? Во время ночей 21 и 22 января Луиза, не раздеваясь, лежала на постели Сальвато. Несколько раз поднималась тревога, вызванная криками лаццарони: положение герцогини как сторонницы патриотов было небезопасно. Но Луизу не занимало ничто из того, что беспокоило других: она думала только о Сальвато, тревожилась только о нем.
Утром третьего дня осады стрельба прекратилась. Пришла весть, что французы одержали победу на всех направлениях; но они еще не стали хозяевами города.
Чем же закончилось это кровавое побоище? Жив ли Сальвато?
После трех пушечных выстрелов с высоты замка Сант’Эльмо по грабителям королевского дворца шум битвы совсем утих.
Она скоро увидит Микеле или Сальвато, если не случилось беды, и Микеле, очевидно, первого, потому что он может прийти в любой час дня повидать ее, тогда как Сальвато, не зная, что она одна, едва ли осмелится явиться к ней иначе, чем ночью и условленным путем.
Луиза стояла у окна, устремив взгляд в сторону Кьяйи: отсюда она ожидала вестей.
Часы проходили. Она видела, как сдали город, слышала приветственные крики толпы, сопровождавшей Шампионне к могиле Вергилия, узнала, что на следующий день ожидается чудо с благословенной кровью святого Януария, но все это прошло мимо ее сознания, как призраки проходят мимо изголовья спящего.
Все это не имело никакого отношения к тому, чего она ждала, чего хотела, на что надеялась.
Но оставим нашу героиню у окна, сами же вернемся в город и станем свидетелями страданий другой души, не менее взволнованной, чем душа Луизы.
О ком мы собираемся говорить, догадаться нетрудно.
Если только нам удался внешний и нравственный портрет Сальвато, то наши читатели понимают, с каким пылким нетерпением молодой офицер жаждал встречи с Луизой и как долг солдата при всех обстоятельствах брал верх над желанием влюбленного. Итак, он действовал отдельно от всей армии; итак, он был удален от Неаполя; итак, он принял это без единой жалобы, без малейшего возражения, хотя прекрасно знал, что достаточно было бы одного слова о магните, притягивающем его в Неаполь, и Шампионне, который испытывал к нему нежность, смешанную с восхищением, быть может самую глубокую из всех видов нежности, тотчас послал бы его вперед и предоставил ему все возможности первым войти в столицу.
В ту минуту, когда, примчавшись на площадь Пинье как раз вовремя, чтобы спасти жизнь Микеле, он прижимал молодого лаццароне к груди, его сердце билось двойной радостью – прежде всего потому, что он мог в полной мере расплатиться за услугу, которую тот ему оказал, но еще и потому, что, оставшись с ним наедине, он мог получить вести о Луизе и побыть в обществе друга, с кем можно говорить о ней.
Но и на этот раз он ошибся в ожиданиях. Живое воображение Шампионне сразу увидело в дружбе лаццароне и Сальвато нечто, из чего можно извлечь пользу. Зерно зародившейся в нем идеи – заставить святого Януария совершить чудо – мгновенно укоренилось в его сознании, и он решил поручить Сальвато охрану собора и назначить Микеле сопровождающим почетной стражи.