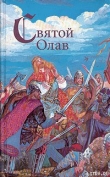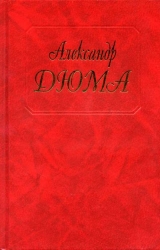
Текст книги "Сан Феличе Иллюстрации Е. Ганешиной"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 70 (всего у книги 141 страниц)
CXII
МИКЕЛЕ-ДУРАЧОК ЗАНИМАЕТСЯ ПРОПАГАНДОЙ
В Неаполе нетрудно найти карету, и как раз потому, что там нет никакой сложившейся государственной службы передвижения.
Если нужно, например, ехать в Салерно и ветер тому благоприятствует, то на лодке пересекают залив, берут в Кастелламмаре экипаж и через три с половиной – четыре часа приезжают в Салерно.
Если же ветер встречный, то берут карету на первом же углу, на ближайшем перекрестке или площади, огибают залив, следуя через Портичи, Резину, Торре дель Греко, углубляются в горы через Каву и достигают Салерно приблизительно за то же время.
Только на набережной Микеле осведомился о цели поездки и, узнав, что этой целью является Салерно, спросил у своей молочной сестры, каким путем она предпочитает ехать.
– Самым быстрым, – ответила Луиза.
Микеле посмотрел на горизонт: он был чист и обещал великолепный денек. В Неаполе весна начинается в январе и прекрасные дни приходят вместе с ней. Веселый ветерок дул с моря и слегка морщил поверхность залива, по которому скользили стаи баланселл, тартан, фелук; их назначение узнавали по величине, а принадлежность к той или иной стране – по контуру или парусам. Микеле предложил Луизе морской путь, и она тотчас согласилась.
Он спустился на набережную Мерджеллины и, справившись о цене, нанял за два пиастра лодку на сутки.
Если вести лодку на веслах, это бы обошлось в два раза дороже, но можно было идти под парусом, и в таком случае лодка стоила два пиастра.
Луиза, завернувшись в дорожный плащ с капюшоном, скрывавшим ее лицо, спустилась в лодку; Микеле устроил для нее сиденье, сложив вчетверо свой плащ.
Маленький треугольный парус был поставлен по ветру, и лодка, белая и грациозная, как раскинувшая крылья чайка, понеслась вперед.
Миновали Кастель делл’Ово, над которым реяло трехцветное французское знамя рядом с трехцветным неаполитанским, и поплыли через залив наискось, так что струя за кормою чертила след, подобный тетиве лука.
Два гребца узнали Микеле. Несмотря на его великолепную форму или, может быть, как раз благодаря ей, завязался оживленный разговор о событиях дня.
Микеле был одним из самых усердных прихожан Микеланджело Чикконе, того славного священника-патриота, который, будучи вызван Чирилло, присутствовал при последних минутах жизни сбира, раненного Сальвато.
Он перевел Евангелие на неаполитанское наречие и объяснял своей пастве эту книгу, источник всей человеческой морали, совершенно неизвестный неаполитанскому простонародью.
Гибкий и податливый ум молодого лаццароне быстро впитал в себя демократический дух великой книги; новообращенный революции, он никогда не упускал случая привлечь на ее сторону и других.
Поэтому, как только лодка тронулась и оба моряка, бросив беспечный взгляд на горизонт, предоставили ее на волю северо-западного ветра, Микеле, потирая руки, повел с ними такую беседу:
– Ну как, друзья мои, надеюсь, вы теперь довольны?
– Чем довольны? – буркнул старший из гребцов, казалось отнюдь не разделявший радостного настроения Микеле.
– Да тем, уж конечно, что можете теперь ловить без помехи рыбу во всем заливе от Позиллипо до мыса Кампанеллы. Тиран больше не запретит вам.
– Какой тиран? – спросил все тот же гребец.
– Как это какой? Фердинанд, конечно!
– Совсем он не тиран, потому что каждый ловит рыбу у себя, – возразил младший гребец, который, по-видимому, был всецело на стороне старшего товарища. – Вот он и запрещает ловить здесь другим.
– Послушай! Ты считаешь, что море собственность короля?
– А то чья же?
– Ну, а я так утверждаю, что море наше. Твое, мое, всех и каждого!
– Это что-то чудно́е!
– Пусть. А доказательство тому…
– Что ж! Выкладывай свое доказательство!
– Слушайте хорошенько.
– Ну, слушаем.
– Земля принадлежит богатым.
– Ты с этим согласен?
– Да. И вот доказательство, что она принадлежит им и у них есть на нее право: ведь земля-то между ними поделена стенами, заборами, рвами, какими ни на есть границами, тогда как море… Ну покажите мне, сделайте милость, границы, рвы, заборы и стены, которые делят море!
Один из гребцов попытался возразить ему.
– Постой, – прервал его Микеле, – я еще не кончил. Чтобы земля дала урожай, ее нужно возделать и засеять. А море возделывается и засевается само собой. Мы только собираем жатву – камбалу, триглу, лобанов, миног, мурен, скатов, омаров, тюрбо, лангустов, и запас этот все время пополняется: жатвы следуют за жатвами – никому нет нужды утучнять да поливать море. Вот это и заставляет меня говорить, что земля принадлежит богатым, а море – беднякам и Богу. Надо быть тираном, и тираном жестоким, чтобы лишить бедных того, что дал им Господь. Евангелие учит: «Кто дает бедным, ссужает Бога».
– Хм-хм! – хмыкнул наиболее разговорчивый из двух гребцов, на минуту придя в затруднение.
– Ну, что ты мне ответишь на это? – спросил Микеле, заранее чувствуя себя победителем.
– Что ж, и отвечу.
– Давай же, отвечай.
– Я отвечу, что у короля есть охотничий дворец в Мерджеллине…
– Да, он еще там рыбу продавал.
– Дворец в Неаполе, замок в Портичи, вилла в Фаворите, и все это на берегу залива.
– Ну и что с того?
– А то, что если не море, то залив принадлежит королю.
– Верно, – поддержал второй гребец, ободренный доводами товарища, – разве у нас есть дворцы на берегу залива? Да и сам ты с твоими красивыми одеждами, разве ты их имеешь? Отвечай.
– А как, по-твоему, – не сдавался Микеле, – почему он не построил большую стену от вершины Позиллипо до мыса Кампанелла с воротами, чтобы пропускать лодки и суда?
– Он достаточно богат для того, чтобы построить, если бы пожелал.
– Да, но недостаточно могуществен. В первую же бурю Господь Бог дунет на эти стены, и они падут, как стены Иерихона.
– А теперь ты скажи, почему, когда французы стали хозяевами Неаполя и должно было наступить благоденствие, хлеб и макароны держатся все в той же цене, что и при тиране?
– Это верно. Но муниципалитет составил указ, по которому начиная с пятнадцатого февраля цены на хлеб и макароны снизятся по сравнению с прежними.
– Почему с пятнадцатого февраля, а не сейчас?
– Так ведь тиран продал своим друзьям-англичанам все груженные зерном корабли, которые идут из Апулии и Берберии! Надо дать время подойти другим судам. А что мы должны делать пока, поджидая их? Ненавидеть его, бороться с ним: лучше умереть, чем опять попасть под его иго. А французы – разве они не сделали все что могли? Не уничтожили привилегии рыбной ловли? Разве теперь каждый лаццароне не может ловить рыбу там же, где было заповедное место короля?
– Да, это верно.
– Сейчас-то у вас рыбы сколько душе угодно?
– И то сказать, что он себе всегда самую дорогую и лучшую рыбу выбирал.
– Разве французы не уничтожили налог на соль?
– Да, это так.
– И на оливковое масло?
– Твоя правда.
– И на сушеную рыбу?
– Верно. А вот зачем они уничтожили титул «превосходительство»? Что им сделало это несчастное «превосходительство»? Уж оно-то ничего никому не стоило!
– Это для равенства.
– А что такое равенство? Разве нам это известно?
– В том-то и штука, что неизвестно. Раньше были князья, высочества, превосходительства, господа и лаццарони, а сегодня есть только граждане. Ты гражданин, так же как князь Молитерно, как герцог Роккаромана, как министры, как мэр, как городские советники!
– А что мне это дает?
– Что дает?
– Да, я тебя спрашиваю: что мне это дает?
– Посмотри на меня.
– Ну, смотрю.
– Как я одет? Так же, как ты?
– Мне до тебя далеко.
– Вот то-то же! В этом и состоит равенство, Джамбарделла! Можно быть лаццароне и стать полковником… Прежде синьоры становились полковниками еще в утробе матери. Вот ты, например. Разве ты родился на свет с дворянской грамотой в кармане и с галунами на рукавах? Видал ты когда-нибудь, чтобы наши женщины рожали таких парней? Нет. Такими рождаются только знатные. А вот я – полковник! Благодаря чему? Благодаря равенству. При равенстве ты можешь стать лейтенантом флота, твой сын – капитаном, а внук – адмиралом!
Джамбарделла в сомнении покачал головой:
– Нужно время, чтобы все это пришло.
– Правильно! – ответил Микеле. – Нельзя все требовать сразу. Сам Господь Бог, который всемогущ, сотворил мир за семь дней. Сегодняшнее правительство, как говорят, временное. Это еще не республика. Конституция, которая должна дать нам счастье, сейчас обсуждается. Вот когда она будет создана, мы сможем по нашей хорошей или плохой жизни сравнить настоящее с прошлым. Ученые люди, такие, как кавалер Сан Феличе, доктор Чирилло, синьор Сальвато, знают, отчего происходит смена времен года; мы же, все прочие, простофили, замечаем только, что нам тепло или холодно. Мы многого натерпелись при тиране и по милости Божьей пережили все: войну, чуму, голод, не считая землетрясений. Ученые говорят, что мы будем счастливо жить при республике. Они объединяются и работают для нашего блага; дадим же им время закончить их работу.
И он прибавил наставительно:
– Тот, кто хочет быстро собрать урожай, сеет редиску и к концу месяца уже ест ее; но тот, кто хочет вырастить хлеб, сеет пшеницу и ждет год. И так же с республикой: республика – хлеб народа. Будем ждать терпеливо, пока он растет, а когда созреет – пожнем его.
– Аминь! – сказал Джамбарделла, если не убежденный, то сильно поколебленный в своих взглядах доводами Микеле. – Но все равно! – добавил он, вздыхая. – Чтобы прожить, нужно столько трудиться, что никогда счастлив по-настоящему не будешь.
– Еще бы! В этом ты прав, – согласился Микеле. – Но что поделать! Без труда никак не обойдешься, и вот доказательство: ветер стихает, придется тебе спустить парус, сесть на весла и грести до Кастелламмаре.
Действительно, за несколько последних минут ветер ослабел и парус стал биться о мачту. Моряки спустили его, взялись за весла и со вздохом принялись грести.
По счастью, они были уже недалеко от Торре дель Греко и минут через сорок пять достигли Кастелламмаре.
Расплатившись с гребцами, Микеле нанял карету, и они отправились в Салерно, куда прибыли через два часа.
CXIII
ВЕРНОСТЬ ЗА ВЕРНОСТЬ
Карета остановилась у здания Интендантства. Там Микеле справился о Сальвато и узнал, что тот уехал всего лишь полчаса назад и найти его можно в городской гостинице.
Возница получил приказ ехать в гостиницу.
Войдя в свою комнату, Сальвато распорядился, чтобы, если кто-нибудь приедет из Неаполя, его тотчас ввели к нему.
Было очевидно, что он получил ответ на письмо, отправленное Луизе, и ждал Микеле.
Когда дверь отворилась, он быстро поднялся навстречу посланцу; однако, увидев вместо того, кого ждал, входившую женщину, не сдержал удивленного возгласа. Но едва лишь он узнал Луизу, как удивление сменилось восторгом.
Его первым движением было броситься к молодой женщине, прижать ее к своему сердцу, прильнуть губами к ее губам.
Луиза в свою очередь вскрикнула от удивления и счастья. Она впервые оказалась в объятиях своего возлюбленного и, почувствовав жар его поцелуя, испытала такое наслаждение, что, казалось, оно почти походило на боль.
Микеле еще не успел перешагнуть порог и, не замеченный влюбленными, тихонько отступил назад в соседнюю комнату.
– Вы, вы! – восклицал Сальвато. – Вы сами пришли ко мне!
– Да, я пришла сама, мой возлюбленный Сальвато. Потому что ни один посланец, как бы искусен он ни был, и ни одно письмо, как бы красноречиво оно ни оказалось, не могли бы заменить меня.
– Вы правы, дорогая моя Луиза. Разве кто-нибудь, будь это сам ангел любви, в силах заменить ваше благословенное присутствие? И разве все земные огни в состоянии заменить один луч солнца? Но все-таки чему я обязан таким счастьем? Знаете, дорогая Луиза, я окончательно поверю, что вы здесь, только тогда, когда узнаю причину, которая привела вас ко мне.
– К тебе, Сальвато, – слушай же хорошенько, – меня привела уверенность, что ты не откажешь мне в том, о чем я буду умолять тебя на коленях, в просьбе, от которой зависит вся моя жизнь; да, я верю, что ты дашь мне согласие, не спрашивая, почему я прошу тебя об этом, и, когда я скажу тебе: «Сделай это!» – ты подчинишься мне слепо, не рассуждая, не откладывая, в ту же минуту.
– И ты права, Луиза, полагаясь на мое повиновение, если только ты не потребуешь ничего, что противоречит моему долгу и моей чести.
– Ах, я так и подозревала, что ты выскажешь какое-нибудь возражение в этом роде. Противоречит твоему долгу! Противоречит твоей чести! Но разве ты не совершал до нынешнего дня больше, чем велит тебе долг? Разве не пронес свою честь незапятнанной? Нет! То, о чем я тебя попрошу, не касается ни твоей чести, ни долга. Речь пойдет о том, будешь ли ты повиноваться мне слепо в тех обстоятельствах, от которых зависит вся моя жизнь.
– Твоя жизнь! Но какой риск может грозить твоей жизни, любимая?
– Веришь ли ты мне, Сальвато?
– Как верю ангелу истины!
– Хорошо, тогда исполни то, о чем я сейчас скажу тебе, исполни без возражений, без борьбы.
– Говори.
– Попроси своего генерала сегодня же, чтобы он дал тебе какое-нибудь поручение, хотя бы в Рим: ты должен уехать подальше от королевства до вечера этой пятницы.
Сальвато посмотрел на Луизу с крайним изумлением.
– Чтобы я просил о поручении, которое удалило бы меня из королевства, то есть отдалило от тебя? – переспросил Сальвато. – Какая у тебя необходимость держать меня в отдалении?
– Мой Сальвато, послушай: никогда не расставаться, беспрестанно тебя видеть, вечно быть рядом с тобой, как сейчас, было бы заветным моим желанием, счастьем моей жизни; но что поделать! Есть обстоятельства тайные и от нас не зависящие, которым мы должны повиноваться. Верь мне, Сальвато! Я говорю тебе: нам грозит большое несчастье и избавить от него может только твой отъезд.
– Несчастье, что нам грозит… Ибо мне показалось, моя возлюбленная Луиза, что ты говоришь обо мне и о себе?..
– О себе и о тебе, Сальвато, даже больше о себе.
– … несчастье, что нам грозит, – продолжал Сальвато, – исходит из Сицилии? У кавалера Сан Феличе возникли подозрения? Он возвращается в Неаполь?
– У кавалера нет никаких подозрений, и он не возвращается. Если бы он что-то заподозрил и сказал мне хоть полслова, я бросилась бы к его ногам и во всем открылась бы ему. «Прости меня, отец мой! – сказала бы я. – Неодолимая любовь, неумолимая судьба толкнули меня к нему. Я люблю его больше жизни, сильнее долга. Несчастье, которое ты в своей глубокой мудрости предвидел и предсказывал у постели моего умирающего отца, это несчастье свершилось. Прости меня, прости меня!» И он нас простил бы. Нет! То, что нам угрожает, страшнее и идет не оттуда.
– Тогда откуда же грозит опасность? Скажи мне. Вместо того чтобы бежать от нее как ребенок, я встречу ее лицом к лицу как мужчина и солдат.
– Ты не можешь встретить ее лицом к лицу, ты не в силах с ней бороться. В том-то и беда. Ты можешь только избегнуть ее, слепо мне повинуясь.
– Луиза, дорогая, позволь моему рассудку восстать против самой любви. Я не уклонился бы от опасности, которую бы знал, и тем более не стану бежать от угрозы, мне неизвестной.
– Ах! Вот то, чего я боялась! Это демон гордости говорит в тебе: «Сопротивляйся!» Ну, а если бы я знала заранее о том, что будет землетрясение или что тебя может поразить молния, и сказала бы тебе: «Постарайся избежать землетрясения, укройся от бури», разве мой совет противоречил бы твоему долгу и твоей чести?
– Да, если бы я покинул пост, доверенный мне генералом, из страха перед воображаемой или реальной опасностью.
– Хорошо, Сальвато! А если бы моя просьба звучала по-иному? Если бы я сказала: «Мне необходимо ехать в Рим; одна я не могу совершить такую поездку: боюсь разбойничьих банд. Попроси у своего генерала разрешения сопровождать твою сестру, подругу…»? Разве ты не попросил бы?
– Подожди, пока будет закончено дело, которое мне поручено, и в субботу утром, обещаю тебе, я попрошу у генерала отпуск на неделю.
– В субботу утром! Это слишком поздно! Слишком поздно! Ах, Боже мой! Вразуми меня! Что сказать, что сделать, чтобы он решился?!
– Самую простую вещь, милая Луиза: поведай мне о своих тревогах, скажи, что заставляет тебя желать моего отсутствия в Неаполе, и позволь мне все это обдумать; тогда ты будешь уверена, что не увлекла меня на какой-нибудь ложный путь и чести моей ничто не угрожает.
– Но пойми, меня принуждают к молчанию те же самые причины, что внушают тебе твои сомнения и колебания! Я женщина, но и у меня есть честь и чувство порядочности; я не могу тебе ничего объяснить, потому что мне доверили тайну, потому что я связала себя словом, потому, наконец, что дала клятву себе самой не называть никому имени того, кто мне доверился, ибо его вера в меня была такова, что, отдавая свою жизнь в мои руки, он не просил для себя никакой гарантии.
– Но почему ты не сказала мне об этом вчера вечером?
– Вчера вечером я еще ничего не знала.
– Значит, это тот молодой человек, что ожидал тебя вчера, – сказал Сальвато, пристально глядя на Луизу, – тот самый, что вышел от тебя только в три часа ночи. Не правда ли, это он сообщил тебе тайну, которую ты не можешь раскрыть мне?
Луиза побледнела.
– Кто сказал тебе об этом? – спросила она.
– Так это правда?
– Да, это правда. Но возможно ли, мой возлюбленный Сальвато, что, после того как ты покинул свою Луизу, тебе пришла в голову мысль выслеживать ее?
– Выслеживать тебя? Ревновать ангела? Боже меня сохрани от такого безумия! Я не способен на подобную низость! Моя Луиза может принимать кого хочет и в любой час, и никогда ни одно подозрение, по крайней мере с моей стороны, не замутит ее зеркальной чистоты. Нет, я ни за кем не следил, я никого не видел. Но я получил вот это письмо: за четверть часа до твоего приезда его привез один из вестовых, которым я поручил доставлять мне всю корреспонденцию; когда ты сюда вошла, я как раз читал его, спрашивая себя, какая низкая душа могла пожелать посеять между нами горькое семя раздора.
– Письмо? – воскликнула Луиза. – Ты получил письмо?
– Вот оно. Прочти.
И Сальвато подал ей послание, написанное одним из тех авторов, чье перо равно готово служить любви и ненависти, – людей, которые ради своих мрачных целей не гнушаются анонимными доносами.
Луиза прочла письмо. Оно было составлено в следующих выражениях:
«Синьора Сальвато Пальмиери предупреждают, что г-жа Луиза Сан Феличе, вернувшись от герцогини Фуско, встретилась у себя дома с молодым человеком, богатым и красивым, и оставалась с ним наедине до трех часов ночи.
Это письмо друга, которому больно видеть, как плохо поместил свое сердце синьор Сальвато Пальмиери».
Словно вспышка молнии озарила сознание Луизы, и она увидела Джованнину в ее комнате, писавшую за столом и вскочившую, чтобы заслонить собою то, что она писала. Но мысль, что эта девушка, которая ей всем была обязана, могла ее предать, тотчас сама собой исчезла.
– Здесь нет ни одного слова лжи, мой друг. К счастью, тот или та, кто это писал, или не знает имени того человека, или не хочет его называть. Богу было угодно, чтобы его имя не было названо.
– А почему, милая Луиза, ты видишь в этом волю Божью?
– Если бы оно было названо, я оказалась бы в глазах этого несчастного, который ради меня рисковал своей головою, женщиной без веры, без чести, предательницей!
– Ты права, Луиза, – ответил Сальвато, помрачнев, – потому что если бы я его знал, то после того, о чем я сейчас догадываюсь, я должен был бы все рассказать генералу.
– О чем же ты догадался?
– Что этот человек по какой-то причине, которой я не хочу доискиваться, пришел рассказать тебе о тайне заговора, угрожающем моей жизни, жизни моих товарищей и безопасности нового правительства. Вот почему ты в своей нерассуждающей преданности желала меня удалить, заставить перейти границу, поставить вне досягаемости заговорщиков; вот почему ты не желала объяснить мне, какой опасности я должен избежать: ты знала, что это опасность, от которой бы я не бежал.
– Что ж, ты угадал верно, любимый. Теперь я расскажу тебе все, за исключением имени человека, меня предупредившего, и тогда ты, человек чести, справедливого ума, верного сердца, дашь мне совет.
– Говори же, моя возлюбленная Луиза, говори – я слушаю тебя. Ах, если бы ты только знала, как я тебя люблю! Говори же, говори. В моих объятиях, на моей груди, у моего сердца!
Молодая женщина, откинув голову, с закрытыми глазами и полуоткрытым ртом оставалась с минуту в объятиях молодого человека; потом, как бы вырвавшись из сладостной мечты, она заговорила:
– Друг мой, почему нам не дано жить так, вдали от политических потрясений, от революций, вдали от заговорщиков! Как восхитительна была бы такая жизнь! Но Богу это неугодно. Покоримся же его воле.
Вздохнув, она провела рукой по глазам и продолжала:
– Все было так, как ты сказал. Ах, зачем этот человек выдал мне тайну! Не лучше ли нам было бы вместе умереть!
– Объяснись же, любимая.
– В полночь с пятницы на субботу должен произойти противореволюционный переворот. Готовится резня. Все французы, все патриоты, чьи дома будут помечены крестом, должны быть уничтожены; исключение составят лишь те, у кого будет вот такая охранная карточка и кто знает вот этот условный знак.
И Луиза показала Сальвато карточку с геральдической лилией и знак, о котором сообщил ей Андреа Беккер.
– Итак, надо иметь карточку с цветком лилии, – повторил Сальвато, – и укусить первую фалангу большого пальца? (Таковы были, как мы помним, спасительные условные знаки.) Несчастные! Их хотят вырвать из рабства, а они хотят остаться рабами любой ценой!
– Ну, а теперь, когда я тебе рассказала, – проговорила Луиза, соскользнув на колени к Сальвато, – скажи, что надо делать? Подумай и посоветуй мне.
– Тут нечего и думать, моя дорогая. За верность надо платить верностью. Этот человек хотел тебя спасти.
– И тебя тоже, потому что он знает все – что ты был ранен, что я о тебе заботилась, что в течение полутора месяцев ты находился в доме герцогини Фуско; он знает о нашей взаимной любви, и он сказал мне: «Спасите его вместе с собою».
– Тем больше оснований, как я уже сказал, ответить верностью на его верность. Этот человек хотел нас спасти. Спасем же мы его.
– Как так?
– Сказав ему: «Ваш заговор раскрыт. Генерал Шампионне предупрежден; там, где вы рассчитываете на легкую победу, вы встретите отчаянное сопротивление и добьетесь только бесполезного кровопролития на улицах Неаполя. Откажитесь от заговора, поспешите уехать; последуйте сами совету, который вы дали мне».
– Сама честь говорит твоими устами, милый Сальвато. Я сделаю то, что ты советуешь. Но послушай…
– Что такое?
– Мне послышался шум в соседней комнате, там закрыли дверь. Не услышал ли нас кто-нибудь? Уж не следят ли за нами?
Сальвато бросился туда: в комнате было пусто.
– Никого здесь не было, кроме Микеле, – сказал он. – По-твоему, плохо, если он нас слышал?
– Нет, потому что он не знает имени человека, который ко мне приходил. А то, милый Сальвато, – добавила Луиза, смеясь, – ты сделал его таким патриотом, что он, пожалуй, был бы способен тотчас же донести на него.
– Что ж, – сказал Сальвато, – стало быть, все в порядке и совесть твоя спокойна, не правда ли?
– Ты уверяешь меня, что мы поступаем согласно всем правилам благородства?
– Я клянусь тебе в этом.
– Ты хороший судья в делах чести, Сальвато, и я верю тебе. Вернувшись в Неаполь, я его предупрежу. Его имени я не произнесу никогда, даже в твоем присутствии. Значит, он ни в чем не может быть скомпрометирован, а если так случится, то не по моей воле. Не будем же думать больше ни о чем, только о счастье быть вместе. Только что я проклинала политику, революции, заговоры… Я с ума сошла! Без этих политических смут ты не был бы послан в Неаполь твоим генералом; без этих революций я не узнала бы тебя; без этих заговорщиков я не была бы сейчас рядом с тобой. Да будет благословенно все, что творится по воле Божьей, ибо это есть благо!
И молодая женщина, совершенно успокоенная, радостная, бросилась, улыбаясь, в объятия своего возлюбленного.