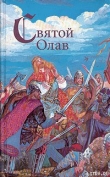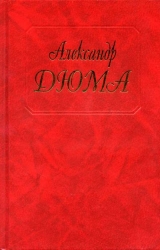
Текст книги "Сан Феличе Иллюстрации Е. Ганешиной"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 83 (всего у книги 141 страниц)
Но уж что было совершенно серьезным, так это распоряжение об аресте бедной Сан Феличе, да еще в такую минуту, когда она менее всего могла того ожидать.
CXXXVII
РУССКАЯ МОНЕТА
Как мы уже говорили, Луиза старалась быть счастливой.
Увы, это было нелегко!
Любовь ее к Сальвато оставалась столь же пылкой, даже, может быть, стала горячей, ведь когда женщина, особенно с таким характером, как у Луизы, отдается своему избраннику, ее любовь от этого удваивается, вместо того чтобы уменьшиться.
Что же касается Сальвато, вся душа его была полна Луизой. Он не просто любил ее, он ее боготворил.
Но две мрачные тени ложились на жизнь бедной женщины.
Одна из них давала о себе знать лишь время от времени, отдаляла ее от Сальвато, заставляла забывать его ласки: то был другой человек, наполовину отец, наполовину супруг; Луиза регулярно получала от него письма, всегда приветливые; но скорее сердцем, чем разумом она угадывала в них признаки грусти, понятной ей одной.
Она отвечала ему совершенно дочерними письмами. Ей не надо было менять ни слова в выражении своих чувств к кавалеру Сан Феличе, это были все те же чувства покорной, любящей и почтительной дочери.
Но другую тень, мрачную тень несчастья Луиза ни на миг не могла отогнать. Перед ее внутренним взором стояла мучительная, неотвязная мысль, что она повинна в аресте обоих Беккеров, а в случае казни станет причиной гибели отца и сына.
И все-таки молодая пара сближалась с каждым днем и мало-помалу начала жить общей жизнью. Сальвато отдавал Луизе все свое время, свободное от воинских обязанностей.
Поддавшись на уговоры Микеле, синьора Сан Феличе простила Джованнине ее странный уход из дому, что, впрочем, представлялось ей менее серьезным проступком, чем было бы у нас, во Франции, если иметь в виду фамильярные отношения между итальянскими слугами и их хозяевами.
Среди столь грозных событий и в предчувствии надвигающегося еще более грозного будущего все умы были заняты делами общественными, частная жизнь мало их занимала, и потому люди не злословили о близости Сальвато и Луизы, а были лишь невольными ее свидетелями. К тому же, как ни тесны были отношения влюбленных, невозможно было увидеть в них ничего скандального, ведь дело происходило в стране, где нет слова, соответствующего нашему слову «любовница», – здесь оно звучит просто как «подруга».
Так что, если даже предположить, что Джованнина намеревалась своею нескромностью причинить хозяйке неприятность, она могла болтать сколько душе угодно, это не принесло бы никакого вреда.
Девушка сделалась мрачной и молчаливой, но перестала быть непочтительной.
Один Микеле сохранял обычную свою беспечную жизнерадостность, и время от времени по всему дому звенели бубенчики его острословия. Оказавшись в высоком звании полковника, которое ему и во сне не снилось, он то и дело подумывал о некоей веревочной петле, что невидимо для других покачивалась перед его глазами; но видение это не оказывало никакого воздействия на его душевное состояние, разве что усугубляло его веселость, и, хлопая в ладоши, он лихо восклицал: «Эх, двум смертям не бывать, а одной не миновать!» И только сам черт, державший другой конец веревки, что-то понимал в этом восклицании.
Однажды утром, направляясь от Ассунты к своей молочной сестре, то есть совершая почти ежедневную прогулку от Маринеллы к Мерджеллине, Микеле без всякой причины, с обычной бездумностью южанина замедлил шаг у дверей Беккайо, и ему показалось, что, заметив его, находившиеся там люди переменили тему разговора и обменялись знаками, недвусмысленно говорившими: «Берегитесь, тут Микеле!»
Микеле был слишком хитер, чтобы показать вид, будто что-либо заметил, но и слишком любопытен, чтобы не попытаться разузнать, что же от него скрывают. Он перекинулся с Беккайо несколькими словами, но тот разыгрывал из себя ярого республиканца, и из него не удалось ничего вытянуть; тогда Микеле вышел от Беккайо и заглянул к мяснику по имени Кристофоро, исконному врагу живодера уже по той причине, что он занимался сходным ремеслом.
Оказалось, что Кристофоро, который действительно был патриотом, уже с утра заметил странное возбуждение на Старом рынке. По его сведениям, причиной суеты были два каких-то человека, раздававшие кое-кому из тех, кто был известен приверженностью к Бурбонам, золотые и серебряные монеты иноземного происхождения. В одном из раздатчиков мясник узнал некоего Кошиа, прежде служившего поваром у кардинала Руффо и потому связанного с торговцами Старого рынка.
– Ладно, – сказал Микеле. – А видел ты эти монеты, приятель?
– Видеть-то видел, да не признал.
– А не можешь ли раздобыть мне такую монету?
– Это проще простого.
– Ну, тогда я знаю кое-кого, кто нам растолкует, из какой страны она к нам попала.
И Микеле вытащил из кармана пригоршню серебра, чтобы возместить мяснику в неаполитанской монете стоимость иностранных монет, которые тот взялся добыть.
Десять минут спустя Кристофоро вернулся с серебряной монетой, похожей на пиастр, но поменьше. На лицевой стороне красовалось изображение женщины в профиль, с высокомерным лицом, почти открытой грудью и маленькой короной на голове; с обратной стороны изображен был двуглавый орел, держащий в одной лапе земной шар, в другой скипетр.
По краю монеты с обеих сторон вились надписи, сделанные незнакомыми буквами.
Несмотря на все старания, Микеле так и не смог прочитать эти надписи; к стыду своему, он вынужден был признаться, что не знает составляющих их букв.
Тогда он поручил Кристофоро разузнать все, что удастся, и, если выяснится что-нибудь интересное, прийти в Дом-под-пальмой и сообщить об этом.
Мясник, горевший любопытством не меньше, чем Микеле, сейчас же бросился на поиски, а юный лаццароне по улице Толедо и по мосту Кьяйа направился к Мерджеллине.
Проходя мимо дворца Ангри, Микеле на минутку остановился и справился, тут ли Сальвато; оказалось, что молодой человек вышел час тому назад.
Сальвато, как и предполагал Микеле, находился в Доме-под-пальмой, где подруга Луизы, герцогиня Фуско, предоставила в его распоряжение ту самую комнату, куда его перенесли раненым и где он провел столько сладостных и мучительных часов.
Он входил к герцогине Фуско, которая открыто и с почетом принимала всех выдающихся патриотов той эпохи, кланялся ей, если она находилась в гостиной, а затем направлялся в свою комнату, превращенную в рабочий кабинет.
Луиза, проскользнув из своего дома через дверь, сообщавшуюся с особняком Фуско, присоединялась к нему.
У Микеле не было причин прятаться, поэтому он просто позвонил у садовой калитки, и Джованнина отворила ему.
С тех пор как у Микеле зародились подозрения относительно истинных чувств девушки к его молочной сестре, он редко заводил разговоры с Джованниной. Вот и сейчас он лишь поздоровался с ней, притом довольно развязно. Не надо забывать, что Микеле был теперь полковником, а у Луизы чувствовал себя почти как дома; он не задал служанке никаких вопросов и, без церемоний открывая одну за другой все двери, прошел через пустые комнаты в ту, которая, как он знал, не была пуста.
По условному стуку влюбленные тотчас же узнали, кто пришел, и послышался нежный голос Луизы.
– Входи!
Микеле толкнул дверь. Луиза и Сальвато сидели рядом, голова молодой женщины лежала на плече возлюбленного, а он нежно обнимал ее за плечи.

Глаза Луизы были полны слез. Лицо Сальвато сияло гордой радостью.
Микеле улыбнулся. Ему почудилось, будто он видит торжество молодого супруга, которому объявили, что он вскоре станет отцом.
Впрочем, какое бы чувство ни озаряло восторгом лицо одного и увлажняло глаза другой, это оставалось тайной любовников, ибо при виде Микеле Луиза приложила палец к губам.
Сальвато наклонился вперед и протянул юноше руку.
– Что нового? – спросил он.
– Ничего определенного, генерал, но в воздухе стоит шум.
– Что же это за шум?
– Шум серебряного дождя, который сыплется неведомо откуда.
– Серебряный дождь? Надеюсь, ты догадался стать под водосточную трубу?
– Нет. Но я подставил шапку, и вот одна из упавших в нее капель.
И он протянул Сальвато серебряную монету.
Молодой человек взял ее и, едва взглянув, произнес:
– О, рубль Екатерины Второй.
Микеле ровно ничего не понял.
– Рубль? – повторил он. – А что это такое?
– Русский пиастр. Екатерина Вторая – это мать ныне царствующего императора Павла Первого.
– Царствующего где?
– В России.
– Вот тебе и на! Теперь уж и русские вмешиваются в наши дела. Правда, нам уже давно это обещали. Выходит, они пришли.
– Похоже на то, – отвечал Сальвато.
Он поднялся.
– Это дело серьезное, моя дорогая Луиза, – сказал он, – и я вынужден вас покинуть, надо, не теряя ни минуты, выяснить, откуда взялись эти распространяемые среди народа рубли.
– Идите, – отвечала молодая женщина с той мягкой покорностью, что не оставляла ее со времени злополучного дела Беккеров.
Она действительно чувствовала, что более не принадлежит себе, что, подобно античной Ифигении, она жертва в руках Рока и не в силах бороться против него, она словно бы пыталась умилостивить судьбу своим смирением.
Сальвато пристегнул саблю, подошел к Луизе с той улыбкой, исполненной силы и душевной ясности, без которой лицо его становилось суровым и твердым, как мрамор, и так крепко обнял свою возлюбленную, что она, как ветвь ивы, согнулась в его объятиях.
– До встречи, любовь моя! – сказал он.
– До встречи, – откликнулась молодая женщина. – И когда?
– Как только смогу. Ты же знаешь, мне нет жизни без тебя, особенно теперь, после этой чудесной вести!
Луиза прижалась к нему и спрятала голову на его груди, но Микеле видел, как она залилась румянцем.
Увы! Весть, которую Сальвато в своей эгоистической гордости счел столь радостной, заключалась в том, что Луиза готовилась стать матерью!
CXXXVIII
ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ
Вот что произошло и вот каким образом русские монеты появились на площади Старого рынка в Неаполе.
Третьего июня кардинал прибыл в Ариано – город, расположенный так высоко в Апеннинах, что он снискал прозвание «балкона Апулии». К нему в то время не было другого пути, кроме проложенной еще древними римлянами дороги из Неаполя в Бриндизи, той самой, по которой совершил свое знаменитое путешествие Гораций вместе с Меценатом. Со стороны Неаполя начинается крутой подъем, почтовые кареты могут, вернее, могли преодолевать его лишь в воловьей упряжке; с другой стороны на эту дорогу можно попасть только через длинную узкую Бовинскую долину, своего рода калабрийские Фермопилы. По дну ущелья бешено несется поток Черваро, а по берегу вьется дорога, ведущая из Ариано к Бовинскому мосту. Склон горы весь состоит из скалистых камней, так что какая-нибудь сотня людей легко может задержать здесь продвижение целой армии. Скипани получил распоряжение остановиться именно в этом месте, и, послушайся он приказа, вместо того чтобы поддаться безумному желанию взять штурмом Кастеллуччо, победоносное продвижение кардинала, может быть, на том бы и кончилось.
Но, к своему величайшему удивлению, кардинал безо всяких помех прибыл в Ариано.
Там он нашел расположившиеся лагерем русские войска.
Когда на следующий же день Руффо посещал этот лагерь, к нему привели двух субъектов, задержанных, когда они проезжали мимо в кабриолете.
Они выдавали себя за торговцев зерном и будто бы направлялись в Апулию для закупки своего товара.
Кардинал уже собирался было их допросить, как вдруг заметил, что один из них не только не выказывает страха и смущения, а, напротив, улыбается. Всмотревшись внимательнее, кардинал узнал в мнимом торговце зерном бывшего своего повара Кошиа.
Тот, увидев, что опознан, по неаполитанскому обычаю поцеловал у кардинала руку. Руффо же, сообразив, что путники попали к нему не случайно, велел препроводить их в уединенный дом вне лагеря русских войск, где можно было спокойно поговорить.
– Вы из Неаполя? – спросил кардинал.
– Мы выехали оттуда вчера утром, – отвечал Кошиа.
– Значит, вы можете представить мне свежие известия?
– Да, монсиньор, для того мы и явились к вашему преосвященству.
Действительно, эти люди были посланцами роялистского комитета. И буржуа, и патриотов одинаково волновал вопрос о том, прибыли или нет русские войска. Ведь соединение с ними в значительной мере обеспечило бы успех экспедиции санфедистов: опорой им послужила бы самая могущественная (имея ввиду численность ее народонаселения) империя.
Руффо полностью успокоил посланцев на этот счет. Он провел их через ряды московитов и заверил, что это лишь авангард следующей за ними армии.
Посланные, хоть и не столь неверующие, как святой Фома, могли поступить так же, как и он: увидеть и притронуться.
Особенно часто притрагивались они к мешку с русскими монетами, врученному им кардиналом для распространения среди добрых друзей на Старом рынке.
Читатели уже убедились что маэстро Кошиа на совесть выполнил поручение кардинала, поскольку один из этих рублей попал даже в руки самого Сальвато.
Сальвато тоже понял всю значительность этого факта и отправился его проверить.
Два часа спустя у него не оставалось ни малейших сомнений: русские соединились с войском Руффо, а с минуты на минуту то же самое сделают и турки.
К вечеру слухи об этом пошли уже по всему городу.
Во дворце Ангри Сальвато ожидали еще более тревожные вести. Этторе Карафа, герой Андрии и Трани, был окружен в Пескаре войсками Пронио и не мог прийти на помощь Неаполю, а ведь на него надеялись как на одного из самых отважных защитников города.
Бассетти, которого перед отплытием из Неаполя Макдональд назначил главнокомандующим регулярными войсками, был разбит отрядами Фра Дьяволо и Маммоне и вернулся в город раненым.
Скипани не выдержал атаки на берегах Сарно, бежал до самого Торре дель Греко и с сотней соратников укрепился в малом форте Гранателло.
Наконец, военный министр Мантонне – сам Мантонне, выступивший против Руффо и рассчитывавший на соединение с Этторе Карафой; Мантонне, лишенный помощи этого отважного военачальника, окруженный враждебным населением, которое было взбудоражено примером Кастеллуччо и вот-вот готово было возмутиться, – не смог войти в соприкосновение с армией кардинала и, не дойдя до Бари, вынужден был отступить.
Прочитав эти зловещие донесения, Сальвато на минуту задумался; но вдруг, казалось приняв решение, он стремительно выбежал на улицу, прыгнул в кабриолет и велел везти себя к Дому-под-пальмой.
Пренебрегая на сей раз осторожностью, он не стал проходить к Луизе через особняк герцогини Фуско, а направился прямо к маленькой садовой калитке, той самой, что, на его счастье, оказалась незапертой в ночь с 22 на 23 сентября, и позвонил.
На звонок вышла Джованнина и, увидев молодого человека, невольно вскрикнула от удивления: он никогда не пользовался этим входом.
Сальвато вовсе не озаботило ни ее удивление, ни ее восклицание.
– Дома ли твоя госпожа? – спросил он.
Она молчала, зачарованная его взглядом, и тогда он тихонько отстранил ее и шагнул на крыльцо, даже не почувствовав, что девушка схватила его за руку и страстно сжала в своей; впрочем, он мог приписать это страху перед неизвестностью, охватившему в эти часы самые стойкие души, и уж тем более естественному у Джованнины.
Луиза находилась в той же комнате, где ее оставил Сальвато. Заслышав его шаги не с той стороны, с какой она ожидала, молодая женщина в удивлении вскочила с кресла, бросилась отворять дверь и оказалась лицом к лицу с возлюбленным.
Сальвато молча взял ее за руки и несколько мгновений с невыразимо нежной и печальной улыбкой глядел ей в глаза.
– Все пропало! – сказал он. – Через неделю кардинал Руффо со своими людьми подойдет к стенам Неаполя, и тогда будет слишком поздно принимать решение. Значит, надо принимать его сию минуту.
Луиза, со своей стороны, с недоумением, но без всякого страха глядела на него.
– Говори, я слушаю, – промолвила она.
– При сложившихся обстоятельствах для нас есть три пути, – продолжал Сальвато.
– Какие?
– Первый – это сесть верхом, вместе с сотней моих храбрых калабрийцев сокрушить по дороге все препятствия и добраться до Капуа. Там все еще держится французский гарнизон. Я доверю тебя чести его коменданта, кто бы он ни был, и, в случае если Капуа капитулирует, он включит твое имя в договор о капитуляции, и ты будешь спасена, поскольку окажешься под защитой договора.
– А ты? Ты останешься в Капуа? – спросила Луиза.
– Нет, Луиза, я вернусь сюда, потому что мое место здесь. Но как только я исполню свой долг, тут же присоединюсь к тебе.
– А второй? – произнесла Луиза.
– Взять лодку старого Бассо Томео, который вместе с тремя своими сыновьями будет ждать тебя возле гробницы Сципиона, и, воспользовавшись снятием блокады, доплыть вдоль побережья от Террачины до Остии. А из Остии вверх по Тибру подняться в Рим.
– А ты поедешь со мною? – спросила Луиза.
– Это невозможно.
– А третий?
– Остаться здесь, как можно лучше организовать оборону и ждать дальнейших событий.
– Каких событий?
– Последствий взятия города приступом и мести трусливого, а потому и беспощадного короля.
– Значит, мы или спасемся, или вместе умрем?
– Вероятно.
– Тогда останемся.
– Это твое последнее слово, Луиза?
– Последнее, друг мой.
– Подумай до вечера. Вечером я приду.
– Приходи. Но вечером я скажу тебе то же самое, что говорю теперь: если ты остаешься, останемся оба.
Сальвато взглянул на часы.
– Уже три часа, – сказал он. – Нельзя терять ни минуты.
– Ты меня покидаешь?
– Я поднимусь в форт Сант’Эльмо.
– Но ведь фортом Сант’Эльмо тоже командует француз. Почему ты не отправишь меня под его покровительство?
– Потому что я видел его однажды, правда, мельком, и он показался мне негодяем.
– Негодяй иногда делает за деньги то, что благородные люди делают из самоотверженности.
Сальвато усмехнулся:
– Именно это я и попытаюсь устроить.
– Попытайся, друг мой; что бы ты ни предпринял, все будет хорошо, лишь бы ты остался со мною.
В последний раз поцеловав Луизу, Сальвато вышел на тропинку, тянувшуюся вдоль подножия горы, и исчез из виду за монастырем святого Мартина.
Полковник Межан, который с высоты крепости, словно хищная птица, обозревал город и его окрестности, увидел Сальвато и узнал его. Ему было известно, что молодой человек славится своей открытой и честной душой, полной противоположностью его собственной натуре. Быть может, полковник и ненавидел Сальвато, но не мог его не уважать.
Он поспешно прошел в свой кабинет и опустил занавеси: люди такого рода не любят яркого дневного света; затем он сел спиной к окну так, чтобы в полумраке нельзя было разглядеть выражение его бегающих и моргающих глаз.
Едва он успел принять эти предосторожности, как ему доложили, что его желает видеть бригадный генерал Сальвато Пальмиери.
– Просите, – сказал полковник Межан.
Сальвато ввели в комнату и затворили за ним дверь.
CXXXIX
ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРЕДЛАГАЕТ СОВЕРШИТЬ БЕСЧЕСТНЫЙ ПОСТУПОК, А ДРУГИЕ ЧЕСТНЫЕ ЛЮДИ ПО ГЛУПОСТИ ОТВЕРГАЮТ ЕГО
Разговор длился около часа.
Сальвато вышел из кабинета, опустив голову, взгляд его был мрачен.
Он спустился по склону, ведущему от монастыря святого Мартина к Инфраскате, нанял кабриолет, который попался ему на спуске Студи, и велел везти себя к королевскому дворцу, где заседала Директория.
Все двери отворились при виде его мундира, он прошел в зал заседаний.
Члены Директории были в сборе и слушали доклад Мантонне о сложившемся положении.
А положение, как уже говорилось, было таково:
кардинал в Ариано – иными словами, в четырех переходах от Неаполя;
Шьярпа в Ночере, то есть в двух переходах от Неаполя;
Фра Дьяволо в Сессе и в Теано, тоже в двух переходах от Неаполя;
сверх того, Республике угрожают неаполитанцы, сицилийцы, англичане, римляне, тосканцы, русские, португальцы, далматы, турки, албанцы.
Докладчик был мрачен, слушатели еще мрачнее.
Когда вошел Сальвато, все взоры устремились к нему. Он сделал Мантонне знак продолжать и стоя стал слушать его, не произнеся ни слова.
Когда Мантонне закончил, председатель повернулся к Сальвато:
– Вы хотите сообщить нам что-нибудь новое, генерал?
– Нет. Но я хочу внести предложение.
Все знали пылкую доблесть и непоколебимый патриотизм молодого человека; присутствующие обратились в слух.
– После всего, что рассказал вам сейчас храбрый генерал Мантонне, считаете ли вы, что у нас остается хоть какая-то надежда?
– Почти никакой.
– А все-таки? На что вы можете рассчитывать? Скажите.
Все молчали.
– Следовательно, – продолжал Сальвато, – вам не на что надеяться и вы пытаетесь себя обмануть.
– А у вас, генерал, есть надежда?
– Да, если мы поступим точно так, как я скажу.
– Говорите.
– Все вы отважные и мужественные люди. Вы готовы умереть за отечество, ведь так?
– Так! – вскричали члены Директории, в едином порыве поднявшись со своих мест.
– Не сомневаюсь, – продолжал Сальвато с обычным своим спокойствием. – Но умереть еще не значит спасти отечество, а нам надо его спасти, ибо спасти отечество – значит спасти Республику; спасти же Республику – значит установить на этой многострадальной земле царство разума, прогресса, законности, просвещения, свободы – всего, что исчезнет на полвека, а может быть, и на целый век в случае возвращения короля Фердинанда.
Это рассуждение было настолько справедливо и неоспоримо, что слушатели хранили молчание.
Сальвато продолжал:
– Когда Макдональда отозвали в Северную Италию, а французы оставили Неаполь, я видел, как вы радовались и поздравляли друг друга с тем, что, наконец-то, стали свободны. Всех ослепили национальное самолюбие и местный патриотизм; именно тогда вы сделали первый шаг навстречу порабощению.
Кровь бросилась в лицо членам Директории. Мантонне пробормотал:
– Чужак чужаком и останется!
Сальвато пожал плечами.
– Я больше неаполитанец, чем вы, Мантонне, – возразил он. – Ведь ваш род происходит из Савойи и только полвека тому назад переселился в Неаполь; я же родом из Терра ди Молизе, там родились и там похоронены мои предки. Бог дает мне великое счастье умереть здесь, как и они!
– Слушайте, – раздался чей-то голос. – Сама мудрость глаголет устами этого юноши.
– Не знаю, кого вы называете чужаком, – продолжал Сальвато, – зато знаю, кого я называю моими братьями. Мои братья – это люди любой страны; они, как и я, хотят отстоять достоинство личности, добившись независимости нации. Пусть эти люди будут французы, русские, турки, татары – с той минуты, как они шагнут в окружающий меня мрак с факелом в руке и со словами о прогрессе и свободе на устах, они становятся моими братьями. А чужаки для меня – это те неаполитанцы, мои соотечественники, которые благословляют правление Фердинанда, маршируют под знаменем Руффо и хотят снова навязать нам деспотическую власть глупого короля и распутной королевы.
– Говори, Сальвато, говори! – снова послышался тот же голос.
– Ну так вот что я хочу вам сказать: вы умеете умирать, но не умеете побеждать.
Среди собравшихся прошло движение. Мантонне резко повернулся к Сальвато.
– Вы умеете умирать, – повторил тот, – но не умеете побеждать, и вот доказательство: Бассетти разбит, Скипани разбит, да и вы сами, Мантонне, разбиты.
Мантонне опустил голову.
– А французы умеют умирать, но умеют и побеждать. В Кротоне их было тридцать два, из них пятнадцать убиты и одиннадцать ранены. В Чивита Кастеллана их было девять тысяч, а против них было сорок тысяч врагов, и они их разбили. Следовательно, повторяю, французы умеют не только умирать, но и побеждать.
На это никто не ответил ни слова.
– Без французов мы умрем – падем со славой, с блеском, как Брут и Кассий в сражении при Филиппах, но умрем в отчаянии, сомневаясь в справедливости Провидения, говоря себе: «Доблесть – это пустой звук!» Умрем с еще более страшной мыслью, что вместе с нами гибнет Республика. С французами мы победим – и Республика будет спасена!
– Значит, французы храбрее нас? – воскликнул Мантонне.
– Нет, генерал, никто не храбрее ни вас, ни меня, никто не храбрее Чирилло, который слушает меня сейчас и уже дважды одобрил мою речь; и, когда придет наш час, я надеюсь, мы докажем, что никто лучше нас не умеет смотреть в глаза смерти. Костюшко тоже был храбрецом, но падая, он произнес ужасные слова, справедливость которых доказана тремя разделами: «Finis Poloniae!» He сомневаюсь, что мы тоже, и в первую очередь вы, генерал, падем с историческими словами на устах, но, повторяю, если не ради нас самих, то, по крайней мере, ради наших детей, которым придется начинать всю борьбу сначала, лучше не пасть вовсе.
– Но где же эти французы? – спросил Чирилло.
– Я только что из замка Сант’Эльмо, я виделся с полковником Межаном.
– Вы знаете этого человека? – спросил Мантонне.
– Да. Это негодяй, – спокойно, как всегда, ответил Сальвато. – И потому с ним можно вести переговоры. Он готов продать мне тысячу французов.
– Но у него их всего пятьсот пятьдесят! – вскричал Мантонне.
– Ради Бога, дайте мне закончить, дорогой Мантонне, время дорого, и если бы я мог купить время, как могу купить людей, я бы это сделал. Межан продает мне тысячу французов.
– Мы потерпели страшное поражение, но все-таки можем собрать десять-пятнадцать тысяч человек, – сказал Мантонне. – А вы рассчитываете с тысячью французов сделать то, чего не можете сделать с пятнадцатью тысячами неаполитанцев?
– Я не рассчитываю сделать с тысячью французов то, чего не могу сделать с пятнадцатью тысячами неаполитанцев. Но с пятнадцатью тысячами неаполитанцев и с тысячью французов я добьюсь того, чего не сделаю и с тридцатью тысячами одних неаполитанцев!
– Вы клевещете на нас, Сальвато.
– Боже упаси! Но вот вам пример. Как вы думаете, если бы Макк располагал тысячью человек из старой армии, тысячью бывалых, дисциплинированных, привыкших к победам солдат, таких солдат, как у принца Евгения или у Суворова, – было бы столь поспешным наше бегство, столь позорным наш разгром? Ведь если не умом, то сердцем я сам был на стороне тех неаполитанцев, которые бежали и против которых я сражался! Видите ли, дорогой Мантонне, тысяча французов – это батальон, построенный в каре, а каре – это крепость, которую не может повредить ни артиллерия, ни кавалерия; тысяча французов – это непреодолимая для врага преграда, это стена, за которой храбрые, но непривычные к огню и к дисциплине солдаты могут соединиться и перестроить ряды. Дайте под мою команду двенадцать тысяч неаполитанцев и тысячу французов, и через неделю я приведу к вам кардинала Руффо со связанными руками и ногами.
– И что же, Сальвато? Совершенно необходимо, чтобы именно вы командовали этими двенадцатью тысячами неаполитанцев и этой тысячью французов?
– Берегитесь, Мантонне! Вот уже и ваше сердце уязвлено дурным чувством, похожим на зависть.
Под открытым и невозмутимым взглядом молодого человека Мантонне сжался, но тотчас, поднявшись со своего места, подошел к Сальвато и протянул ему руку.
– Простите, друг, человеку, еще не оправившемуся после недавнего поражения. Если дело будет поручено вам, хотите взять меня в помощники?
– Продолжайте же, Сальвато, – сказал Чирилло.
– Да, совершенно необходимо, чтобы командовал я, и сейчас я скажу почему: потому что уже шесть лет тысяча французов, на которых я рассчитываю опереться, тысяча французов, мой железный столп, видят, как я дерусь вместе с ними, потому что они знают: я не только адъютант, но и друг генерала Шампионне. Если бы мною руководило честолюбие, я последовал бы за Макдональдом в Северную Италию, туда, где идут великие сражения, где за три-четыре года становятся Дезе, Клебером, Бонапартом или Мюратом, а не уволился бы из армии, чтобы командовать бандой диких калабрийцев и безвестно погибнуть в какой-нибудь стычке с крестьянами, подчиняющимися приказам кардинала.
– А за какую цену комендант замка Сант’Эльмо продает вам этих солдат? – спросил председатель.
– Он продает их куда дешевле, чем они стоят, разумеется, но плачу я не им, а коменданту; за пятьсот тысяч франков.
– А где вы возьмете эти пятьсот тысяч? – снова спросил председатель.
– Погодите, – все так же невозмутимо возразил Сальвато. – Мне нужно не пятьсот тысяч франков, а миллион.
– Тем более. Где вы возьмете миллион, когда в казне у нас едва ли наберется десять тысяч дукатов?
– Дайте мне право распоряжаться жизнью и имуществом десятка богатых горожан, чьи имена я вам укажу, и завтра они сами принесут сюда этот миллион.
– Гражданин Сальвато! – вскричал председатель. – Вы предлагаете нам сделать то самое, за что мы корим наших врагов.
– Сальвато! – пробормотал Чирилло.
– Погодите же, – сказал молодой человек. – Я просил выслушать до конца, а меня каждую минуту перебивают.
– Это верно, мы не правы, – согласился Чирилло. – Продолжайте.
– Как всем известно, я владею в провинции Молизе собственностью в два миллиона – фермами, землями, домами. Эти два миллиона я передаю нации. Когда Неаполь будет спасен, кардинал Руффо обратится в бегство или окажется в наших руках, нация продаст мои земли и вернет по сто тысяч франков десяти гражданам, которые одолжат мне, а вернее – ей, эту сумму.
Шепот восхищения пробежал среди собравшихся. Мантонне бросился на шею молодому человеку.
– Я требую, чтобы меня назначили помощником под его командованием, – проговорил он. – Хочешь, я стану простым волонтёром?
– Но пока ты поведешь свои пятнадцать тысяч неаполитанцев и тысячу французов против Руффо, кто будет обеспечивать безопасность и спокойствие в городе? – спросил председатель.
– А, вы коснулись единственного уязвимого места, – отвечал Сальвато. – Придется пойти на жертву, принять страшное решение. Патриоты удалятся в форты и будут защищать их, тем самым защищая самих себя.
– Но город, как же город? – закричали в один голос с председателем все члены Директории.
– Придется решиться на восемь, может быть, на десять дней анархии!
– Десять дней поджогов, грабежей, убийств! – повторял председатель.
– Мы вернемся с победой и накажем виновных.
– Да разве это восстановит сожженные дома, возместит разграбленные богатства, воскресит мертвых?
– Через двадцать лет никто и не вспомнит, что было сожжено два десятка домов, разграблено двадцать состояний, пресечено двадцать жизней. Главное, чтобы восторжествовала Республика, потому что, если она не устоит, ее падение повлечет за собою тысячи несправедливостей, тысячи бедствий и смертей.
Члены Директории переглянулись.
– Пройди в соседнюю комнату, – обратился к Сальвато председатель. – Мы обсудим этот вопрос.
– Я подаю голос за тебя, Сальвато! – вскричал Чирилло.
– Я остаюсь, чтобы повлиять на решение, если это будет возможно, – сказал Мантонне.