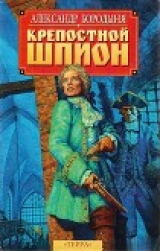
Текст книги "Крепостной шпион"
Автор книги: Александр Бородыня
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 32 страниц)
– С ребёночком всё, слава Богу, в порядке, – быстро говорила она, – Вы напрасно беспокоились. Мы с вами на пару почти всех нападающих перебили. Кого ранили, а кого и насмерть, сейчас не скажешь точно.
– Тела с собой забрали?
Аглая кивнула головой утвердительно.
– Я спряталась с ребёночком. Я-то дом знаю, они нет. Их всего-то двое шарили, не нашли, конечно. Но если бы больше оказалось, то уж тогда всё – конец.
– А негодяй-то этот как? – спросил Пашкевич, прихлёбывая кофе. – Жив?
– Вы про отца ребёночка, наверное, спрашиваете, – голос девушки стал каким-то неприятно елейным, отвратительным. – Так Иван Кузьмич бежали, Вашими молитвами.
В голосе явно прорезалась ненависть.
– Кабы Вы за руки меня не держали, заколола бы я его и всё, – девушка сжала от злости кулачки. – А так ведь вернётся и не один. Я его звериную натуру хорошо изучила. Тогда уж кто меня и ребёночка защитит?
Генрих всматривался в неё, пытаясь найти черты вчерашнюю корнета, и категорически их не находил.
– А сломанную Вашу шпагу я в чулан прибрала, – Аглая опять сменила тон. Она хитро улыбалась. – Умеете же Вы подраться с удовольствием, полковник, сколько народу положили. А рана пустяк. Я вышла утром, как будто не произошло ничего, как будто ночью ничего и не было. И следов-то во дворе никаких, ни крови, ничего. Снег идёт.
– Шпагу? – полковник чуть не расплескал кофе. – Да чёрт с ней, со шпагой. Ты мне вот что скажи: ну зарезал я барина твоего, Анну Владиславовну, ну прискакал я сюда. Помню дрались с кем-то ночью, а потом-то, потом что?
– А я не знаю, барин, – смиренно склонив головку на плечо, отозвалась Аглая. – Я из пистолета пальнула, и Вы пальнули. А потом, когда Вы в окошко-то выпрыгнули и велели фонарь запалить, я и запалила, пуля прямо в фонарь и попала.
– А потом что?
– Потом спряталась. Ребёночка стала кормить.
– Чем кормить? – вскрикнул полковник, не веря ни одному слову, и разглядывая маленькие девичьи груди, затянутые коричневым платьем. – Чем?
– Известно чем, барин, тюлькой, – сконфузилась девушка.
Полковник наморщил лоб и подтянул одеяло.
– Но я всё-таки не пойму. Ничего не помню, – кончиками пальцев потрогал запёкшуюся кровь на мочке уха. – Кто меня раздел, в конце концов.
– Вы не гневайтесь, но это я Вас раздела. Какое тело у Вас, барин, белое, – она прыснула в кулак, – нежное. Решила отоспитесь, пьяные Вы были очень.
Генрих Пашкевич ощутил себя голого под одеялом, прищурился на окно. Посверкивало зимнее солнце. Глаза у девушки были тёмные, а щёки нежные, румяные.
– Ой, не надо, барин, – вырываясь и вскакивая с постели, застёгивая верхнюю пуговку под воротничком, вскрикнула Аглая. – Ехать Вам надо, барин, – она ладонями оправила платье. – Да за Вами присылали уже. Вы покуда завтракайте, а я об лошади побеспокоюсь.
Вскочив в седло, чтобы снова преодолеть 20 вёрст, полковник про себя отблагодарил девушку, и поклялся сразу прислать людей для защиты дома и ребёночка.
Аглая в чёрной расстёгнутой шубке распахивала ворота, и полковник хотел сказать ей что-нибудь на прощание, что-нибудь ласковое, но увидел вдруг в чёрно-белом месиве из земли и снега что-то блеснуло. Знакомый предмет, будто видение. Яркий блик под бьющим копытом лошади в свежем снегу. Предмет из другого мира, из прошлого, совершенно неуместный здесь и сейчас.
Пашкевич, натягивая поводья, наклонился, ощутил новый приступ головокружения, протянул руку. В снегу сверкала звезда. Такую же пятиугольную серебряную звезду с двумя скрещёнными змейками на центральном круге много лет назад он приколол к отвороту одного из своих костюмов. Тогда Генриха с позором изгнали из членов «Пятиугольника». Константин Эммануилович лично сорвал звезду с платья.
Полковник соскочил с лошади и поднял звезду, сжал её в кулаке. «По всей вероятности, знак был потерян одним из нападавших бандитов, – подумал он. – Но это совершенно не представимо. Меня выгнали за мелочь, меня, столько сделавшего для общества, вышвырнули как шелудивого пса. Лишили нагрудного знака только за то, что в течение двух недель я пятерых на дуэли зарезал. А здесь откровенные бандиты, злодеи. Нужно разобраться в этом».
Вскочив снова в седло, Генрих жестоко ударил шпорами в бока отдохнувшего за ночь скакуна, и полетел по зимней дороге, мысленно возвращаясь к случайно заколотой им молодой женщине. Он был поражён тем, что даже от мысленного прикосновения сердце забилось и защемило в груди. Генрих попытался представить себе её лицо и неожиданно увидел его, будто в бреду на фоне белого зимнего неба. Он готов был боготворить это лицо.
Глава 2
Мелькнули, как во сне, белый неподвижный лес, пустая дорога. Промёрзший и отупевший от головной боли, Генрих Пашкевич соскочил с лошади, бросил поводья подоспевшему слуге и вошёл в тот дом, откуда началось вчера всё это сумасшедшее приключение.
В гостиной его встретил хозяин усадьбы, Антон Михайлович Шморгин.
– Ну что, жива она? – насилу разжимая губы, спросил полковник.
Антон Михалыч кивнул и велел принести рюмку водки. Водку принесла та самая крепостная девчонка, что послужила причиной дуэли. Она же и оттирала шерстяными варежками закоченевшие руки Пашкевича. Полковник устроился в широком кресле, а девчонка стояла перед ним на коленях на полу, улыбалась, и быстрые детские ручки просто летали, возвращая подвижность окостеневшим на морозе пальцам.
– Жива барыня, – рассказывала взахлёб девушка, – представляете, мы думали мёртвого человека в санях перевезли. Соседа. А она, во-первых, вовсе не сосед, а соседка, женщина, а во-вторых, кормящая.
«Болтливая какая у Антона дворня, – разгибая пальцы и чувствуя, как согревает его изнутри выпитая водка, отметил Пашкевич. – Распустил совсем. Разве можно, чтобы прислуга столько болтала?»
Антон Михалыч находился тут же рядом, также раскинувшись в кресле. Он смачно сопел в седоватые огромные усы, и всё пытался дополнить рассказ девчушки, но сбивался, кашлял и загибал белый холёные пальцы.
– Так что цел наш кормящий дуэлянт, – остановив, наконец, девчонку, сказал Шморгин. – О таком счастливом воскрешении только мечтать можно. Ты его, Генрих, скажу честно, как француза без жалости колол. Так что Бога благодари, что уцелела Анна Владиславовна.
– Где она теперь?
– Наверху. Хочешь взглянуть на неё?
«Что это со мной? – подумал Генрих. – Зачем мне всё это? Нужно уезжать, нужно воротиться к себе в поместье. Вот сейчас же, сразу подняться и уезжать».
– Хочу, – сказал он, и сам не понимая собственных слов.
– Проводи полковника к раненой барышне.
Шморгин сделал знак девчонке, и та сразу, отпустив руки Пашкевича, вскочила на ноги.
– Пойдёмте, барин.
С замиранием сердца Генрих Пашкевич поднялся на второй этаж и вошёл в комнату, где лежала раненая Анна Владиславовна. Он замер на пороге. Огромный шёлковый балдахин накрывал тенью бледное женское лицо, только рука на свету.
– Простите меня, – с трудом проговорил полковник.
Никакого ответа, никакого движения.
– Без памяти она. Не нужно, – пояснил детский голос. – Без памяти.
Не в силах удержать себя, Генрих мягко оттолкнул девчонку, шагнул внутрь комнаты, встал на колени подле кровати. Он простоял так, совершенно неподвижно, несколько часов. Анна Владиславовна в течение этого времени несколько раз открывала глаза, но ни звука не сходило с её губ.
Никогда ещё с полковником не было ничего подобного. Опытный боевой офицер, гуляка, он давно уже перестал вести счёт погибшим от его шпаги на дуэлях. И уж тем более вообще не учитывал убитого в открытом бою неприятеля. Он давно уж выбросил, запутавшись, огромный свой донжуанский список, презирая женщин и не находя в них ничего кроме краткого удовольствия, возможного между очередной дракой и тёплой дружеской беседой за стаканчиком пунша и картами. И вот теперь, он, как безусый юнец, стоял неподвижно и на коленях возле женского ложа, и с замиранием сердца смотрел на бескровное лицо раненой. В любую минуту в спальню могли выйти.
«Позор. Я сошёл с ума, это наваждение, – думал он. – Наваждение. Нужно встряхнуться и встать».
Но Генрих Пашкевич не мог даже шевельнуться. Его будто сковало тяжёлым, но сладостным сном. Спустя большой промежуток времени он увидел, что глаза женщины открыты. Анна Владиславовна смотрела в потолок.
– Вы очнулись? – осторожно спросил Генрих.
Никакого ответа. Глаза сомкнулись и очень нескоро открылись вновь.
– Уйдите, – наконец, попросила женщина. – Прошу Вас, уйдите. Оставьте меня одну.
Ей пришлось приподнять голову и заглянуть в лицо полковника. Генрих поднялся и вышел на негнущихся ногах.
Анна Владиславовна услышала, как он медленно спускается по лестнице. По мере того, как удалялись его шаги, Анна ощущала всё возрастающую потребность вернуть этого человека, крикнуть, позвать и когда откроется дверь… С трудом она остановила в себе этот крик.
Анна Владиславовна лежала на постели с закрытыми глазами. С грустью она перебирала в памяти картину за картиной, припоминая события, происшедшие год назад. Воспоминания были на удивление ясными и яркими. Усадьба негодяя Бурсы, смерть Трипольского на Большой Новгородской дороге. Андрей остался там, выпрыгнув из саней, чтобы задержать преследователей. Она слышала выстрелы и хорошо представляла себе нрав негодяя Ивана Бурсы, чтобы оставались какие-то сомнения – Трипольского больше нет в живых. Он отдал свою жизнь за то, чтобы она смогла бежать.
Следующее воспоминание было немного размыто. Опасаясь за здоровье Аглаи, после многих дней, проведённых на стуле в оковах, девушка была совсем слаба. Они свернули с дороги и остались в маленьком провинциальном городке. Хорошо, сундук с платьями был в санях, нашлось во что переодеться.
Что произошло там Анна Владиславовна припомнить как следует не смогла. Был какой-то приём, какой-то гусарский полк. Краткое это воспоминание против логики смешивалось с иными, более ранними картинами. Оно было прощальным, оно было последним всплеском, мелькнувшей и оставшейся позади её светской жизни в Петербурге. Всё те же ломберные столы, шампанское, комплименты, какая-то глупая ссора, смех, музыка, горький запах трубок, дурманом наказывающий из курительной, танцы.
Зато с полной ясностью она восстановила разговор с обессиленной после пытки Аглаей. «Нельзя нам теперь в Петербург, – слабым голосом сказала она. – Нельзя, Анна Владиславовна.
– А куда же мы денемся?
– В наше родовое поместье поедем. Туда куда и Андрей ехать хотел. Я выросла в Трипольском, я там всё знаю. Сейчас оно пусто. Деревня дотла в позапрошлом годе сгорела. Дом пустой. Возьмёте бумаги Андрея, оденетесь мужчиной и спрячемся. А когда ребёночек родится, там и подумаем, как дальше быть».
Логики в предложении Аглаи не было почти никакой. Но представив себе, что ей придётся вернуться в дом на Конюшенной, Анна Владиславовна содрогнулась. Как смогла бы объяснить она своё бегство и тайное венчание? Как смогла бы она объяснить Константину Эммануиловичу, чей ребёнок созревает в её чреве?
Спустя неделю они добрались до усадьбы Трипольское. Здесь нашлось всё необходимое для жизни. Нашёлся даже большой книжный шкаф, полностью набитый французскими романами, столь любимыми Анной Владиславовной. А когда подошёл срок Анна родила. Принимала ребёнка сама Аглая. Окрестили мальчика Андреем. По настоянию Анны Аглая стала крёстной матерью ребёнка.
Каждый вечер, укачав младенца, Анна Владиславовна вставала на колени перед иконой и молилась о спасении души раба Божьего Андрея. То же самое в своей комнате в тот же час делала Аглая.
Теперь Анна простила Андрею Трипольскому смерть Василия. А простив, поняла, что вовсе не любила молодого офицера Измайловского полка Василия Макарова, также как никогда не любила рыжего лжеграфа Виктора. Первые месяцы до рождения ребёнка Анна часто плакала по ночам, но потом успокоилась, утвердившись в своём чувстве к уже не живущему человеку.
Воспоминания о том, что произошло дальше, вызвали в лежащей на постели раненой женщине приступ ярости. Она даже ударила кулаками по одеялу. В дом вошли трое: сам Иван Кузьмич, а вслед за ним пара вооружённых злодеев. Вошли без опаски, даже сабель из ножен не вынули. Оба наёмника были убиты в упор из пистолетов, а самого Ивана Кузьмича Анна с Аглаей зачем-то пощадили и заперли внизу в подвале. Кто сообщил негодяю о месте их проживания? Как узнал Иван Бурса о рождении ребёнка осталось загадкой. Но ещё большею загадкой для Анны стало – каким образом двум женщинам удалось справиться с тремя здоровыми мужиками.
«А что же потом? Что произошло потом? – вновь глядя в потолок, вспоминала Анна. – Потом я поехала за помощью – мы ожидали нападения. Потом дуэль, – сердце женщины сжалось так сильно, будто её опять ударили в грудь клинком. – Что же со мной произошло? Почему я хочу видеть этого незнакомого почти человека? Почему хочу услышать его голос? Когда он вошёл в комнату я почувствовала… Нет я почувствовала это раньше. Ничего не было ни во время пьянки, ни во время дуэли. Только когда его сабля вонзилась в мою грудь, что-то переменилось. Я готова была простить своему убийце всё. Я почувствовала кровь под одеждой. Он подошёл… он думал, что я без сознания. Он подошёл, испачкался моею кровью. Вот тогда, в тот момент… Это безумие! Я хочу, чтобы он опять вошёл, чтобы сел на край постели. Я хочу обнять и прижаться губами к его губам. Безумие! Нельзя, не нужно об этом думать».
Слуга, находившийся в другом конце коридора, услышал хриплый стон и через минуту вбежал в комнату раненой. Анна Владиславовна неподвижно лежала на постели. Она была без сознания.
Генрих спустился вниз и попросил ещё одну рюмку. Когда слуга подал рюмку на круглом подносе, полковник проглотил её залпом и поинтересовался куда делся его денщик. Хозяин усадьбы велел разыскать Харитона и привести.
– Ты уж ехать хочешь? – спросил он, раскуривая изысканную турецкую трубку. – Куда же спешить, Генрих, оставайся хотя бы на обед. Покушаем, а там на сытый желудок поедешь. Мороз сегодня лютует. Околеешь голодный-то. Посиди, согрейся ещё. Может, выпьем?
– Да не хочу я больше пить, – Пашкевич, устроившийся было в кресле, вскочил и стал ходить по зале. – Я не рассказал тебе, а надо было сразу немедля послать людей в усадьбу Трипольского, иначе младенцу и девчонке этой, Аглашке, не жить. Убьют их!
– Погоди, погоди, – мягко осадил его Шморгин. – Погоди. Я ничего не понимаю из твоих слов, Генрих. Присядь, закури трубку. Я знаю, ты большой любитель покурить. Расскажи мне всё по порядку, ты меня совсем запутал. Каких людей послать, кого убьют?
Чтобы присесть в кресло Пашкевичу пришлось сделать над собой усилие. Он присел, набил трубку, задымил, и по порядку, почти не сбиваясь, рассказал всё, что приключилось с ним за последние несколько часов. Рассказывая, он всё время почему-то прислушивался и был готов убежать наверх. Он желал подавить возрастающее с каждой секундой необычайно сильное чувство, вытесняющее из головы всё: и боль, и мороз, и страх. Неведомая до сих пор сила тянула Пашкевича только туда, наверх, в спальню. Он страстно желал вернуться и встать на колени, застыть подле постели умирающей, взять её за руку и, может быть, тоже умереть.
– Что с тобой, Генрих? – участливо спросил хозяин усадьбы. – Ты сбился. Ты про другое говорил, очнись, Генрих.
Глядя ему прямо в глаза и уже не в силах удержать огонь, сжигающий его изнутри, Генрих Пашкевич, почти против воли, проговорил:
– Я чуть не убил её. Ты понимаешь? Я не могу отойти от неё даже на шаг, – в глазах полковника был вопрос. – Так не бывает? – полковник опять поднялся из кресла и шагнул к лестнице. – Я пойду к ней, встану на колени, и буду там на коленях стоять, покуда она не простит меня.
– Ты погоди, – попросил Шморгин. – Конечно, поди, встань, – он с трудом удержал улыбку, – но давай сначала вопрос с младенчиком решим, ведь ему, как я понял, угрожает серьёзная опасность, да вот слуга твой, ты звал его, Генрих.
В дверях стоял денщик Пашкевича Харитон, наконец найденный слугами. Рука Генриха легла на перила лестницы, пальцы побелели от напряжения, но чуть не сломав тонкую деревянную планку, он всё-таки овладел собой.
– Конечно, – сказал он. – Следует сейчас же послать в усадьбу Трипольского людей, человек пятнадцать, не меньше. Нападение можно ждать в любую минуту. У тебя в доме найдутся человек пятнадцать из слуг, умеющих драться?
– Может, сами поедем? – спросил Шморгин. – Возьмём людей. Обращаться с оружием мои люди обучены, но кто ж ими управлять будет? Неужели ты, старый вояка, хочешь, чтобы солдаты без офицера сами?
– Харитон, – полковник повернулся к своему денщику, ожидающему в дверях. – Возьмёшь под команду 15 человек. Удержишь усадьбу, если надобность будет при нападении бандитов? Или вот что: ты возьми людей, поезжай и привези их сюда обеих, и девушку и младенчика. Понял?
Слуга, моргая смотрел на своего хозяина, рот приоткрылся от усилия, но понять сказанного денщик не мог. Это был первый случай за все годы службы, чтобы Харитон не понял смысла приказа.
– Никак нет, барин, не понял.
Дело исправил Шморгин. Он велел принести ещё водки, и в одну минуту объяснил слуге, что он теперь должен делать. Шморгин, проглотив рюмку, велел собрать здесь же в гостиной всех владеющих оружием слуг, не позже чем через полчаса. Проглотив ещё одну рюмку, Шморгин объявил, что, если Пашкевич не может поехать с отрядом, то он сам поедет. Не может же он поручить такое дело чужому денщику, а дело, судя по всему, серьёзное.
Шморгин был пьян и с трудом взобрался в седло. Генрих уже хотел остановить его, но Харитон, заметив беспокойство барина, шепнул:
– Всё в порядке будет, Ваше благородие. Всё сделаем. Сразу б толком объяснили, и вообще без него б управились.
Небольшой отряд скоро исчез за лесом. Генрих Пашкевич, побродив без толку по двору, замер, запрокинув голову, и, глядя прямо на солнце. Подставляя лицо летящему лёгкому снегу, он шептал:
– Я люблю Вас, Анна Владиславовна, люблю.
Вскоре, не в силах остудить нарастающий в груди жар, Пашкевич пошёл назад в дом, вбежал по лестнице и, оказавшись в маленькой спальне перед неподвижно лежащей на постели женщиной, опустился на колени и застыл. Он стоял как в карауле, абсолютно неподвижно, и был вознаграждён. Он сразу заметил, когда женщина на постели шевельнулась.
– Уйдите, – прошептала она, приходя в сознание. – Уйдите, прошу Вас, уйдите.
– Но почему?! – вскрикнул, будто от боли, Генрих. – Почему Вы гоните меня?
Плохо понимая что делает, он схватил узкую руку, запястье, одетое в белые шёлковые кружева, хотел поцеловать вздрогнувшую тёплую кисть, но почему-то испугался.
«Как я мог принять эту руку за руку мужчины?»
– За что Вы ненавидите меня?
– Вас? – удивилась Анна. – Мы же не знакомы почти. И, кроме того, не за честную ж дуэль я Вас должна ненавидеть.
Анна Владиславовна с трудом приподнялась на постели.
– Всё было по правилам, – добавила она. – А рука у меня крепкая.
Желая скрыть истинные чувства, неожиданно овладевшие ею, Анна задумчиво улыбнулась, разжигая в полковнике ещё большую страсть.
– Честная дуэль? – зашептал Генрих Пашкевич. – Честная дуэль? – Он припал губами к этой руке, он целовал руку со страстью, и Анна не отнимала её. – Честная дуэль?
– Пустите, мне больно, – наконец простонала она. – Я не знаю Вас. Но Вы, наверное, сам сатана. Вы спрашиваете, ненавижу ли я Вас, едва познакомившись, – она говорила уже как в бреду, не в силах больше удерживать себя. – Я не знаю, не знаю. Уйдите, я умоляю Вас. Со мной что-то случилось. Я не знаю что. Уйдите.
Полковник взялся за ручку двери.
– Стойте.
– Так чего же Вы просите? – спросил Генрих. – Чтобы я ушёл или чтобы я остался?
Женщина села на кровати.
– Стойте. Скажите что с моим ребёнком? Прошу Вас, сейчас же нужно собрать вооружённых людей и послать в усадьбу Трипольское. Прошу Вас, им грозит серьёзная опасность.
Полковник стоял подле двери и смотрел на молодую женщину. Теперь он уже, даже под страхом смерти, не смог бы отвести глаз.
– Я был там ночью, – сказал он. – Одну атаку отбили с Божьей помощью, а теперь Шморгин взял людей, поехал туда. Не стоит об этом беспокоиться – всё будет хорошо с вашим ребёночком.
В большие окна ворвался неподвижный белый зимний свет. Яркость эта оглушила полковника, и он сам не понял как, дал клятву вечной любви. Он отступил, но собрался с духом, опять приблизился и впервые поцеловал Анну в полуоткрытые губы.
Поздно ночью вернулся один из людей Шморгина. Он доложил, что девушка с ребёнком наотрез отказалась покинуть Трипольское, и потому барин устроил по всем правилам оборону усадьбы. Зная своего приятеля, Пашкевич допросил гонца и выяснил, что оставаться в Трипольском у Шморгина была ещё одна причина: в подвале обнаружился «Клоэт» 1786 года. А от этого напитка его уж никак было не оторвать.
Когда Анна Владиславовна всё же настояла, чтобы Генрих вышел, тот устроился под дверью на полу и вернулся в комнату по первому требованию.
– Вы звали меня? – спросил он.
– Да, – выдохнула Анна, поражённая его мгновенным появлением. – Но ни уж то Вы стояли подле двери всё то время, что я спала?
– Вы знали, что я стою подле двери, – сказал Генрих. – Вы знали, Анна Владиславовна, потому, что Вы любите меня, так же как я люблю Вас. Страсть, подобная моей, невозможна без взаимности. Это невероятно, но это так.
Несколько суток Генрих Пашкевич не отходил от раненой. Он сам менял на ней повязки, даже не подпуская служанок, сам обмывал тело мыльной губкой. С первой же минуты между этими двумя людьми не было ни капли ложного стыда. Когда Анна Владиславовна засыпала, Генрих засыпал у её ног. Когда она просыпалась, он мгновенно просыпался. Они много говорили друг с другом и говорить можно было о чём угодно. Каждое слово казалось невероятным, каждое прикосновение радовало и обжигало.
– Что с нами произошло? – на исходе третьего дня спрашивала Анна, и, так же как и все прочие дни, отвечая на этот вопрос, Пашкевич отрицательно качал головой. Он не мог понять, что произошло.
Через неделю Шморгин вернулся, и Генрих, по обоюдному согласию, перевёз раненую Анну в свою усадьбу за 15 вёрст. Туда же приехали вскоре и Аглая с мальчиком.
Анна и Генрих венчались через месяц, в начале января, когда Анна достаточно поправилась. Они оба просто не могли поступить иначе. Венчались они в маленькой деревенской церквушке. Здесь главенствовал бородатый пучеглазый поп. Черной птицей кружил он в свечном полумраке в кадильном синем тумане, звучным густым басом заполняя пространство храма.
– Венчается раб Божий Генрих рабе Божьей Анне… – тень от венца, который держали над головой Генриха, колыхалась по золочёному дереву царских врат.
Анна Владиславовна в белом подвенечном платье стояла неподвижно. Она была смертельно бледна в эти мгновения.
Что-то хрустнуло позади, и в самый торжественный момент громыхнул один раз колокол в неурочный час, не к месту и не ко времени.
– Кажется, пожар?!
– Нет.
«Следовало сказать, следовало сказать ему, – мелькнула в голове Анны. – Я должна была сказать ему, что я вдова, – от нового удара колокола сердце её замерло. – А если Виктор жив, если не запытал его до смерти проклятый Бурса, что же тогда – грех смертельный и ад?»
Как бы в ответ на её мысли, поп закашлялся, и это не ускользнуло от внимания полковника. С неподдельным страхом батюшка смотрел на невесту рука его, поднятая для благословения, на миг осеклась, но закончила движение.
После венчания уселись в сани и покатили по желанию невесты в Трипольское. Трипольское встретило новобрачных гулкой пустотой и пылью. Денщик полковника Харитон Ногтев ходил по дому, расставляя свечи, а Аглая возилась с ребёночком. Больше никаких слуг молодые с собой не взяли.
Незаметно за разговором и вином подкрался вечер, и наступила ночь. Ребёночек заснул, молодая мать поцеловала дитя в лоб, поднялась за мужем в спальню. Вошедший в комнату первым Генрих Пашкевич испытал неловкость и вместо того, чтобы раздеваясь говорить заранее приготовленные пылкие слова – ещё безусым юношей он готовил эти слова – он сел на табурет и, не спросив даже разрешения, закурил сигару.
Впервые за всё время их знакомства полковник испытал неловкость перед этой женщиной.
– Нам следует теперь объясниться, – мучая в руках кружевной платочек, наконец проговорила Анна. – Я не в состоянии разделить с Вами постель, пока Вы не узнаете всей правды.
«Под венец можно, а в постель, значит, нельзя», – подумал полковник, но вслух сказал:
– Я не тороплюсь, сударыня. Прошу Вас, присядьте в кресло и рассказывайте, хоть до утра. И в чём же правда?
– Я не сказала тебе, Генрих, – взволнованно начала Анна, – у меня был муж. Я думаю, что он умер, но, может быть, и не умер, а жив ещё. И оба мы теперь повинны в смертном грехе многомужества.
Анна Владиславовна не посмела присесть, говорила всё стоя. Рассказ свой она так издалека, что полковнику пришлось закрыть ещё одну сигару и ломать в пальцах лучинки. Две брошенные лучинки, легли крестом на полу.
– Мы много говорили друг с другом, но я почти ничего не рассказала тебе о своей жизни. Ты не спрашивал. Теперь ты должен всё узнать.
Генрих Пашкевич молчал. Пальцы его продолжали непроизвольно ломать одну за другой тонкие лучинки. В печи пылал огонь, и движущиеся тени подчёркивали бледность молодой женщины. Полковнику стоило немалых усилий не перебивать Анну, но он молчал.
– Я уже говорила Вам, Генрих, что рано потеряла родителей, и все заботы о моём воспитании взял на себя мой дядюшка по материнской линии Константин Эммануилович Бурса.
При упоминании имени опекуна полковник вздрогнул и сделал вид, что обжёгся сигарой. Ему стало понятно – это женщина, его супруга, приёмная дочь Бурсы. Наверняка она член «Общества». Так что серебряный пятиугольник, найденный во дворе, вполне объяснён.
– Он полностью заменил мне отца и мать, – продолжала Анна. – Может быть, он воспитывал меня как мальчика, но в этом нет никакого греха. Вы, наверное, уже заметили, что я одинаково хорошо владею как всеми женскими хитростями, так и шпагой. До четырнадцати лет я жила в усадьбе Константина Эммануиловича в Курской губернии. Потом, по какой-то причине, дядюшка уехал за границу и меня отправили к тётке в Москву. А потом Бурса пригласил меня жить к себе в Петербург.
Потом Анна впервые рассказала о том, как влюбилась в молодого дворянина Андрея Трипольского. Тот застрелил на дуэли другого поклонника девушки и произошёл разрыв. Тогда-то и появился в её жизни некий граф, прибывший из Франции и называвший себя Виктором Александровичем Алмазовым.
– И что же Виктор? – полковник отвернулся и посмотрел на снег, густо поваливший за окном. – Вы стали его женой, а потом его также убили на дуэли?
Каждое следующее слово, каждое определение давалось Анне с трудом и произносилось всё более и более глухим голосом.
– Видишь ли, Генрих, Виктор не был графом, – произнесла Анна, – он ввёл меня в заблуждение. Виктор – крепостной человек, принадлежащий моему второму дядюшке Ивану Кузьмичу Бурсе. Иван Бурса – законченный негодяй. Обман был спланирован и воплощён. Я стала женою Виктора и, таким образом, собственностью Ивана Бурсы.
– О, да! – не удержался от крика Пашкевич и, вскочив на ноги, прошёлся по комнате.
Он остановился лицом к стене и добавил едко:
– Значит, я сам, в каком-то смысле, повенчавшись с Вами, стал собственностью Ивана Кузьмича. Вот уж никогда не думал, что в крепостные попаду. Нельзя ли было немного раньше мне об этом рассказать?
– Я боялась, – Анна закрыла лицо руками.
– Чего Вы боялись? Что я откажусь венчаться с Вами? – Пашкевич повернулся, подошёл к ней, насильно отняв руки женщины от лица, заглянул в глаза. – А, может быть, я настолько люблю Вас, что и, зная правду, согласился бы.
– Я люблю Вас, – проговорила Анна, не скрывая больше слёз. – Это наваждение. Я не любила ни одного из них, теперь я поняла это. Всё, что было, было только игрой воображения, экзальтация чувств, но в тот момент, когда Ваша сабля, Генрих…
Осторожно платочком Пашкевич вытер щёки своей жены и сказал примирительно:
– Немножко позже. Я помню то мгновение, когда нас с Вами соединило проведение. Это произошло тогда, когда я дотронулся до вашей раны. Но скажите мне, как случилось, что довольно неглупая и волевая девица оказалась моментально и тайно повенчана с неким графом Виктором? Как, бросив свет, жениха, приёмного отца и свои привычки, оказалась вдали от Петербурга в объятиях злодея и не позвала на помощь? Я люблю Вас, Анна Владиславовна, я отдам за Вас жизнь, но скажите, этот Виктор он, надеюсь, мёртв?
– Я точно не знаю, – выдохнула Анна, отстраняя руки полковника. – Наверное, Иван Кузьмич Бурса убил его. Виктор пытался устроить мне и Аглаи побег. Нас поймали, и я своими глазами видела, как Бурса жёг лицо Виктора раскалёнными щипцами, взятыми из камина. Но могилы его я не видела. Так что очень может быть, я совершила тяжкий грех – я двоемужняя. Теперь Вы знаете всё. Теперь Вам решать судьбу мою.
Анна Владиславовна склонила голову и замолчала в ожидании того, что скажет Генрих. Пашкевич очень долго молчал, потом ударом сапога, растоптал лежащий на полу крест из двух лучинок, и тут же перекрестился на икону Богородицы, висящую в углу спальни.
– Ты жила с ним? – спросил Генрих и встал рядом с женой.
– Нет. Он привёз меня к себе в поместье, а это оказалось не его поместье.
Пашкевич очень осторожными бережными движениями стал расстёгивать на Анне платье.
– Тогда откуда ребёнок? – спросил он.
Очередной крючок не поддавался и колол настойчивые пальцы полковника.
– Меня изнасиловал Иван Бурса.
– Ты сопротивлялась?
Пашкевичу никак не удавалось пристегнуть до конца платье.
– Нет, я не сопротивлялась, – он ударил меня по голове, и когда я потеряла сознание…
Анна прервалась и не смогла больше говорить. Платье белым шлейфом стелилось по попу, когда полковник, подхватив на руки лёгкое женское тело, понёс его на постель.
– Вы что, не поняли меня? – выкрикнула Анна. – Вы не поняли? Вы женились на крепостной бабе!
– Понял, понял. Я люблю тебя, – прохрипел он, – а ребёночка я усыновлю. Андрей никогда не узнает, кто был его настоящим отцом.
– Не надо, я не могу. Не теперь.
Анна вырвалась и закрыла лицо подушкой.
– Кто бы ты ни была, я люблю тебя! – он хлопнул себя ладонью в грудь. – Если ты хочешь, мы эту ночь проведём с тобой в разных комнатах. Я понимаю, я согласен.








